Последние 300 лет западное общество находится в вихре перемен, который не только не стихает, но все больше набирает силу. Их влияние на индустриальные страны не имеет аналогов в истории человечества. Как следствие, в мире расплодились всевозможные виды любопытных социальных явлений — от психоделических церквей и «свободных университетов» до научных станций в Арктике и клубов обмена женами в Калифорнии.
Возникли дополнительные типажи: 12-летние дети с недетским характером, 50-летние взрослые, походящие на 12-летних детей. Богатые люди, разыгрывающие бедность, анархисты, являющиеся неистовыми конформистами, и конформисты, выступающие как ярые анархисты. Женатые священники, министры-атеисты, еврейские дзэн-буддисты и т.д.
Как объяснить новую обстановку, сложившуюся в современном мире? Ускорение темпа перемен глубоко вошло в нашу личную жизнь, заставило нас играть новые роли и поставило перед лицом новых опасностей. Все это можно описать термином «футурошок». Футурошок, или шок будущего, представляет собой ошеломляющую растерянность, вызванную преждевременным наступлением будущего.
|
|
|
Футурошок — временной феномен, продукт стремительного темпа перемен в обществе. Он возникает из-за наложения новой культуры на старую. Это — культурный шок в нашем собственном обществе, но с худшими последствиями, чем при столкновениях с иными культурами.
По существу сегодня мы переживаем вторую индустриальную революцию. По всей вероятности, происходящие события шире, глубже и важнее, чем первая индустриальная революция. Настоящий момент представляет собой второй великий раскол в человеческой истории, сравнимый по значимости только с первым расчленением исторической целостности — переходом от варварства к цивилизации.
Сэр Джордж Томпсон, английский физик, лауреат Нобелевской премии, в книге «Предвидение будущего» предполагает, что наиболее точный аналог сегодняшнего дня — не индустриальная революция, а «возникновение сельского хозяйства в неолите». Джон Диболд, американский эксперт по автоматизации, предупреждает, что «результаты технологической революции, во времена которой мы живем, будут намного глубже, чем любые социальные изменения, с которыми мы сталкивались раньше». Кеннет Болдинг, выдающийся экономист и общественный мыслитель, утверждает, что настоящее представляет собой поворотный момент в человеческой истории. Нынешнее
время — разделительная грань, которая проходит по центру человеческой истории.
Подобные суждения можно проиллюстрировать многочисленными примерами. Так, было замечено, что если последние 50 тысяч лет человеческого существования разделить на срок человеческой жизни, продолжительностью приблизительно 62 года, то всего было около 800 таких сроков. А из них 650 человек провел в пешерах. Только во время последних 70 сроков, благодаря письменности, стало возможным эффективное общение поколений. За последние шесть большинство людей увидело печатное слово. За четыре — человек научился измерять время, а за два — появился тот, кто использовал электрический мотор. И потрясающее количество материальных благ, которыми мы пользуемся сегодня, были созданы за последний, восьмисотый, срок жизни.
|
|
|
Именно последний срок обозначает резкий разрыв со всем прошлым опытом человека, потому что в течение него изменилось человеческое отношение к ресурсам. Это наиболее очевидно в сфере экономического развития. Всего за один срок человеческой жизни сельское хозяйство, основа цивилизации, в ряде стран утратило свое доминирующее положение. Сегодня в 12 развитых странах сельским хозяйством занимается менее 15% экономически активного населения, а в США — менее 6%.
Более того, если считать сельское хозяйство первой ступенью экономического развития, а индустриализацию — второй, то внезапно окажется, что мы достигли следующей, третьей стадии. Около 1965 г. в США возникла новая мощная тенденция, когда более 50% не занятой в сельском хозяйстве рабочей силы прекратило заниматься физическим трудом. В розничной торговле, администрации, образовании, сфере услуг и других отраслях представители умственного труда превысили число работников физического: впервые «белые воротнички» превосходят по численности «синие». Впервые в человеческой истории обществу удалось не только скинуть ярмо сельского хозяйства, но также за несколько десятилетий избавиться от ига физического труда. Родилась первая в мире структура обслуживания. Десять тысяч лет — сельское хозяйство. Одна-две тысячи — индустриализация. И вот прямо перед нами — постиндустриализм.
Естественно, эпохальные перевороты случались и раньше. Войны, чума, землетрясения, голод возмущали общественное спокойствие. Но эти потрясения и сдвиги не переходили границ одного или нескольких соседних государств. Сменились поколения, прошли века, и влияние этих событий распространилось за пределы государств. Сегодня все границы сметены. Сеть общественных связей настолько плотна, что современные события мгновенно отражаются во всем мире.
Раньше было иначе. Даже крупные события затрагивали небольшое количество людей. Пелопонесская война, к примеру, по сегодняшним меркам не более чем стычка. Пока Афины, Спарта и несколько соседних городов-государств сражались, остальное население земного шара и не подозревало о войне. Она не затронула ни индейцев, живущих в Мексике, ни древних японцев.
Биолог Джулиан Хаксли в ярких красках рассказывает о том, что темп эволюции за время истории человечества стал в сто тысяч раз быстрее, чем темпы развития в доисторический период. Изобретениям и усовершенство-
ваниям, которые зародились 50 тыс. лет назад, во время раннего палеолита, потребовались тысячелетия, чтобы прийти к завершению. С приходом устойчивой цивилизации скорость перемен сократилась до одного столетия. Ученый и писатель Ч.П. Сноу пишет, что до наступления нашего столетия социальные перемены были столь медленны, что практически были незаметны в жизни человека. Сегодня все изменилось. Темп перемен возрос настолько, что наше воображение уже не поспевает за ним. К примеру, в 1850 г. лишь в четырех городах на Земле население достигало одного миллиона. К 1900 г. их число возросло до 19. К 1960 г. — до 141, а сегодня прирост городского населения в мире подскочил до 6,5% в год. Эта ошеломляющая статистика означает увеличение городского населения вдвое через 11 лет. Еще более разительный пример: половина всей энергии, истраченной человечеством за прошедшие две тысячи лет, приходится на последние 100 лет.
|
|
|
Не менее драматическое событие — ускорение экономического роста в постиндустриальных странах. Во Франции за 29 лет между 1910 г. и началом Второй мировой войны уровень производства поднялся лишь на 5%, а за какие-то 17 лет, между 1948 и 1965 гг. — на 220%.
Эти цифры обозначают еще один революционный шаг — в развитых странах происходит двукратное увеличение производства товаров и услуг каждые 50 лет (соответственно сокращается время их производства). В любой стране по достижении человеком двадцатилетия его окружает в 2 раза больше новых предметов, нежели окружало его родителей. К 30 годам современный подросток столкнется со вторым удвоением. Возможно, за 70 лет человеческой жизни производство товаров увеличится в 10 раз. Это значит, что, если сложить все повышения от начала до конца жизни человека, то эта цифра составит 32 раза.
Несомненно, главной силой ускорения является технология. У нас это слово вызывает образы дымящихся заводских труб и лязгающих машин. Возможно, до сих пор классическим символом технологии остается сборочный конвейер Генри Форда, который был изобретен полвека назад и который был превращен Чарли Чаплином в фильме «Новые времена» в некоего социального монстра.
Однако технология — не только фабрики и заводы. Изобретение в средние века лошадиного хомута привело к глобальным изменениям в сельском хозяйстве и было таким же техническим усовершенствованием, как и недавнее изобретение печи Бессмера. Более того, технология включает техническое обеспечение и механизмы, различные способы получения химических элементов, разведения рыбы, посадки лесов, освещения театров, подсчета голосов, обучения истории и пр. Высокие технологии ушли далеко вперед от конвейерных линий и открытых печей. Электронную и космическую отрасли характеризуют тишина и чистота окружения.
|
|
|
Часто преувеличивают роль развития транспорта в ускорении перемен. Например, отмечают, что в VI тысячелетии до н.э. самым быстрым транспортом для путешествия на большие расстояния был караван верблюдов, который в среднем проходил 8 миль в час. Около 1600 г. до н.э. изобрели колесницу, максимальная скорость которой достигала 12 миль в час.
Подобное изобретение было очень важным. Прошло почти три с половиной тысячелетия, когда в 1784 г. в Англии появилась первая почтовая карета со средней скоростью 10 миль в час. Первый паровоз, представленный в
1825 г., мог набирать скорость лишь 13 миль в час, а большие корабли того времени с трудом достигали и половины этой скорости. Только в 1880-х гг. с помощью усовершенствованных паровозов человеку удалось развить скорость 100 миль в час.
Для того чтобы достичь подобных результатов, человечеству потребовались миллионы лет, а для того чтобы увеличить эти цифры вчетверо, потребовалось только 50 лет. Уже в 1938 г. человек оторвался от земли и преодолел планку скорости в 4000 миль в час, а через 20 лет — вдвое больше. В 1960-е гг. космические корабли вращались вокруг Земли со скоростью 18 тыс. миль в час. Если изобразить сказанное графически, то линия, показывающая прогресс за последнее поколение, взлетит круто вверх. Те же самые тенденции к ускорению мы наблюдаем в увеличении расстояния и высоты, разработке природных ресурсов и использовании энергии.
Технология создает новые возможности. Техническое развитие состоит из трех фаз, которые образуют замкнутый цикл. Первая — рождение и первичное осуществление идеи. Вторая — практическое выполнение. Третья — распространение в обществе. Процесс полностью завершен, когда распространение новой технологии генерирует новые творческие идеи. Сегодня становится очевидным, что время между фазами сокращается. Известно, что 90% ученых, существовавших на земле, живут в настоящее время, и научные открытия совершаются каждый день.
Главное отличие наших современников от предков заключается в колоссальном сокращении времени между созданием идеи и ее практическим воплощением. Аполлоний Пергский описал конус, но лишь через 2 тыс. лет это открытие стали использовать в инженерном деле. Понадобилось несколько столетий на то, чтобы открытие Парацельсом эфира для целей анестезии стало употребляться в медицине.
Еще в 1836 г. была изобретена машина, которая косила, молотила, вязала снопы и насыпала зерно в мешки. Она отражала технологию 20-летней давности. Тем не менее потребовалось столетие, чтобы в 1930 г. появился современный комбайн. Первый патент на пишущую машинку выдан в Англии в 1714 г., но только через 150 лет она приобрела коммерческое употребление. Столетие ушло на воплощение в жизнь открытия Николасом Аппертом способа консервирования пищи.
Ныне подобное промедление для человечества — непозволительная роскошь. Мы не только творчески продуктивнее наших предков, но материально богаче, технически более вооружены для того, чтобы существенно сократить период между двумя фазами инновационного цикла. Поскольку сегодня требуется меньше времени, чтобы довести идею до потребителя, ее распространение в обществе занимает меньше времени.
Согласно расчетам Роберта Б. Янга из Станфордского исследовательского института, промежуток времени между появлением первых электроприборов и пиком их популярности постоянно сокращается. Для пылесосов, электрических плит и холодильников, созданных в США до 1920 г., интервал между выпуском и пиком популярности составил 34 года. Для товаров, появившихся на рынке в 1939—1959 гг. (электрические сковородки, телевизоры и стиральные машины), он равнялся всего 8 годам. Запаздывание сократилось на 76%.
Каждое нововведение изменяет существующие технические приемы и технологии, стимулируя их новые комбинации, возможное количество которых растет в геометрической прогрессии, в то время как число новых машин и технологий — в арифметической. Яркий пример — производство компьютеров, новые модели которых появляются с постоянным ускорением и продуцируют изменение всего технопарка планеты.
Очень важно и то обстоятельство, что совершенствование техники влияет как на техническое, так и на социальное окружение человека. Новые изобретения часто выступают источником для новых социальных, философских и интеллектуальных решений. Тенологические инновации резко изменяют образ жизни и картину мира людей.
Часы появились вслед за тем, как Ньютон представил мир в виде гигантского часового механизма. Его философские суждения повлияли на интеллектуальное развитие человечества, которое уподобило пространство гигантским часам. После чего возникли идеи о причинно-следственных связях в природе и обществе. Часы изменили нашу концепцию времени: разделение суток на 24 равных промежутка по 60 минут в каждом преобразило наш образ и стиль жизни. Свое поведение и свои дела мы сверяем с ходом часовой стрелки и назначаем деловые встречи на определенный час.
Если технику и технологию считать движущим механизмом цивилизации, то знания можно уподобить топливу для него. По мере приближения к нашим дням этот двигатель требует и пожирает все больше топлива.
В действительности процесс накопления и последующей реализации научных знаний на практике напоминает спираль.
Изобретение письменности, растянувшееся на многие столетия, являло собой гигантский скачок вперед. Следующий шаг в увеличении наших знаний был сделан в XVI в. в связи с изобретением Гутенбергом книгопечатания. До 1500 г. в Европе издавалось не более 1 тыс. книг за год. А это означает, что для создания библиотеки в 100 тыс. томов потребуется целое столетие. Через 450 лет, т.е. в 1950 г., в Европе ежегодно выпускалось 120 тыс. книг. Объем времени сократился от столетия до 10 месяцев. Уже в 1960 г. этот период сократился до 7,5 месяцев. В середине 1960-х гг. мировое производство книг превысило 1 тыс. наименований в день. Но известно, что каждая новая книга — дополнительный источник знаний.
До Гутенберга было известно всего 11 химических элементов. Двенадцатый, сурьму, он обнаружил самостоятельно. При сохранении таких темпов нынешняя периодическая таблица элементов насчитывала бы не более 30—40 наименований. Вместо этого за 450 лет открыто 70 химических элементов, после 1900 г. открытия следовали с периодичностью раз в каждые три года.
Резко увеличился темп научных открытий: количество научных журналов и статей, как и промышленная продукция, удваиваются каждые 50 лет. Выпуск научной и технической литературы в мире вырос до 60 млн страниц в год. О природе человека в последние 2—3 десятилетия мы узнали больше, чем за всю предшествующую историю. Благодаря своей беспрецедентной способности к анализу, быстродействию и удобству в обработке информации компьютеры стали ныне главной силой ускорения процесса приобретения знаний.
В ускоряющемся мире сокращается время ответа на каждый раздражитель, а их суммарное число резко увеличивается. Следовательно, мир ус-
ложняется, а человеческая психика испытывает все большие нагрузки. Она не успевает привыкнуть к одному изменению, как требуется привыкание к другому.
Одновременно с усложнением структуры жизни увеличивается количество отведенных нам ролей и число необходимых выборов, что, в свою очередь, влечет за собой потерю ощущения сложности современного мира. Человек теряется перед этой сложностью. Чем больше событий мелькает перед глазами, тем меньше времени отводится на пристальное и спокойное наблюдение за каждым из них. Отсюда потеря ясности изображения. Предметы движутся быстрее и теряют четкие очертания.
Но чем выше ускорение жизненных перемен и больше этих перемен, тем труднее к ним приспособиться. В усложняющемся мире ситуации все меньше перестают походить друг на друга. Они становятся неповторимыми, уникальными, а следовательно, неожиданными и сложными для человеческого восприятия. Прежний жизненный опыт все реже приходит на помощь. И это еще один фактор, снижающий способность к адаптации. Повышение скорости перемен заставило нас справляться не просто с более быстрым потоком, но и со все большим количеством ситуаций, которые не знакомы нам по личному опыту. С другой стороны, известно, что если окружающие вещи начинают изменяться, то скоро наступят перемены и внутри человека, в его психике.
Чтобы пережить то, что мы называем футурошоком, человек должен постоянно развивать свои способности к адаптации. Нужно найти совершенно новые способы зацепиться за убегающую действительность, поскольку старые устои общества и человека в нем — религия, национальность, семья и профессия — серьезно подорваны пронесшимся вихрем перемен.
Сегодня принято считать, что темп жизни глубоко влияет на поведение, вызывая сильные и противоречивые реакции у различных людей. Он проводит между нами незримую черту, разделяя людей на отцов и детей — два поколения, живущих в разных временных измерениях.
Темп социальных перемен разделяет не только поколения, но и целые народы. На нашей планете до сих пор обитают крошечные группы людей, промышляющих, как и много тысячелетий назад, охотой и собирательством. Другие народы, составляющие большую часть человечества, целиком зависят от успехов в сельском хозяйстве. Их жизнь во многом похожа на жизнь их предков столетия назад. Вместе эти категории составляют до 70% землян. Они — люди прошлого.
Меньшая часть, около 25% населения Земли, обитает в промышленных центрах. Они ведут современный образ жизни. Они находятся как бы в первой половине XX в., когда сохранялись пережитки традиционного прошлого, лишь отчасти затронутого индустриальным сегодня. Они — люди настоящего. Оставшиеся 2—3% людей проживают в постиндустриальном завтра. Они сконцентрированы в гиганских мегаполисах Калифорнии, Массачусетса, Нью-Йорка, Лондона, Токио и др. Они — авангард человечества, пионеры мирового постиндустриального общества, которое только нарождается.
Они богаче, лучше образованны и мобильнее большинства землян. И живут они дольше. Но специфическим отличием людей будущего является ускоренный темп жизни. Они живут быстрее окружающих.
Для многих психологически привлекательно именно ускорение. Они чувствуют даже беспокойство, раздражение и дискомфорт при замедлении рит-
ма жизни и отчаянно стремятся быть в гуще событий. Джеймс А. Уилсон обнаружил, что желание ускорить темп жизни явилось одной из скрытых причин так называемой «утечки мозгов»: массовой эмиграции европейских ученых в США и Канаду. Опросив 517 английских ученых и инженеров, Уилсон пришел к выводу, что их привлекли не только более высокие оклады и исследовательские возможности, но и более быстрый темп жизни. Ускорение темпа жизни манит людей переселяться из села в город и развивает потребность в постоянных путешествиях.
Однако у значительной части людей вызывает своего рода головокружение и тошноту. Постоянное мелькание их утомляет. Они предпочитают передвигаться с собственной скоростью. Не случайно мюзикл «Остановите Землю — я сойду!» имел такой грандиозный успех. Презрение к ценностям технологической цивилизации открыто выражают хиппи. Они описывают общество как «расу крыс» — название, которое имеет непосредственное отношение к спешке и суете.
Психологически для пожилых время летит быстрее, но именно они и боятся больше других перемен и ускорения. Напротив, для молодых время тянется медленно, они более активны и, самое удивительное, стремятся к еще большему ускорению.
Когда 50-летний отец предлагает 15-летнему сыну подождать пару лет до того, как он сможет приобрести собственную машину, интервал в 730 дней составляет около 4% от прожитой жизни отца и около 13% от жизни мальчика. Неудивительно, что для подростка ожидание будет в 3 или 4 раза дольше, чем для отца. Два часа жизни 4-летней девочки равноценны 12 часам жизни ее 25-летней матери. Сказать ребенку, чтобы он подождал конфету пару часов, все равно что попросить мать обождать 14 часов чашечку кофе.
У субъективного восприятия времени есть вполне объективные причины. Джон Коэн, психолог из Манчестерского университета, пишет: «По мере взросления нам кажется, что календарный год постепенно сокращается. Оглядываясь назад, человек считает, что каждый следующий год короче предыдущего, а это, возможно, является результатом постепенного замедления процессов обмена веществ». По отношению к своим, все более затухающим, биоритмам пожилым людям кажется, что мир движется быстрее. Выпав из общественной жизни, они погружаются в собственный мир, обрывая все возможные контакты с быстро меняющимся миром, становясь одинокими и замкнутыми.
Конфликт между поколениями, мужьями и женами, родителями и детьми имеет свои корни в различном отношении к ускорению темпа жизни. То же относится и к столкновению культур. У каждой культуры свой, присущий только ей темп жизни. Когда немецы перед Второй мировой войной помогали строить в Иране железную дорогу, они столкнулись с этим феноменом. У иранцев и жителей Ближнего Востока отношение ко времени намного спокойнее, чем у американцев и европейцев. Когда бригада иранских рабочих появилась на работе с десятиминутным опозданием, немцы, чрезвычайно пунктуальные и вечно спешащие, немедленно их уволили. Иранским инженерам с большим трудом удалось убедить немецких коллег в том, что, по понятиям жителей Ближнего Востока, рабочие превзошли самих себя в пунктуальности, а если увольнения будут продолжаться, то придется нанимать только женщин и детей.
Безразличие ко времени должно сводить с ума тех, у кого на счету каждая минута. Так, жители Милана и Турина, индустриальных городов севера Италии, с пренебрежением относятся к медлительным сицилийцам, жизнь которых зависит от земледелия. Шведы из Стокгольма и Гётеборга так же относятся к лапландцам. Американцы посмеиваются над мексиканцами, для которых тапапа (завтра) означает «довольно скоро». Да и в самих Штатах южане кажутся северянам медлительными, а негры из среднего класса признают негров-рабочих непригодными для работы в СРТ (Coloured People's Time). В сравнении с остальными жителями Земли белые американцы считаются энергичными, быстрыми и предприимчивыми людьми.
Новые технологии, составляющие базу постиндустриального общества, большинство которых разрабатывается в американских наукоградах, влекут за собой неизбежное ускорение перемен в других обществах, где они внедряются. Нередко даже европейцы считают вторжение чужих технологий и образа жизни навязанной им сверху «американизацией». Так, появление в Париже американского типа аптек французам явилось свидетельством зловещего «культурного империализма». Жертвами «культуры быстрого обслуживания» стали уже 30 тыс. французских бистро.
Чувство интервалов времени и темпа событий воспитывается в детях родителями. Детские знания о продолжительности событий и правильном интервале времени закладывается в привычку на уровне подсознания. Не имея богатого репертуара временных интервалов, человек не в состоянии успешно функционировать в обществе.
Ребенок быстро усваивает, что на прием пищи уходит не одна минута или пять часов, а обычно от 15 минут до часа. Он знает, что поход в кино займет от 2 до 4 часов, а к врачу — редко больше часа; что обычный школьный день длится 6 часов. Он знает, что отношения с преподавателем продолжаются в течение всего учебного года, а с бабушкой и дедом — всю жизнь. Поведение взрослых уже целиком подчинено временным интервалам.
Именно этот внутренний календарь, различный для каждого общества, но усвоенный в раннем детстве, подвергается сегодня коренным изменениям. При этом одни страдают от ускорения темпа жизни, а другие процветают. Если человек не приведет в порядок свое собственное представление о времени, учитывая привнесенные современностью коррективы, он, вероятно, будет полагать, что две ситуации, схожие по внешним чертам, одинаковы и по продолжительности.
Индивид, усвоивший принцип ускорения каждой клеточкой своего организма, глубоко прочувствовавший, что мир крутится быстрее, автоматически делает поправку на сокращение времени. Предвидя, что одни действия займут меньше времени, а другие — больше, он не испытывает психологического шока и не бывает застигнут врасплох в отличие от человека, который не наделен такой способностью.
Нынешнему, весьма динамичному обществу, в отличие от традиционного статичного, присуща так называемая быстротечность. Она влечет за собой чувство непостоянства, «преходяшести» всего сущего, его неустойчивости. Философы и теологи давно осознали недолговечность человека. Ускорение времени, его сжатие вызывает почти осязаемое чувство того, что мы живем, потеряв уверенность и опору, среди зыбучих песков.
Быстротечность можно определить продолжительностью межличностных контактов, которая существенно сократилась по сравнению с прошлым, их меньшей глубиной и возросшим числом. Даже оборот товаров в современных магазинах резко увеличился. В этом смысле можно говорить об «обороте человеческих взаимоотношений». На смену долговечным отношениям приходят недолговечные. Сегодня люди живут на повышенных скоростях, в условиях сокращения продолжительности отношений; смена связей происходит намного стремительнее. Предметы быстрее проходят через жизнь человека. Сокращается средняя продолжительность отношений с ними. Результат — текучесть, мобильность и быстротечность вещей.
Однако в текучке буден снижается чувство отвественности человека, уменьшается его способность сопротивляться. Быстрый оборот людей и вещей наряду с ускоряющимся обновлением жизни вызывает опасность футу-рошока.
Окружающий нас мир вещей — от куклы Барби до персонального компьютера — не только постоянно расширяется, но и постоянно, и с возрастающей скоростью обновляется. В результате наши отношения с вещами становятся все более временными, случайными. К сожалению, наше отношение к вещам отражает нашу систему ценностей. Мы легко расстаемся не только со старыми игрушками ради новых, но и с устоявшимися правилами и идеалами.
С рождением ребенка люди входят в мир одноразовой культуры: одноразовые подгузники и одноразовые шприцы, быстрорастворимые супы, подаваемые в одноразовой пластиковой посуде.
Идея однократного или краткосрочного использования предмета и последующая его замена возвращает нас к далекому наследию нищеты. Не так давно Уриэль Рон, консультант французского рекламного агентства Publicis, сказал мне: «Французские домохозяйки не привыкли выкидывать вещи. Они с любовью хранят старые предметы, предпочитая не выбрасывать их. Когда компания предложила им пластиковые одноразовые занавески, новую продукцию с негодованием отвергли».
В 1950-е гг. Швеция поражала туристов своей чистотой: на обочинах дорог не валялись пивные и лимонадные бутылки. Но в 1960-е гг. бутылки заполонили шведские дороги. Вслед за Америкой Швеция вступила в эру «одноразовой» культуры. Сегодня в Японии бумажные салфетки стали настолько универсальными, что матерчатые платки считаются немодными и, конечно же, негигиеничными. Даже во Франции одноразовые зажигалки — обычная вещь. Журналы мод рекламируют роскошные наряды из бумаги. К одному из свадебных платьев приторочен длинный белый шлейф из «ажурной» бумаги, а надпись под фотографией предлагает после свадебной церемонии сделать из него «прекрасные кухонные занавески». Бумажный бизнес превратился в бумажный бум. Покупка новой вещи обходится потребителю теперь дешевле оплаты услуг прачечной.
К сожалению, у нас формируется склад ума, соответствующий одноразовой продукции. Новый менталитет основан на быстрой смене впечатлений, друзей и ценностей. К избавлению от старых вещей также добавляется избавление от старых друзей. Вместо того чтобы надолго привязаться к одному предмету, мы на короткие промежутки связываемся с целым рядом сменяющихся вещей.
Уму непостижимо, с какой быстротой мы разрушаем улицы и города и возводим новые. Здания в Нью-Йорке появляются буквально за ночь, а город способен полностью обновить свой облик в течение года. На смену вечным во времени пещерам пришли столетние прадедовские дома, а затем быстро разваливающиеся современные постройки.
«Исчезающее прошлое» — реальный феномен, который получает все большее распространение, поглощая исторические центры Европы и Америки. Писатель Луи Очинклосс сердито жаловался на то, что «ужас жизни в Нью-Йорке — это ужас проживания в городе без истории... Восемь поколений моих предков жили в этом городе... и только один из домов, где они обитали, стоит до сих пор». Улицы современных городов напоминают стройплощадку: в них постоянно что-то перекапывается, эвакуируется, расширяется, переносится, ремонтируется. Этот процесс сродни круговороту зерна на ферме — вспашка, посев, сбор урожая, опять вспашка, посев других злаков...
В прошлом стабильность служила своеобразным идеалом. Касалось ли это пары ботинок ручной работы или возведения собора, творческая энергия человека была направлена на увеличение продолжительности срока службы вещей. Человекстроил на века. Пока общество оставалось неизменным, каждый предмет имел четко определенные функции, а экономическая логика диктовала политику стабильности. Даже если приходилось время от времени ремонтировать ботинки за 50 долл., служившие 10 лет, они все же были дешевле тех, которые стоили 10 долл. и служили 1 год.
Однако развитие технологии сокращало стоимость производства гораздо быстрее, чем падала стоимость ремонтных работ. Теперь дешевле заменить вещь, нежели починить ее. Экономически разумнее создать дешевый, одноразовый предмет, хотя он прослужит не очень долго. Темп перемен в обществе резко возрос, экономику стабильности заменила экономикой инноваций.
Поскольку каждое следующее поколение техники лучше и совершеннее предыдущего, людям стало выгодно быстро менять вещи. Физический износ продукции наступал позже морального. Все больше улучшений происходит за короткие интервалы, в экономическом смысле выгоднее строить на короткие сроки, чем на долгие. Улучшение кондиционирования воздуха в современных зданиях уменьшает рентабельность уже «устаревших» домов; стало дешевле разрушить десятилетнее строение, чем модифицировать его.
Достижением современной технологии явились шариковая ручка и авторучка. Изначально гусиное перо в качестве пишущего предмета было долгожителем. Время от времени его чинили и чистили, тем самым продлевая срок службы. Авторучка дает потребителю свободу передвижения. Она представляет собой орудие для письма с собственной чернильницей. Изобретение шариковой ручки еще больше закрепило это достижение. К прочим ее достоинствам можно добавить еще одно — дешевизну. Вы можете просто выкинуть ручку после того, как закончатся чернила. Так появилась первая одноразовая ручка.
Выражением быстротечности является аренда. Ее распространение является характерной чертой постиндустриального общества, стремящегося к постиндустриализму. Во время Великой депрессии, когда миллионы оказались без работы и жилья, стремление обрести собственный дом стало мощной движущей силой капиталистического общества. В США уже после Вто-
рой мировой войны возрос процент строящихся домов, предназначенных для аренды. Еше в 1955 г. для квартир внаем было предназначено только 8% новых построек. К 1961 г. их количество достигло 24%. В 1969 г., впервые в США, большинство зданий было построено под квартиры, а не под частные дома. Жизнь в квартирах, по разным причинам,— просто существование. Что касается молодежи, то она, по словам профессора Бергмана Келли, хочет получить «жилье с наименьшими затратами». Минимум затрат — это как раз то, что потребитель одноразовой продукции получает за свои деньги. Обязательства по отношению к квартирам должны, по определению, быть более кратковременными, чем обязательства домовладельца по отношению к своему дому. Склонность к аренде жилья подчеркивает общую тенденцию сокращения временных отношений с вещами.
Автомобильная индустрия первой преуспела в разрушении традиционного мнения, что крупные приобретения делаются на всю жизнь. Ежегодный выпуск новых моделей, мощная реклама, поддерживаемая готовностью компаний дать кредит, делают покупку новой (или новой подержанной) машины достаточно частым событием в жизни среднего американца. В результате интервал между покупками уменьшается, одновременно сокращая продолжительность отношений хозяина и его средства передвижения. Средний американец владеет одной машиной не более трех с половиной лет, а люди с достатком меняют автомобили каждые год или два.
В последние годы получила распространение аренда машин. Сегодня в США миллионы автомобилистов время от времени арендуют машины на срок от нескольких часов до нескольких месяцев. Многие жители крупных городов, особенно Нью-Йорка, где парковка — просто кошмар, отказываются от своих машин, предпочитая брать их напрокат. В США машину можно с минимальными затратами арендовать почти везде: в аэропорту, на вокзале, в гостинице. Через руки среднего американца за его жизнь проходит от 20 до 50 арендованных или собственных машин.
Более того, американцы перевезли привычку арендовать автомобили и за границу. Каждый год около полумиллиона из них, находясь в других странах, берут машины напрокат. Параллельно с увеличением автоаренды в США появился новый тип магазинов, где ничего нельзя купить, но все можно взять напрокат. Сегодня в США насчитывается порядка 9 тыс. таких магазинов с годовым оборотом аренды около 1 млрд долл., и их прирост составляет от 10до20%вгод.
Идея аренды получила широкое распространение. Магазины предлагают живые растения напрокат. В Филадельфии можно взять напрокат рубашку. А где-то еще американцы могут взять в аренду все, вплоть до платьев, костылей, драгоценностей, телевизоров, стиральных машин, туристического снаряжения, кондиционеров, инвалидных кресел, столов, стульев, постельного белья, магнитофонов, бокалов для шампанского и столового серебра. Одним из наиболее заметных аспектов арендного бума стало увеличение проката мебели. Некоторые фабрики и многие арендные фирмы не больше чем за 20—50 долл. в месяц обставят полностью небольшую квартиру вплоть до занавесей, ковриков и пепельниц.
Рост арендной деятельности — это шаг в сторону от жизни, основанной на собственности. Если люди будущего живут быстрее, чем люди прошлого, то они должны намного лучше приспосабливаться. Нагруженные вещами,
они не смогут сделать ни шагу. Чтобы выжить в непостоянном мире быстрых перемен, люди должны научиться путешествовать налегке. Распространяясь все шире, аренда постоянно сокращает продолжительность отношений человека и вещей. Результатами аренды являются увеличение числа людей, успешно контактирующих с одними и теми же предметами, и сокращение средней продолжительности таких отношений.
«Одноразовая культура» породила новое понятие — «устаревание». Очень важным является понятие «устаревание». Из страха, что товар устареет, предприниматель идет на нововведения. Это же принуждает потребителя пользоваться арендованными или одноразовыми вещами. Людей, воспитанных на идеале постоянства, беспокоит сама идея устаревания, особенно если оно запланировано. Некоторые предприниматели намеренно сокращают срок действия своих товаров, чтобы в будущем обеспечить их продажу. Покупатель попадает в тщательно расставленный капкан — смерть старой вещи была надуманно ускорена ее производителем.
Устаревание принимает две формы — незапланированное и запланированное. Первое бывает трех видов: функциональное, моральное и потребительское. Первый вид связан с нарушением функций: когда изделие буквально разрушается и больше не может выполнять свои функции — подшипники стираются, ткани снашиваются, трубы ржавеют. Второй — когда появляются новые товары, выполняющие эти функции лучше: новые антибиотики лечат гораздо эффективнее старых. Третий вид — когда меняются нужды потребителя и сами функции, выполняемые продуктом.
Подобно тому, как у одной вещи множество функций, у человека много потребностей. Чем общество примитивнее, тем меньше потребностей и они проще. И наоборот. Когда материальное положение общества или индивида улучшается, потребности приобретают более индивидуальный характер. К тому же они быстрее меняются: чем быстрее меняется общество, тем более крат-ковременны потребности.
Устаревают не только вещи, но и человеческие знания. В Вестингхаусе полагают, что так называемый «срок жизни» дипломированного инженера составляет всего десять лет. Это означает, что добрая половина всех его знаний устареет за одну декаду.
Арендные отношения охватывают не только сферу обслуживания и жилье, но и труд. Появилась огромная прослойки временных работников. В США почти каждый сотый работник нанимается ненадолго на временную работу. Их нанимают (арендуют через специальные агентства) для срочной работы в типографиях, больницах, на заводах. Около 500 агентств обеспечивают промышленность приблизительно 750 тыс. временных работников, от секретарей и диспетчеров до инженеров оборонительных сооружений. Одно такое «бюро проката», Arthur Treacher Service System, призывало взять напрокат горничных, шоферов, мясников, поваров, водопроводчиков, нянь, медицинских сестер, разнорабочих, электромонтажников.
Наем временных служащих для временной работы напоминает аренду материальных предметов, которая распространена по всему индустриальному миру. В 1956 г. Manpower, Incorporated, крупнейшее агентство временной рабочей силы, открыло отделение во Франции. Количество таких агентств удваивалось каждый год, на настоящий момент их стало 250.
На временную работу люди соглашаются по самым разным причинам. Рассказывает Ноук Хаггет, инженер-электромеханик: «Любая работа захватывает меня, если она напряженная и интересная. В таких условиях я работаю лучше». За 8 лет он работал в 11 различных компаниях, знакомясь и расставаясь с сотнями сотрудников.
Для квалифицированного персонала сознательные переходы с одного места на другое дают больше гарантий занятости, чем труд на одном предприятии в непостоянной индустрии. В оборонной промышленности внезапные назначения и отставки высшего звена руководителей являются обычной вещью. «Постоянный» работодатель, вероятно, окажется на улице без особых предупреждений, а временный инженер просто перейдет надругую должность после завершения своего проекта.
Большинство временных работников — сами себе хозяева. Они могут трудиться тогда, когда захотят. Для многих это сознательный способ расширить круг общественных контактов. Молодая мать, которая была вынуждена переехать в другой город из-за перевода ее мужа на новую работу, чувствовала себя очень одинокой в те часы, когда дети были в школе. Она подписала контракт со службой временной работы и с тех пор работала 8—9 месяцев в году. Переходя из одной компании в другую, она наладила контакты с огромным количеством людей, среди которых смогла найти несколько друзей.
Таким образом, мы являемся свидетелями своего рода арендной революции в разных сферах жизни современного общества.
Для общества высоких технологий ежедневные проездки, путешествия и постоянная перемена места жительства стали второй натурой. Образно говоря, мы избавляемся от постоянных мест жительства и мете работы подобно тому, как выкидываем одноразовые тарелки. Мы стали свидетелями исторического процесса разрушения значения места в жизни человека. Мы воспитываем новую расу кочевников, которая мигрирует с места на место. Географическая мобильность, начавшаяся в США после Второй мировой войны, стала уже привычным явлением высокоурбанизированного общества.
В 1914 г., по словам Бакминстера Фуллера, среднее расстояние, которое преодолевал обычный американец за год, составляло 1640 миль, включая 1300 миль каждодневных прогулок. Иными словами, на транспорте американец проделывал путь длиной в 340 миль за год, а за жизнь (если считать, что тогда в среднем он жил 54 года) — 88 560 миль. Сегодня владелец авто проезжает 10 тыс. миль в год и живет дольше своих предков, следовательно за всю жизнь ему приходится перемещаться на расстояние в 3 млн миль. Только в 1967 г. 108 млн американцев совершили 36 млн поездок с ночевками далее чем за 100 миль от дома. Только эти маршруты насчитывают 312 млрд миль. Если не принимать в расчет целую флотилию реактивных самолетов, автомобилей, поездов, грузовиков, поездов метро и др., то наш вклад в мобильность потрясает своими размерами. На протяжении вот уже 20 лет ежедневно в Америке появляется 200 миль заасфальтированных дорог и улиц. Добавьте к ним 75 тыс. миль новых автотрасс, и этого будет достаточно, чтобы три раза обогнуть земной шар. За тот же период население США выросло на 38,5%, а протяженность дорог и улиц увеличилась на 100%. Таким образом, количество, которые проехали люди, возросло в 6 раз больше, чем население США. Наряду с растущим количеством повседневных передвижений в пространстве от дома до других объектов увеличивается число деловых по-
ездок и путешествий с ночевками вне дома. Каждый год Америка принимает 1 млн человек, в то время как 4 млн американцев совершают путешествие за океан. Публицист из «Фигаро» отзывался об этом процессе как о «гигантском человеческом обмене».
Перемещения людей по земле и под землей — характерная черта постиндустриального общества в сравнении с доиндустриальным, которое кажется застывшим. Специалист по транспортным проблемам Уилфрея Оуэн говорит о провале между иммобильными и мобильными государствами. Он отмечает, что страны Латинской Америки, Азии и Африки должны проложить еще 40 млн миль дорог, чтобы достичь уровня развитых стран. Этот контраст влечет за собой глубокие экономические и культурные последствия.
Всего за год 36,6 млн американцев меняют место жительства. Это больше, чем все население таких стран, как Кампучия, Гана, Гватемала, Гондурас, Ирак, Израиль, Монголия, Никарагуа и Тунис вместе взятые. Каждый пятый американец раз в год меняет адрес, прихватив с собой жену, детей и кое-что из вещей, чтобы начать новую жизнь. По сравнению с этим даже нашествие татаро-монгольской орды покажется малозначительным событием. Ситуация в Англии незначительно отличается от американской. Современники переезжают из своих домов намного чаще, чем это делали их родители.
Во Франции дефицитом жилья отчасти объясняется низкий уровень мобильности: только 8—9% ежегодно французов меняют место жительства. Социолог Моника Вио из министерства социального обеспечения Франции говорит: «Французы очень привязаны к месту. Даже если их работа находится всего за 30—40 километров, они отчаянно сопротивляются переезду».
Многие тысячи безработных из Алжира, Испании, Португалии, Югославии и Турции приезжают в Европу. Каждую пятницу тысяча турецких рабочих в Стамбуле штурмует поезд, идущий на север. В Мюнхене даже издается газета на турецком языке. В Кельне на огромном заводе Форда четверть рабочих — турки. Потоки мигрантов покоряют Швейцарию, Англию, Францию, Данию, доходят даже до Швеции.
Между американскими и европейскими мигрантами отмечаются заметные различия. В Европе миграция — показатель перехода от доиндустриаль-ного к индустриальному обществу. В Америке главной причиной миграции становится распространение автоматизации, а посему она — признак перехода от индустриального к постиндустриальному обществу.
В одном случае частая смена места жительства — характерная черта технологически отсталых и неразвитых групп населения, в другом — показатель присущей среднему классу высокой мобильности. Статистика свидетельствует, что люди, получившие образование в колледже, переезжают гораздо чаше и дальше. Люди с высшим техническим или профессиональным образованием — одни из самых мобильных в Америке. Другой группой, для которой характерны частые миграции, являются административные работники. (Среди служащих IBM ходит шутка, что название фирмы означает «Я переехал» — «/ Have Been Moved»). В постиндустриальном обществе именно ученые, инженеры и администрация — основная рабочая сила. Они, как и рабочие хлопчатобумажных заводов прошлого, символизируют свою эпоху.
Рабочие дольше налаживают связи и неохотно разрывают отношения. Не удивительно, что это находит отражение в сильном сопротивлении сме-
не местожительства или работы. Они редко меняют профессию или место работы. Если для большинства рабочих семей перемена места жительства — всего лишь вынужденная мера, результат безработицы и других лишений, то для среднего и высшего класса переезд связан с дальнейшим улучшением жизни.
В то время как миллионы нищих и безработных крестьян перемешаются внутри страны, тысячи ученых и инженеров уезжают в другие страны — прежде всего в США и Канаду. В Европе министерские чиновники беспомощно взирают на то, как ведущие американские корпорации засылают «охотников за головами» в Лондон или Стокгольм, переманивая талантливую молодежь. Но и в США происходит «утечка мозгов», когда тысячи ученых беспорядочно перемещаются с места на место. Наметились хорошо организованные маршруты — один с Севера, другой с Юга. Они идут в Калифорнию и другие штаты Тихоокеанского побережья, с промежуточным пунктом в Денвере. Центром притяжения выступает космическая и электронная промышленность.
Наиболее мобильны менеджеры. В журнале Wall Street Journal в статье под названием «Как семья руководителя приспосабливается к постоянным переездам по стране» рассказывается о «цыганских корпорациях». Она описывает жизнь М.Е. Якобсона, директора сети магазинов Mongomery Ward. Почти в 50-летнем возрасте он и его жена (в течение 26 лет совместной жизни) сменили 28 домов. «Я чувствую, будто моя жизнь прошла в дороге», — говорит гостям его жена. Тысячи похожих на них людей переезжают по крайней мере раз в два года, и их количество постоянно растет. Это происходит не только потому, что потребности корпораций постоянно расширяются, но также и потому, что высшее руководство считает частые переезды своих потенциальных преемников необходимым звеном в обучении. Меняя дом за домом, административные работники напоминают шахматные фигуры в человеческий рост на доске размером с континент.
«Я больше не занимаюсь ремонтом и украшением дома, — жалуется жена одного военного, которым тоже приходится часто перезжать. — Занавески из старого дома никогда не подойдут в новом, а ковер всегда не того цвета или размера. С сегодняшнего дня я занимаюсь только своей машиной».
У высокой мобильности есть оборотная сторона. Почты тратят бесчисленное количество денег, чтобы содержать в порядке телефонные книги. Организации испытывают трудности при определении местонахождения своих представителей. Смена дома, даже при самых благоприятных обстоятельствах, влечет за собой ряд тяжелых психологических изменений. В известной работе «Crestwood Heights», посвященной проблемам канадских пригородов, социологи Д.Р.Силей, Р.А.Сим и Е.У. Лусли отмечают: «Мировоззрение, иногда речь, привычная еда и любимая обстановка — всем этим мы должны пожертвовать, не имея при этом никаких намеков на то, как вести себя в новой обстановке». Оказавшись выброшенным из привычной обстановки, человек становится враждебным и подозрительным к окружению. У него усиливается чувство одиночества и беспомощности, что проявляется в частой смене настроения, развитии ненормального психического состояния, чувства разрыва с реальностью.
Любое перемещение разрушает сеть старых связей и создает новые. Человек переезжает в такой спешке, что нигде не может пустить корни. Эмиг-
ранты способствуют увеличению налогов, но не платят их, потому что они уже находятся в другом месте. Цивилизация началась с сельского хозяйства, что связано с оседлым образом жизни, и дошла, наконец, до переселений и миграций кочевников палеолита. Даже слово «укоренение» имеет земледельческое происхождение. Понятие корней связано с представлением о постоянном жилище. В жестоком голодном мире, полном опасностей, дом, будь это даже жалкая лачуга, являлся последним убежищем, которое вросло в землю, передавалось из поколения в поколение. Постоянный дом выступал великой ценностью и прославлялся в литературе: «В гостях хорошо, а дома лучше», «Мой дом — моя крепость», «Дома и стены помогают».
Но плюсов у мобильности больше. Знаток мотивации человеческого поведения Эрнст Дичер называет автомобиль для американского подростка пропуском в мир взрослых, получая в 16 лет права, он проходит своеобразный обряд инициации.
Машина — символ мобильности. Действительно, автомобиль — последняя вещь, которую решится продать американская семья, оказавшись в трудном финансовом положении; худшее наказание для подростка, если родители запретят пользоваться ему машиной. Американские девушки на вопрос о том, что они считают самым важным в молодых людях, без промедления отвечают: автомобиль. По итогам одного исследования, 67% опрошенных назвали машину «необходимой», а 19-летний юноша из Альбукерка заявил: «Если у тебя нет тачки, у тебя нет и девчонки». Миллионы подростков во всем развитом мире согласятся со словами поэта Маринетти, который более полувека назад воскликнул: «Вид ревущей мчащейся машины прекраснее Крылатой Победы». Перед тем как наложить на себя руки, один амриканский юноша написал: «Без прав у меня нет машины, работы и я выключен из общественной жизни».
Удовлетворив первичные потребности, человечество наконец-то устремилось к удовлетворению более высоких, в том числе потребности в путешествиях и познании окружающего мира. Передвижение само по себе стало ценностью. Свобода в выборе общественного положения тесно связана со свободой передвижения. Когда человек чувствует себя социально ущемленным, первым его импульсом является стремление сменить обстановку. Такая мысль вряд ли придет в голову крестьянину, выросшему в глухой деревне, или шахтеру, заточенному в мрачном подземелье.
Особым стремлением к переездам отличаются женщины, особенно путешествующие автостопом. Из них, считают специалисты, формируется самостоятельный слой общества. Девушки-подростки помешаны на путешествиях, возможно, из-за того, что хотят сбежать от строгой обстановки родного дома. Опрос девушек, проведенный журналом Seventeen, показал, что 40,2% девушек побывали в одной или двух «крутых» поездках во время летних каникул. В 69% случаев они уезжают за пределы штата, а 9% составляют заграничные поездки.
Поездки укрепляют авторитет, поэтому многие американцы сохраняют бирки на чемоданах и дипломатах долгое время после поездки. Американцы вообще склонны восхищаться путешественниками, хотя постоянно жалуются на трудности переезда.
Очевидно, что место жительства больше не является источником человеческих различий. Люди больше не зависят от географического происхожде-
ния. Прописка теряет прежнее значение, а в университет принимают независимо от места жительства. Мобильность основательно пошатнула географические устои общества. Обязанности человека по отношению к месту жительства стали до такой степени незначительными, что, по словам профессора Джона Дикмана из университета в Пенсильвании: «Верность человека городу или штату оказывается сегодня слабее связей с корпорацией, профессией или добровольной организацией». В семи крупнейших городах, включая Нью-Йорк, средняя продолжительность проживания на одном месте меньше четырех лет.
Сокращено и адаптировано по источнику: Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997. Гл. 1-5. С. 5-73, 84-87.
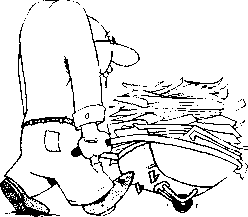
|
 2015-05-15
2015-05-15 1763
1763








