Одно из новых и перспективных направлений в исследовании истории Сибири – область исторической демографии, ретроспективный анализ демографических процессов и состояний в среде городского и сельского населения Сибири. Современный уровень разработки проблем исторического развития определяет необходимость изучения демографических процессов.
Модель демографического поведения населения, которая оказывала решающее воздействие на воспроизводство населения в России, определялась крестьянством. Его доля в общем населении страны составляла в 1860 г. 83%, в 1917 г. 80% [1, с.160].
Территориальные рамки данного исследования включают Тобольскую губернию. Во второй половине XIX – начале XX в. данная губерния состояла из 12 округов: Туринского, Тарского, Курганского, Ялуторовского, Ишимского, Тюкалинского, Тобольского, Тюменского, Березовского и Сургутского [2, с.10].
Для исследования темы были привлечены метрические книги.
Метрические книги позволяет воспроизвести модель календарного распределения браков среди крестьян за определенные периоды и рассмотреть их особенности.
|
|
|
Используемые архивные материалы находятся в Государственном архиве Тюменской области (далее ГУТО ГА) и в Государственном архиве города Тобольска (далее ГУТО ГА в г. Тобольске), и ранее не привлекались исследователями истории крестьянской семьи.
Метрическая книга (метрики) состоит из трех частей: «о родившихся», «о бракосочетавшихся» и «об умерших».
Для выяснения вопроса мы использовали раздел «о бракосочетавшихся». В данной главе фиксировалось событие бракосочетания, его дата, сословие, имена, отчества, фамилии вступивших в брак, их возраст, место жительства. Указывалось также, каким браком сочетался вступивший в брак – первым, вторым или третьим (более трех раз вступать в брак, согласно церковным установлениям было запрещено). До середины 80-х гг. XIX в. записывалось имя вступившего в брак, затем сословие, имя, отчество и фамилия, место жительства его (или ее) отца. Ниже представлена выписка из метрической книги (1863 г.) Градо-Тюменской Михайло-Архангельской церкви, части второй: о бракосочетавшихся (табл. 1) [3].
Таблица 1
Выписка из метрической книги
| Месяц день | Звание, имя, отчества, фамилия жениха | Звание, имя, отчество,фамилия невесты | Лета жениха | Лета невесты | Каким браком | Кто совершил таинство | Кто проучительствовал |
| 12 октября | Крестьянин Григорий Гаврилов Лаптев | Васса Панченко | Жених первым, невеста девица | Священник (подпись) | Крестьянин (подписи) |
Метрические книги как источник давно известны исследователям, но слабо ими использовались в силу нескольких причин. Одна из главных – невозможность отработать «вручную» большие массивы информации, содержащиеся в данном источнике. Как отмечает А.Н. Сагайдачный: «…до недавнего времени метрические книги были невостребованным источником, богатейшие возможности которого стали доступны только сегодня, благодаря современным компьютерным технологиям» [4, с.45].
|
|
|
Для систематизации полученных данных был применен «временной динамический анализ», который позволил выявить тенденцию сезонного распределения браков. Были удалены случайные колебания – тренды, которые могли бы повлиять на тенденцию распределения браков, что позволило более точно и достоверно определить сезонное распределение браков [5, с.34].
Установлено, что основное количество крестьянских свадеб в Тобольской губернии (как, впрочем, и по всей Западной Сибири) приходилось на два периода: 1) зимний (январь– февраль); 2) осенний (октябрь – ноябрь). На графике такая тенденция четко прослеживается (рис.1) [6].
Рис.1
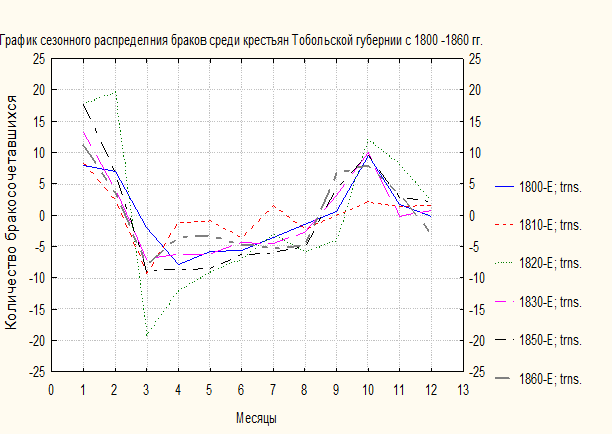
Такое распределение браков было связано с несколькими причинами: 1)хозяйственными особенностями региона; 2) высокой ролью религиозного фактора [7, с.79].
Зимнее время свадеб длилось от Рождества (25 декабря) до масленицы (конец февраля – началю марта). Предшествовавшие Великому посту зимние бракосочетания были удобны, так как: 1) продажа хлеба и мяса давала к этому времени денежные средства; 2) заканчивались осенние хозяйственные работы; 3) к новому хозяйственному сезону в дом приходила молодая работница или работник; 5) в осенний период заканчивались основные уборочные работы, появлялись припасы и свободное время для гуляний. Также можно отметить и специфический образ жизни крестьянства, стрежень которого составляла хозяйственная деятельность, сезонное распределение рабочего и реакционного времени. Традиция заключать браки зимой была связана и с биологическим фактором. По наблюдению врачей и священников, свадьбы, заключенные в январе – феврале, приносили самых здоровых детей осеннего рождения. Осенние свадьбы были менее благоприятны, т.к. рождение детей приходилось на летний период. В этот период роженица и ребенок могли подвергнуться различным инфекционным заболеваниям [8].
Большую роль в календарном распределении браков играл и религиозный фактор.
Православная церковь запрещала вступать в брак на протяжении четырех постов – Великого (продолжался 48 дней), Рождественского (с 15 ноября по 24 декабря включительно), Петрова (колебался по срокам в мае–июне) и Успенского (1–14 августа). Также запрещено было вступать в брак на протяжении всей масленицы (неделя перед Великим постом) и во время пасхальной недели. Запрет браков существовал накануне и в дни церковных, государственных праздников; в среду, пятницу, воскресенье в течение всего года. В связи с такими запретами наблюдается минимум браков в марте и декабре, и небольшое количество браков в апреле, июне, августе [9]. Многочисленные колебания крестьянских свадеб в феврале объяснялось с календарной нестабильностью Великого поста. Данный пост мог начинаться как в феврале, так и в марте.
Календарное распределение браков среди крестьян Тобольской губернии можно представить как определенный сезонный цикл: в сентябре начиналось время свадеб (с перерывом в декабре в связи с Рождественским постом), достигавшее своего апогея в январе–феврале и замиравшее к началу нового цикла работ в марте–апреле.
На протяжении XIX – начала XX в. сезонное распределение браков среди крестьян подчинялось общим закономерностям и не претерпела коренных изменений. Для подтверждения этого тезиса был применен метод «коэффициента линейной корреляции» (теснота связи между двумя объектами). Значение коэффициента варьируется от 0 до 1 (при 0 согласованность отсутствует, при 1 достигает максимального уровня), т.е. чем больше значение, тем теснее связь между двумя объектами. (Данная таблица составлена с помощью программы «Статистика»).
|
|
|
Таблица 2
Коэффициент корреляции между различными годами, связанные с сезонным распределением браков
| 1,00 | 0,75 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,79 | |
| 0,75 | 1,00 | 0,87 | 0,79 | 0,82 | 0,69 | |
| 0,90 | 0,87 | 1,00 | 0,88 | 0,91 | 0,79 | |
| 0,92 | 0,79 | 0,88 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | |
| 0,93 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,00 | 0,91 | |
| 0,79 | 0,69 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 1,00 |
Как видно из таблицы 2, все объекты имеют согласованность между собой и стремятся к 1. Максимальная связь наблюдается между 1830 и 1850 гг., минимальная – между 1810 и 1860 гг.
Библиографический список
1. Миронов Б.Н. Социально-экономическая история России/ Б.Н.Миронов. СПБ, 2000. С.160.
2. Всеобщая перепись населения LXXVIII. Тобольская губерния. СПБ, 1905. С. 10.
3. Государственный архив Тюменской области (далее ГУТО ГА). Ф. и – 100. Оп. 1. Д. 12. Лл. 15-17.
4. Сагайдачный А.Н. Демографические процессы в деревне Западной Сибири/ А.Н. Сагайдачный. Новосибирск, 2000. С. 45.
5. Подробная информация о данном методе исследования изложена в книге Количественные методы в исторических исследованиях. М, 1984. С. 34.
6. График составлен с помощью метрических книг: ГУТО ГА (Градо-Тюменская Единоверческая церковь – Ф. и – 108. Оп. 1; Градо-Тюменская Спасская церковь – Ф. и – 109. Оп. 1; Вознесенская церковь – Ф. и – 112. Оп. 1; Тюменская Тюремная церковь – Ф. и – 101. Оп. 1; Соборо-Благовещенская – Ф. и – 102. Оп. 1; Тюменское духовное правление – Ф. и – 177. Оп. 1; Михайло-Архангельская – Ф. и – 100. Оп. 1; Тюменская Знаменская церковь – Ф. и – 110. Оп. 2; Градо-Тюменская Крестовоздвиженская церковь – Ф. и – 103. Оп. 1; Государственный архив в г. Тобольске (далее ГУТО ГА в г. Тобольске): Березово-Петропавловская – Ф. и – 114. Оп. 1; Обдорская Васильевская – Ф. и – 699. Оп. 1; Свято-Троицкая – Ф. и – 189. Оп. 1.
7. Зверев В.А. Дети – отцам замена/ В.А.Зверев. Новосибирск, 1993. С. 79.
8. Сибирская врачебная газета. 1912. № 2-12; Зверев В.А. Брачный возраст и количество детей у крестьян/ В.А. Зверев // Культурно-бытовые процессы у русских в Сибири. Новосибирск, 1985. С. 34; Морозов С.Д. Демографическое поведение сельского населения Европейской России (к. XIX – н. XX в.)/ С.Д. Морозов // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 101; Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян/ Т.А.Бернштам. СПБ, 2000. С. 89.
|
|
|
9. Сагайдачный А.Н. Ук. соч. С.132; Зверев В.А. Годовой круг деторождений в селениях Сибири: влияние природы, экономики, религии/ В.А. Зверев // Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 2. С.31-35.
К.А. Мухамеджанов
Челябинский государственный педагогический университет
Антропология революционной интеллигенции:
портрет радикала-народника
Исторически так сложилось, что Россия, на взгляд «продвинутого» человека почти никогда не была «передовой» страной. Принято считать, что наша Родина – страна «дремучих» людей, чуждых прогрессивным идеям либерализма и демократии. Но почти всегда находились деятели, которые хотели преобразовать Россию, подвести ее под «общепринятый» европейский стандарт. Причем что характерно, такие люди находились не только среди властителей, но и среди других слоев общества. Конечно, все вышесказанное имеет отношение только к периоду отечественной истории, берущему отсчет после преобразований Петра I, когда русское традиционное общество постепенно деформируется в ходе модернизационных процессов и зарождается новый социальный слой – интеллигенция. К середине XIX в. (рассматриваемый нами период) происходит превращение интеллектуальных занятий из привилегии элиты в нормальную практику общественной жизни, связанную с расширением «социальной географии» интеллигенции, естественным ростом ее численности за счет пополнения из других слоев общества. На фоне этого роста среди новоявленной интеллигенции усиливается неприятие существующего порядка, государства, общества, на передний план выходит фигура революционера-народника. Все эти процессы вызывают вопрос: с чем был связан подобный негативизм, переросший затем в экстремизм и борьбу устоявшейся социальной реальностью?
В силу специфичности нашего исследования (специфика в том, что интеллигенцию будет изучать интеллигент, на материалах представленных интеллигенцией) важен выбор методологического подхода. «Коммуникационная теория» П.Б. Уварова [12, 13] позволила, правильно вычленить функциональные черты интеллигенции как социального слоя информационных посредников, выявить роль и специфические качества в структуре общества, чтобы наиболее полно и адекватно понять процессы, происходящие в обществе в 60–70-е гг. XIX в.
«Сумерки российской мысли», «непроглядная ночь» [16, с.49], «закаменевшая форма государственного строя» [16, с.65], державшаяся «на фундаменте из дикого камня – чувства страха» [16, с.78], «тупость, грубость и жестокость прежнего общественного и домашнего строя» [16, с.135], «общественный и семейный деспотизм и насилие», «непроглядная животная тупость отцов-самодуров» и «тупость безмолвно покорных… безропотно подавленных, загнанных людей» [16, с.136], «страшная пучина грязи, в которой ходили, пачкались и гибли целые ряды поколений, систематически воспитанных в собственном обезличении» [16, с.199], «дикая эпоха», «тяжелый кошмар» [6, с.70, 76]. Через призму таких представлений об историческом прошлом России и её государственных и общественных институтов молодежь оценивала тогдашнюю действительность.
Как говорил один из студентов на собрании молодежи: «мы, молодая Россия, обязаны повергать во прах старые идолы и разрушать старые храмы, чтобы на их развалинах создавать новую жизнь, и эта новая жизнь ничего не должна иметь общего с жизнью старого поколения» [1, с.55]. Елизавета Николаевна Водовозова, прототип Валерии Ильиничны Новодворской и непосредственный участник молодежного движения 60-х годов XIX века, отмечает, что «разрыв молодого поколения со старым был самою характерною чертою шестидесятых годов» [1, с.271]. Это находило отражение в том, что «молодежь обоего пола уходила из-под родительского крова даже там, где детей страстно любили» [1, с.272,155]. Положительно было принято относиться только ко всему новому. Н.В. Шелгунов, также участник революционного движения, отзывался о 60-х годах несколько в ином ключе, называя их «медовым месяцем общественного мышления», «лучшей порой стремлений и надежд русского общества» [16, с.200], «светлым состоянием сознания» [16, с.73], «блестящим моментом русской истории» [16, с.94]. Ему вторит Е.Н.Водовозова характеризуя 60-е гг. следующими словами: «русских людей охватило лихорадочное движение вперёд… молодежь страстно стремилась к самообразованию и просвещению народа, выражая непреклонную решимость сразу стряхнуть с себя ветхого человека, зажить новою жизнью, сделать счастливыми всех нуждающихся и обременённых» [1, с.28-29]. Но к чему это все вело? Из сознания молодого поколения изымались общие, универсальные категории, касавшиеся вопросов морали и нравственности. А что пришло взамен? На смену пришел нравственный релятивизм: универсальные категории, имевшие обоснования в религии, подменялись индивидуалистичными представления о том, что хорошо, а что плохо. В результате, для молодого поколения не существовало нравственных, моральных, этических ориентиров. В частности это нашло выражение в разрушении традиционных социальных институтов, таких, например, как семья. Брак и семейные отношения начали интерпретироваться сначала как инструмент достижения т.н. «общественного блага», а затем и вовсе с позиций личностной значимости/не значимости. Пример типичных рассуждений радикальной молодежи по данному вопросу мы встречаем в воспоминаниях Е.Н. Водовозовой. «Вы все ещё говорите о браках, о мужьях, женах… а между тем, теперь уже наступило время, когда передовые люди должны смело кричать всюду: «долой такой устарелый институт, как брак! – кто же будет воспитывать детей? – Странный вопрос! Те же родители, но свободные, не связанные между собою, как два каторжника, цепью законного брака, следовательно, более разумные существа!.. затем дети будут получать общественное воспитание… какая происходит из-за этого громадная потеря времени: двое родителей затрачивают все свои силы на воспитание нескольких, а то и одного ребенка. Ужасно думать, сколько даром сил пропадает!» [1, с.120-121]. Видимо так рассуждали В.Н. и Л.П. Шелгуновы и их друг М.Л. Михайлов, когда они устроили своего рода любовный треугольник. В конечном итоге Л.П.Шелгунова стала гражданской женой Михайлова [16, с.6]. В.Н.Фигнер развелась с мужем, когда тот попенял жену за то, что она больше отдает сил революции, а не семье. «Бабушка русской революции» Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская вышла замуж по идейным соображениям, оговорив полную свободу действий, и в итоге с мужем разошлась, а ребенка оставила родителям [15, с.70-82].
Другой «проблемой» для нигилистов становиться неприятие реальности, предельная идеализация действительности. Хорошо иллюстрирует данный аспект миросозерцания молодой интеллигенции случай, произошедший с Водовозовой. Елизавета Николаевна, окончившая, между прочим, Смольный институт и, одновременно, не упускавшая случая учить жизни своего дядю, боевого генерала, решила как-то прокатиться к подруге. Водовозова проявила исключительное незнание простейших бытовых норм и не заплатила извозчику. «Вдруг я услыхала неистовый крик моего возницы: “Деньги, что же деньги?”, а затем ряд ругательств, которые он посылал мне вдогонку. “Господи! Как он бесцеремонно требует у меня денег! Значит, он простой разбойник и решил ограбить меня среди белого дня!.. Наверно, сейчас броситься на меня!” И я опрометью побежала дальше» [1, с.23]. На счастье Водовозовой ей на встречу попалась «тётка подруги», которая, с трудом разобравшись, в чём дело и, заплатив извозчику, решила выяснить у Елизаветы Николаевны, как она могла вообразить, что извозчик повезет её даром. Поразителен ответ Водовозовой! «Я думала, что извозчики представляют своего рода общественное учреждение, которым желающие пользуются бесплатно» [1, с.23]. «Тётка подруги», Луиза Карловна, разъясняет Водовозовой ошибочность её представлений. И как откровение в Елизавете Николаевне рождается мысль: «Правда, тысяча раз правда!.. Ведь живя в деревне, я это прекрасно понимала, но как-то это все перезабыла за время институтского воспитания…» [1, с.24]. Откровением это является уже только лишь потому, что Водовозова ясно осознает причину своего непонимания происходящего – всему виной «институтское воспитание» В.Н. Фигнер так же вспоминает: «я вышла из института… с знанием жизни и людей только по романам и повестям, которые читала» [14, с.93]. Немного позже, когда Фигнер вместе с другими народниками участвовала в «хождении в народ», Вера Николаевна вновь оказывается в ситуации, когда она «открывает жизнь» и народ, за интересы которого боролась: «теперь, в 25 лет, я стояла перед ним, как ребенок, которому сунули в руки какой-то диковинный, невиданный предмет» [14, с.156] и «я не знала, как и подступить к простому человеку» [14, с.153]. Вообще в те времена (и не только в те, надо заметить) для отечественной интеллигенции проблема «незнания» народа и его нужд была очень актуальна. Л.Ф. Пантелеев указывает: «в те времена она (народная масса. – М.К.) представляла из себя настоящую terra incognita» [7, с.317]. Возвращаясь к воспоминаниям Е.Н. Водовозовой, любопытно отметить реакцию извозчика – простого русского мужика – на поведение «барышни»: «Я тоже смекаю: не то она придурковата, не то блажная какая…» [1, с.23]. И после этого «народники» удивлялись, почему русский мужик не хочет идти вслед за ними в социализм и свергать «царя-батюшку». Так и хочется воскликнуть: «И вот эти люди собирались построить новый мир, новую Россию?!»
Из всего вышеперечисленного мы хотели бы позволить себе сделать небольшой вывод: как нам кажется, у интеллигенции 60-х были очевидные проблемы с социализацией в рамках существовавшего тогда, пока еще, традиционного общества. Интеллигенция, не приняв существующий социальный порядок, построила себе мирок, в котором рождались, жили и гибли целые поколения людей.
Нам показалось интересным посмотреть, какой жизнью жили люди, решившие переделать существующий порядок вещей.
Вот как описывает повседневный быт Л.А. Тихомиров, который и сам положил молодые годы служению идеалам радикализма. «Как проходит их жизнь? Немного лекций, а затем сожительство с модистками, гоньба за ними по бульварам, карты, кутежи. Пили вообще очень много. Шульга выпивал на пари сразу 20 бутылок пива. Приходишь к Швембергеру и Рудковскому; смотришь, кто-нибудь сидит утром и дерет водку, закусывая солью. Это делалось для шику: дескать, как настоящие горчайшие пьяницы. Показывают тут же кучи рвоты: пили, дескать, весь вечер, ночью так начало рвать такого-то – беда!» [7, с.39]. Л.Ф. Пантелеев так же отмечает широкую распространенность увлечения спиртными напитками [7, с.133, 203, 215]. Причем Тихомиров указывает: «Не следует видеть во всем этом, строго говоря, разврата. Нет, это было наполнение чем-нибудь жизни» [11, с.39]. Создается впечатление, что подобный образ жизни был связан с отсутствием четко обозначенной социальной роли, а точнее, с отрицанием каких-либо социальных обязанностей, оправдываемое борьбой с режимом и страданием за идеалы народного благоденствия. Л.А.Тихомиров по этому поводу, пишет следующее: «так и проходило время в таком бессмысленном, бесцельном проведении неизвестного к чему, и вовсе не у одних глупых» [11, с.39]. Здесь Лев Александрович предлагает всерьез осознать то, что нельзя ссылаться на заполоненность революционных рядов Кукшиными и Ситниковыми, которых высмеял И.А. Тургенев в качестве «болванов» от революции, пародийных персонажей, подавшихся в нигилизм и радикализм исключительно от того лишь, что это модно. Безусловно, присутствовали и такие, но не они одни страдали бессмысленностью время препровождения, «неглупые», по словам Льва Александровича «мучились» тем же.
Отрешенность от социальных норм и своеобразный внутренний мирок давали неожиданный результат при взаимодействии с реальностью. Молодые революционеры обладали поразительным пренебрежением к человеческой жизни. Революционная мысль эволюционировала от идей Белинского о том, что народ глуп, что он сам не понимает своего счастья и поэтому его необходимо направить по нужному пути, до нечаевского «нравственно для революции всё, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает ему» [2, с.21]. В.И. Засулич, хорошо знавшая Нечаева, отметила в своих «Воспоминаниях» существенную черту его характера, а именно: «жгучую ненависть и не против правительства только, а против всего общества, всех этих рабочих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он если и не чувствовал ненависти, то во всяком случае не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения» [2, с.21]. Нетрудно предположить, к каким результатам могли прийти нигилисты, имея таких лидеров.
Революционная молодежь очень легко относилась к гибели других людей, если это было необходимо для идеалов «светлого будущего». В этом можно убедиться на примере эпизода из жизни одного из молодых революционеров – С.М. Кравчинского, описанного в воспоминаниях Л.А.Тихомирова. Вообще, Лев Александрович дает следующий психологический портрет Кравчинского: «Он страшный эгоист, весьма пекущийся о своей драгоценной персоне. Но он в то же время тщеславен и самолюбив до крайности». Эпизод же заключается в следующем: Кравчинский, жил в Санкт–Петербурге и выдумывал планы убийства шефа жандармов Мезенцева, причем, как отмечает сам Тихомиров, планы непременно должны были быть «как можно более оригинальные» [11, с.119]. Кравчинский, например, придумал отрубить Мезенцеву голову, даже заказал ради такого мероприятия саблю. Но этот план был отставлен из-за своей фантастичности. Хотя Кравчинский продолжал «строить из себя разбойничьего героя». Друзьям же за границей в письмах он представлял себя как нужного лишь затем, «чтобы он взял приз – жизнь Мезенцева». В итоге вся эта игра действительно закончилась убийством и «рука убийцы не дрогнула… Кравчинский, воткнув кинжал, даже не забыл крутануть его, по всем правилам кинжального убийства» [11, с.119]. Мы видим из приведенного выше эпизода, что молодые революционеры во многом относились к своей деятельности как своеобразной игре, к эдаким «казакам-разбойникам» на живом человеческом материале. Они сами придумывали цели, атрибутику, правила, и даже убийство было всего лишь ходом, действием, игровым моментом, который тоже нужно делать по правилам, наверняка выписанным из разного рода литературы. Да и сам материал революции, вершителей ее, революционеры видели в очень и очень интересном ракурсе и искали опору среди маргиналов и изгоев общества. В частности, последователи Бакунина в ходе подготовке к восстанию в городе Николаевске Самарской губернии, проникли на тюремный двор и подготовили к побегу назначенную к этапу партию арестантов, снабдив их напильниками и фальшивыми документами. На вопрос одного из арестантов, зачем они, арестанты, им революционерам нужны, последовал такой ответ: «нам нужен народ, который готов решиться на всё, а народа этого легче подобрать из острожников. Из свободного народа решительных подобрать трудно. Нам нужны решительные люди, чтобы порешить власть царя» [2, с.19]. Встает закономерный вопрос: какое могли создать общество люди, состоящие сплошь из маргиналов и преступников?
Все эти действия осуществлялись на фоне воздыханий о судьбе несчастных, на фоне призывов к гуманности и справедливости. В.О.Ключевский сказал по этому поводу следующее: «отвлеченной идеей человечества мутило живое историческое чутьё родины, а от холодной мысли о схематической добродетели застывала живая, нравственная потребность простого доброго дела. Гуманный космополит мог с размеренным вздохом скорбеть о противоречиях мироздания, даже грациозно плакать, стереотипными слезами о страданиях человечества и не утереть ни одной конкретной, неопрятной слезы, встреченной на улице. В таком миросозерцании нравственное чувство разлагается в формулы, мораль заменяется кодексом правил, побуждения – принципами» [5, с.24].
Можно сказать что, жертвы, на которые шли революционеры были, безусловно, нужны для построения действительно лучшего мира. Но тут интересно взглянуть на то, какой этот будущий мир представлялся самим революционерам.
Оказывается, в плане устройства будущего счастливого мира в умах молодого поколения царила изрядная сумятица. Е.Н. Водовозова, писала о той поре: «сердце, как горящий костёр, пылало страстной любовью к ближнему, голова была переполнена идеями» [1, с.39], и, «по части идей стоял тогда в моей голове невообразимый сумбур» [1, с.34]. Забавно, не находите?
Молодежь была вольна спорить на кружках и вечерах на самые разнообразные темы, высказывая при этом противоречивые точки зрения. Например, Е.Н. Водовозова описывает случай, когда на одном из многочисленных собраний «людей молодого поколения», зашел спор о нравственности и о том, насколько человек должен ограничивать свои желания. Один из студентов заявил: «если у человека не слякотная натура, он восторжествует над всеми своими пошленькими чувствицами и вожделениями, он будет их царем, а не рабом» [1, с.75]. Но почти тут же прозвучала совершенно противоположная мысль: «В нравственной области: если вы желаете сделать то или другое и идете наперекор своей природе, будьте уверены, что на ваших поступках, на ваших идеях будет лежать печать Каина, печать раба» [1, с.79]. И, как озарение, мысль самой Водовозовой: «Значит, делай что вздумается?» У Н.В. Шелгунова мы можем встретить следующее откровение «над Россией носился хаос желаний, стремлений, порывов. Многим думалось, что в русской жизни… нашлось бы немало бытовых особенностей, нуждавшихся в очистке. Как все это сделать, я не знал (да, вероятно, и не я один)…» [16, с.96].
Революционеры имели весьма смутные представления даже о своей цели – социализме. Н.А. Серно-Соловьевич отмечал следующее: «У нас такая разноголосица, что нет двух человек, согласных в принципах или цели» [4, с.204]. Об этом говорит тот факт, что даже лидеры молодежного движения сами не могли четко сформулировать основные положения социализма. Например, С.Г. Нечаев рассматривал социализм как общество, при котором следовало: «производить как можно больше, потреблять как можно меньше» [2, с.19]. И.А.Ильин прямо указывает: «Что такое «социализм, из чего он исходит, к чему ведет, как осуществляется – этого не знал никто» [3, с.113]. Скомпонованный на три четверти по западным образцам, русский социализм поневоле был абстрактный, говорил народу о его бедах общими, размытыми фразами и часто не затрагивал насущных, злободневных вопросов, которые действительно волновали русского крестьянина, именно поэтому социализм, вместе с теми, кто его пропагандировал, представлялся крестьянину чужеродным и ненужным.
Хотелось бы вернуться к спору о нравственности, описанному у Водовозовой. Если идеалы, авторитеты прошлого повержены, то кто же решает какими они будут, идеалы будущего. Сама же молодежь, видимо, для себя решила так: «Свободная личность», «теперь у каждого на всем должна лежать печать собственная, резко обозначенной индивидуальности» [1, с.78]. Теперь дело революции в глазах каждого революционера становиться делом самореализации, удовлетворением своих душевных, но не духовных, потребностей.
Мы не зря упоминали в начале статьи о методологии, помогавшей нам тонко разобраться с функциональными чертами интеллигенции. Одним из принципиальных моментов «коммуникационной теории» является выбор человека по поводу вопросов отношения к самому себе (самосознание) и к окружающей действительности. Естественную необходимость решения данных вопросов Уваров обосновывает через категорию сознания, которое, просто исходя из факта своего существования и включенности в мир, рождает озвученные проблемы. В процессе ответа на поставленные вопросы ключевым является «первичное метафизическое допущение»: вера в Бога или отрицание его существования. Выбор определяет «рабочий образ действительности», как «форму теоретического и практического (функционального) отношения к реальности» [12, с.57]. Функция данной категории – придание личной и исторической осмысленности каждому человеческому проявлению активности/пассивности. В процессе элементарного социального общения «рабочий образ действительности» выкристаллизовывается в «образ истинности» – мировоззренчески отрефлексированный и закрепленный образ действительности, поведенческое основание для сознательной личной и исторической активности. «Образ истинности» по сравнению с «рабочим образом действительности» характеризуется высоким уровнем осознанности норм использования его в социальной среде, он более устойчив, непластичен, относительно независим от действительности. В реальность он воплощается через «проекцию» метафизического выбора, через фактическое следование/достраивание действительности в соответствии с принципами, проистекающими из предельного допущения. То есть, по сути, выбор сознания начинает формировать реальность через придание ценностного характера одной категории вещей и свойств и отрицание значимости другой. Проекционистская активность (активность по поводу реализации метафизического выбора) индивидуумов в результате устойчивого взаимодействия формируется в «коммуникацию» соответствующего предельному допущению типа (отсюда и название теории). Тип коммуникации зависит от господствующего – то есть разделяемого всеми или большинством – «образа истинности». И уже на данном уровне организуются все отдельные частные формы коммуникации, как-то хозяйственная сфера, властные и социальные отношения и т.д. [12, с.57-59].
Но западноевропейское общество, зародившееся в XVI–XVII вв. является специфическим социокультурным типом, основанном на принципиально ином, по сравнению с доселе существовавшими традиционными обществами, предельном метафизическом выборе. Новое западноевропейское общество – общество секулярное, которое в ходе исторического развития распространяет (навязывает) свои мировоззренческие представления другим и в географическом, и в социокультурном плане обществам. Навязывание ведет к кардинальным изменениям и трансформации обществ по западноевропейскому образцу.
Размывание авторитета традиции шло несколькими каналами: через влияние литературы, СМИ (тогда, прежде всего печатных), образования. Л.А.Тихомиров указывает, что вместо прежней формулы «повинуйся, а не рассуждай», формировавший дисциплину авторитета и фиксировавшей границы собственной компетенции, в образовании начало преобладать новая идея: «не повинуйся, а рассуждай». Главными особенностями новой образовательной схемы являлось то, что она вела к «выращиванию не самостоятельного ума, а своевольного». Данный вывод Тихомиров обосновывает тем, что раньше авторитет выступал как своего рода якорь, который, с одной стороны, позволял человеку приобщиться к опыту, накопленному веками, а с другой удерживал его, давал точку опоры в накатывающих с разной силой и периодичностью информационных волнах. Теперь же «рассуждая сам» – значит взял самое простое и легкое» – века человеческого опыта спокойно могут быть отброшены по желанию человека, а это в свою очередь ведет к тому, что уму, когда его не дисциплинируют, «предоставляется лишь то, что само привлекает интерес». И новые «авторитеты», созданные новым временем, позволяют просто «плыть по течению». Однако эта подверженность веяниям интеллектуальной моды с трудом поддается фиксации, так как «умы… утратив способность познавать невежество своё, способность учится, т.е. покорятся законам жизни, – разом поднялись на мнимую высоту, с которой каждый большой и малый считает себя судьей жизни и вселенной» [8, с.72]. Расположенность в центре мира не дает возможность непредвзято и объективно оценить собственные силы, суть происходящего и границы собственной компетенции в понимании этой сути.
Без центрирующей силы авторитета у молодежи прерывается нить социализации, идущая от поколения к поколению в условиях традиции. Не случайно проблема «отцов и детей» дает о себе знать именно в этот период. И именно отрицание авторитетов ведет к жизненной «несостоятельности» молодежи, которую мы ярко проиллюстрировали примерами из воспоминаний Е.Н. Водовозовой и В.Н. Фигнер. Связано это было с тем, что переходное общество еще не выработало механизмов специализации подрастающего поколения, характерной для современности. Образование в основном давало лишь общую канву, «предуготовляла» личность, которую, в условиях традиционного общества, должен был бы подхватить авторитет и в дальнейшем сформировать для жизни. Хотя, безусловно, институты и гимназии нельзя назвать полноценным элементом традиционного общества, однако они, созданные еще в XVIII в., обладали известной долей традиционности, выражавшейся в форме характерной для них железной дисциплины. Однако принципиальная знаниевая «безыдейность» традиционного общества объективно вела к тому, что воспитанники этих учебных заведений, «снаружи замурованные и крытые казенным лаком», выходили в большую жизнь с «целым нутром». [16, с.64]. Однако ошибочно было бы приписывать этот факт, вслед за Н.В. Шелгуновым, ограниченности традиции. «Целость нутра» была ее естественным свойством, связанным с отсутствием рациональной идеологичности. Воспитанники же, в условиях нормальной традиционной социализации, вполне могли бы стать качественными членами социума. Однако на деле все оборачивалось «жизненной несостоятельностью», т.к. «нутро» забивалось разного рода рационалистическими учениями и идеями, наподобие того, благодаря которым Е.Н. Водовозова считала, что «ямщики» – это общественная служба и т.д.
Влияние западноевропейских идей подтачивало в русском обществе целостное религиозное мировидение. Выражалось это, прежде всего в том, что человеком овладевало мировоззренческая близорукость. Он терял чувство «малости», т.е. культивируемого прежде ощущения ничтожности собственной фигуры, собственных интересов и желаний на фоне Бога и Божественного промысла. Человек начинает полагать, что он способен сам рассудить что правильно, а что нет, чему должно быть место, а что право на существование не имеет. Представление о собственной значимости трансформируется в самодостаточность в понятие автономной личности, монады. Все эти изменения ведут к искажению традиционной, религиоцентричной мировоззренческой и социальной географии. По поводу искажения мировоззренческого восприятия в сравнении с традиционным и о последствиях такового Л.А. Тихомиров высказался следующим образом: «Лжеощущение своей якобы автономности появляется первоначально в результате бунта против Бога. Оставшись без Бога и в этом случае лжеощущая себя автономной, личность сначала пытается найти полное испомещение своих стремлений в земном мире. Но это невозможно. Мир оказывается для этого неспособным. Отсюда начинается отрицание мира в том виде, как он есть, по здешним законам. Одна за другой являются мечты “будущего строя”. Пробуя эти строи, автономная личность отвергает их один за другим, более или менее усиливая свое отрицание действительного мира» [10].
Неудивительно, что в условиях разрыва с «наивными верованиями прошлого» [7, с.164] потеряли свою силу авторитеты, которые этими верованиями подкреплялись. Ничто и никто не воспринимались без известной доли критики, степень которой часто зависела от т.н. «прогрессивности» данного авторитета.
Таким образом, выстраивается новый рабочий образ действительности, связанный с искажением представлений о Боге и человеке, отрицанием существования Бога как такового. Такой рабочий образ действительности существует в рамках принципиальной относительности мира и человека в нем. Человек полагает, что он знает, как должна быть устроена жизнь, как должен функционировать человеческий социум. Точнее он вынужден это знать, чтобы обрести хоть какую-то определенность в пространстве, в котором нет абсолютной точки отсчета – Бога. Именно необходимость в перманентном поиске смысла и сопряженной с ним социальной навигацией порождает необходимость в слое людей, которые занимались бы этим постоянно. Формируется слой интеллигенции, который первоначально состоит из европейски образованной элиты. Однако приобщение к западноевропейским ценностям ведет к искреннему желанию переделать мир и общество в лучшую сторону. Однако рассуждения на общих началах и исходя из умствования западноевропейских мыслителей, а так же попытки деятельности в соответствии с ними не приводят к ожидаемому результату. Либерализм как реформаторское течение великосветских салонов превращается в нигилизм, усугубляемый приобщением к западноевропейским ценностям все более широких социальных слоев. В итоге отечественная интеллигенция отрицает опыт самой Европы, восторженно восклицая: «никто не идет так далеко в отрицании, как мы, русские» [16, с.339]. Отрицание ведет к желанию сломать прежний общественный и государственный строй и на его обломках создать новое, лучшее будущее, воплотить в жизнь утопию о всеобщем благе. Желание переделать существующее под некие абстрактные образцы, привнесенные в основном новоевропейской рациональной идеологией, порождает в российской империи 70-х годов XIX века радикальную волну.
Библиографический список:
1. Водовозова Е.Н. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты: В 2 т./ Е.Н. Водовозова. М.-Л., 1964.
2. Ермолов В.А. Фанатики революции // Преподавание истории в школе/ В.А. Ермолов. 1998. № 7. С.17–22.
3. Ильин И.А. Наши задачи: В 2т./ И.А. Ильин. Париж-М., 1992.
4. История СССР. XIX-начало XX в.: Учебник / под ред. И.А. Федосова. М., 1987.
5. Ключевский В.О. О двух типах воспитания // Полное собрание сочинений в 9-ти томах. Т.9./ В.О. Ключевский. М., 1987.
6. Кропоткин П.А. Записки революционера/ П.А. Кропоткин. М., 1990.
7. Пантелеев Л.Г. Воспоминания/ Л.Г. Пантелеев. М., 1958.
8. Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени/ К.П. Победоносцев. М., 1993
9. Революционеры 1870-х годов: Воспоминания участников народнического движения в Петербурге. Л., 1986.
10. Тихомиров Л.А. Борьба века www.moral.ru(21 сентября 2005 г).
11. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспоминания/ Л.А. Тихомиров. Л., 1927.
12. Уваров П.Б. Дети Хаоса: исторический феномен интеллигенции/ П.Б. Уваров. М. 2005.
13. Уваров П.Б. Интеллигенция и революционные формирования (кон.20-х – кон.60-х годов XIX века)/ П.Б. Уваров. Челябинск, 1998.
14. Фигнер В. Запечатленный труд/ В. Фигнер. М., 1964.
15. Фролова Е.И. Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская/ Е.П. Фролова // Вопросы истории. 2004. №8. С.70-82.
16. Шелгунов Н.В. Воспоминания: В 2 т./ Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л. М.,Л., 1967.
Е.Е. Садовникова
Челябинский государственный педагогический университет
 2015-05-15
2015-05-15 626
626








