 Постараемся прежде всего вдуматься, что это означает «найти смысл жизни», точнее, чего мы собственно ищем, какой смысл мы вкладываем в самое понятие «смысла жизни» и при каких условиях мы почитали бы его осуществлённым?
Постараемся прежде всего вдуматься, что это означает «найти смысл жизни», точнее, чего мы собственно ищем, какой смысл мы вкладываем в самое понятие «смысла жизни» и при каких условиях мы почитали бы его осуществлённым?
Под «смыслом» мы подразумеваем примерно то же, что «разумность». «Разумным» же, в относительном смысле, мы называем всё целесообразное, всё правильно ведущее к цели или помогающее её осуществить. Разумно то поведение, которое согласовано с поставленной целью и ведёт к её осуществлению, разумно или осмысленно пользование средством, которое помогает нам достигнуть цели. Но все это только относительно разумно – именно при условии, что сама цель бесспорно разумна или осмысленна. Мы можем назвать в относительном смысле «разумным», например, поведение человека, который умеет приспособиться к жизни, зарабатывать деньги, делать себе карьеру – в предположении, что сам жизненный успех, богатство, высокое общественное положение мы признаем бесспорными и в этом смысле «разумными» благами. Если же мы, разочаровавшись в жизни, усмотрев её «бессмысленность», хотя бы ввиду краткости, шаткости всех этих её благ или в виду того, что они не дают нашей душе истинного удовлетворения, признали спорной саму цель этих стремлений, то же поведение, будучи относительно, т. е. в отношении к своей цели, разумным и осмысленным, абсолютно представится нам неразумным и бессмысленным. Так ведь это и есть в отношении преобладающего содержания обычной человеческой жизни. Мы видим, что большинство людей посвящает большую часть своих сил и времени ряду вполне целесообразных действий, что они постоянно озабочены достижением каких-то целей и правильно действуют для их достижения, т. е. по большей части поступают вполне «разумно»; и вместе с тем, так как либо сами цели эти «бессмысленны», либо, по крайней мере, остается нерешенным и спорным вопрос об их «осмысленности», – вся человеческая жизнь принимает характер бессмысленного кружения, наподобие кружения белки в колесе, набора бессмысленных действий, которые неожиданно, вне всякого отношения к этим целям, ставимым человеком, и потому тоже совершенно бессмысленно, обрываются смертью.
Следовательно, условием подлинной, а не только относительной разумности жизни является не только, чтобы она разумно осуществляла какие-либо цели, но чтобы и самые цели эти, в свою очередь, были разумны.
Но что значит «разумная цель?» Средство разумно, когда оно ведёт к цели. Но цель – если она есть подлинная, последняя цель, а не только средство для чего-либо иного – уже ни к чему не ведет, и потому не может расцениваться с точки зрения своей целесообразности. Она должна быть разумна в себе, как таковая. Но что это значит и как это возможно? На эту трудность – превращая её в абсолютную неразрешимость – опирается тот софизм, с помощью которого часто доказывают, что жизнь необходимо бессмысленна, или что незаконен самый вопрос о смысле жизни. Говорят: «Всякое действие осмысленно, когда служит цели»; но цель или – что, как будто то же самое – жизнь в её целом не имеет уже вне себя никакой цели: «жизнь для жизни мне дана». Поэтому либо надо раз навсегда примириться с роковой, из логики вещей вытекающей, «бессмысленностью» жизни, либо же – что правильнее – надо признать, что сама постановка о смысле жизни незаконна, что этот вопрос принадлежит к числу тех, которые не находят себе разрешения просто в силу своей собственной внутренней нелепости. Вопрос о «смысле» чего-либо имеет всегда относительное значение, он предполагает «смысл» для чего-нибудь, целесообразность при достижении определённой цели. Жизнь же в целом никакой цели не имеет, и потому о «смысле» её нельзя ставить вопроса.
Как ни убедительно, на первый взгляд, это рассуждение, против него прежде всего инстинктивно протестует наше сердце; мы чувствуем, что вопрос о смысле жизни – сам по себе совсем не бессмысленный вопрос, и, как бы тягостна ни была для нас его неразрешимость или неразрешённость, рассуждение о незаконности самого вопроса нас не успокаивает. Мы можем на время отмахнуться от этого вопроса отогнать его от себя, но в следующее же мгновение не «мы» и не наш «ум» его ставит, а он сам неотвязно стоит перед нами, и душа наша, часто со смертельной мукой, вопрошает: «для чего жить?».
Очевидно, что наша жизнь, простой стихийный процесс изживания её, пребывания на свете и сознания этого факта, вовсе не есть для нас «самоцель». Она не может быть самоцелью, во-первых, потому, что в общем страдания и тягости преобладают в ней над радостями и наслаждениями и, несмотря на всю силу животного инстинкта самосохранения, мы часто недоумеваем, для чего же мы должны тянуть эту тяжелую лямку. Но и независимо от этого она не может быть самоцелью и потому, что жизнь, по самому своему существу, есть не неподвижное пребывание в себе, самодовлеющий покой, а делание чего-то или стремление к чему-то; миг, в котором мы свободны от всякого дела или стремления, мы испытываем, как мучительно-тоскливое состояние пустоты и неудовлетворенности. Мы не можем жить для жизни; мы всегда – хотим ли мы того или нет – живём для чего-то. Но только в большинстве случаев это «что-то», будучи целью, к которой мы стремимся, по своему содержанию есть в свою очередь средство, и притом средство для сохранения жизни. Отсюда получается тот мучительный заколдованный круг, который острее всего даёт нам чувствовать бессмысленность жизни и порождает тоску по её осмыслению: мы живём, чтобы трудиться над чем-то, стремиться к чему-то, а трудимся, заботимся и стремимся – для того, чтобы жить. И, измученные этим кружением в беличьем колесе, мы ищем «смысла жизни» – мы ищем стремления и дела, которое не было бы направлено на простое сохранение жизни, и жизни, которая не тратилась бы на тяжкий труд её же сохранения.
Мы возвращаемся, таким образом, назад к поставленному вопросу. Жизнь наша осмысленна, когда она служит какой-то разумной цели, содержанием которой никак не может быть просто сама эта эмпирическая жизнь. Но в чём же её содержание, и, прежде всего, при каких условиях мы можем признать конечную цель «разумной»?
Если разумность её состоит не в том, что она есть средство для чего-либо иного, иначе она не была бы подлинной, конечной целью, то она может заключаться лишь в том, что эта цель есть такая бесспорная, самодовлеющая ценность, о которой уже бессмысленно ставить вопрос: «для чего?» Чтобы быть осмысленной, наша жизнь – вопреки уверениям поклонников «жизни для жизни» и в согласии с явным требованием нашей души – должна быть служением высшему и абсолютному благу.
Но этого мало. Мы видели, что в сфере относительной «разумности» возможны и часто встречаются случаи, когда что-либо осмысленно с точки зрения третьего лица, но не для самого себя (как приведенный пример рабского труда осмыслен для рабовладельца, но не для самого раба). То же мыслимо в сфере абсолютной разумности. Если бы наша жизнь была отдана служению хотя бы высшему и абсолютному благу, которое, однако, не было бы благом для нас или в котором мы сами не участвовали бы, то для нас она все же оставалась бы бессмысленной. Мы уже видели, как бессмысленна жизнь, посвященная благу грядущих поколений; но тут ещё можно сказать, что бессмысленность эта определена относительностью, ограниченностью или спорностью самой цели. Но возьмем, напр., философскую этику Гегеля. В ней человеческая жизнь должна обретать смысл, как проявление и орудие саморазвития и самопознания абсолютного духа; но известно, на какие моральные трудности наталкивается это построение. Наш Белинский, который, ознакомившись с философией Гегеля, воскликнул в негодовании: «Так это я, значит, не для себя самого познаю и живу, а для развития какого-то абсолютного духа. Стану я для него трудиться!» – был, конечно, по существу совершенно прав. Жизнь осмыслена, когда она, будучи служением абсолютному и высшему благу, есть вместе с тем не потеря, а утверждение и обогащение самой себя, когда она есть служение абсолютному благу, которое есть благо и для меня самого. Или, иначе говоря: абсолютным в смысле совершенной бесспорности мы можем признать только такое благо, которое есть одновременно и самодовлеющее, превышающее все мои личные интересы, благо, и благо для меня. Оно должно быть одновременно благом и в объективном и в субъективном смысле – и высшей ценностью, к которой мы стремимся ради неё самой, и ценностью, пополняющей, обогащающей меня самого.
Розин В. М. Смерть как феномен философского осмысления (культурно-антропологический и эзотерический аспекты)// Общественные науки и современность. — 1997. — № 2. — С. 170 — 180. —
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/165138.html. — 15.02.11..
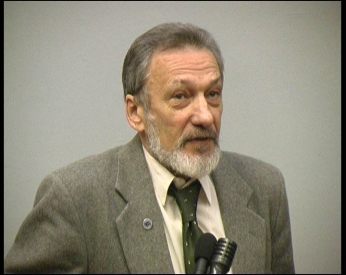 Но вернемся к проблеме смерти. Что же сделал великий философ? Полностью сменил антропологическую модель человека. Согласно Платону, человек, который хочет блаженно закончить свои дни, т.е. стать бессмертным, должен всю жизнь работать над собой, чтобы проявить свою божественную природу. Иначе говоря, человек — это эзотерическое существо, его божественная сущность проявляется в работе над собой, в совершенствовании, в направлении себя по такому пути, который ведет в божественный мир. Человек как потенциальный бог, как раскрывающийся бог, как путь в божественный мир, как духовная работа. В этом случае, утверждает Платон, смерть — благо, но не потому, что это сон или рай, а потому, что для духовного (эзотерического) человека смерти не существует. Важно и то, что, по Платону, духовная работа, нацеленная на достижение бессмертия, — это работа культурная (занятие философией, наукой, искусством, т.е. превращение этого мира в подобие мира подлинного). Здесь может возникнуть вопрос: не является ли решение Платона утопическим, поскольку предполагает обожествление человека? Но важно другое: человек утрачивает страх смерти, перед ним открывается бесконечная и вдохновляющая жизненная перспектива — обретение бессмертия, он реально улучшает себя и работает на культуру. Великолепное решение! Но для этого требуются по меньшей мере три необходимых условия: вера в существование богов и подлинной реальности, а также установка на эзотерическую работу.
Но вернемся к проблеме смерти. Что же сделал великий философ? Полностью сменил антропологическую модель человека. Согласно Платону, человек, который хочет блаженно закончить свои дни, т.е. стать бессмертным, должен всю жизнь работать над собой, чтобы проявить свою божественную природу. Иначе говоря, человек — это эзотерическое существо, его божественная сущность проявляется в работе над собой, в совершенствовании, в направлении себя по такому пути, который ведет в божественный мир. Человек как потенциальный бог, как раскрывающийся бог, как путь в божественный мир, как духовная работа. В этом случае, утверждает Платон, смерть — благо, но не потому, что это сон или рай, а потому, что для духовного (эзотерического) человека смерти не существует. Важно и то, что, по Платону, духовная работа, нацеленная на достижение бессмертия, — это работа культурная (занятие философией, наукой, искусством, т.е. превращение этого мира в подобие мира подлинного). Здесь может возникнуть вопрос: не является ли решение Платона утопическим, поскольку предполагает обожествление человека? Но важно другое: человек утрачивает страх смерти, перед ним открывается бесконечная и вдохновляющая жизненная перспектива — обретение бессмертия, он реально улучшает себя и работает на культуру. Великолепное решение! Но для этого требуются по меньшей мере три необходимых условия: вера в существование богов и подлинной реальности, а также установка на эзотерическую работу.
Ситуация повторялась в Новое время: человек, может быть, ещё более остро переживает смерть и боится её. Осознание жизни и переживание смерти происходят в двух разных по природе антропологических моделях. Одну модель обычно называют «моделью новоевропейской личности». В её рамках человек значительно сильнее переживает состояние лишенности жизни. Другую модель можно назвать «моделью естественнонаучного человека», поскольку в Новое время человек воспринимается также и как объект естественных наук (биологии, физиологии, психологии). С точки зрения второй модели смерть есть полное лишение, даже исчезновение, которое в первой модели воспринимается как своеобразное убийство, мучение, насилие над живой личностью.
Новоевропейская личность, конечно, существенно отличается от личности древнего человека. Последний понимал жизнь и свободу только в рамках миропорядка, установленного богами, и этим были ограничены его разум и желания. Новоевропейская личность «сняла», переработала в себе личность древнего человека, античную личность с её ориентацией на мифологическое мышление, средневековую соборную личность, для которой образцом человека выступал Христос, и, наконец, ренессансную личность, претендовавшую на роль Бога или, во всяком случае, херувима. Новоевропейская личность осознает себя центром мира, понимает свою жизнь и состояния как принадлежащие только ей, свои разум и свободу как направляемые только ею самой, видит свою жизнь как текущую из прошлого в будущее и т.п. (я не ставлю своей целью углубляться в эту поистине бесконечную тему).
Современный узел переживания смерти завязан еще туже, чем это было три тысячи лет тому назад. Во-первых, современная модель новоевропейской личности (правда, на не совсем ясных основаниях) включает в себя естественнонаучную модель человека. Во-вторых, современный человек более, чем древний, склонен жить условными, так сказать, «виртуальными» соображениями. К этому его постоянно приучают телевидение, кино, театр, художественная литература, собственные размышления и фантазии. Переживание своего посмертного существования — одна из любимых тем современного человека.
Можно ли вновь развязать узел переживаний смерти эзотерическим способом? Мамардашвили, например, мыслит именно в этом ключе. Но многих вряд ли устроит такой ход мысли, поскольку для них может оказаться чуждым эзотерическое мироощущение или данный конкретный вариант эзотеризма.
Вряд ли сегодня можно найти одно решение, устраивающее всех (кстати, и решение Платона устраивало не каждого). Мамардашвили подсказывает здесь сильный ход. Мы считаем, пишет он, что «Христа распяли и его агония случилась. А мистическое ощущение — это ощущение себя присутствующим во всем мире, во всех событиях мира; они случаются тогда, когда я присутствую. И поэтому распятие Христа принадлежит человеческой истории в той мере, в какой оно есть длящееся или неслучившееся событие, внутри которого мы не должны спать. Это событие длится вечно» (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995. — С. 302). Лично я понимаю это так: все волнующие меня проблемы и решения нельзя получить готовыми со стороны, пусть это даже гениальные прозрения; к ним нужно прийти самому, прийти в работе, возможно, и не один раз. Так же и проблема смерти. Каждый человек в течение своей сознательной жизни должен решать её сам и не раз.
Однако можно указать коридор, в котором располагаются современные решения этой касающейся каждого проблемы. Предыдущий анализ показывает, что смерть как экзистенциальный феномен не может быть рассмотрена в том ключе, в котором мы изучаем природные явления. Её нельзя мыслить как натуральный объект, как некую сущность, имеющую такие-то и такие-то характеристики. Безусловно, мы проникаем в свои представления, начинаем их мыслить и переживать как натуральные объекты, нам кажется, что смерть всегда была и всегда одинакова. Этот взгляд, эта привычка нашего сознания неправильны, смерть вообще не природный объект, смерть всегда воспринимается сквозь «очки культуры», всегда истолковывается сознанием и в определенном языке. Таким образом, современное понимание смерти предполагает её «распредмечивание», преодоление натурального восприятия, что, конечно же, предполагает напряженную интеллектуальную, и не только интеллектуальную, но и экзистенциальную работу.
Что может представлять собой подобная работа? Здесь есть два аспекта: критический и конструктивный.
Фромм Э. Искусство любить. —
http://psylib.org.ua/books/fromm03/index.htm. — 15.02.11.
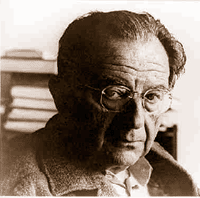 Является ли любовь искусством?
Является ли любовь искусством?
Является ли любовь искусством? Если да, то она требует знания и усилия. Или, может быть, любовь – это приятное чувство, испытать которое – дело случая, нечто такое, что выпадает человеку в случае удачи. Эта маленькая книга основана на первой предпосылке, хотя большинство людей сегодня, несомненно исходят из второй.
Не то чтобы люди считали любовь делом неважным. Они её жаждут, они смотрят бессчетное количество фильмов о счастливых и несчастливых любовных историях, они слушают сотни глупых песенок о любви, но едва ли кто-нибудь действительно думает, что существует какая‑то необходимость учиться любви. Эта особая установка основывается на нескольких предпосылках, которые порознь и в сочетании имеют тенденцию способствовать её сохранению.
Для большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтоб любить, уметь любить. Значит, сущность проблемы для них в том, чтобы их любили, чтобы они возбуждали чувство любви к себе. К достижению этой цели они идут несколькими путями. Первый, которым обычно пользуются мужчины, заключается в том, чтобы стать удачливым, стать сильным и богатым настолько, насколько позволяет социальная ситуация. Другой путь, используемый обычно женщинами, состоит в том, чтобы сделать себя привлекательной, тщательно следя за своим телом, одеждой и т. д. Иные пути обретения собственной привлекательности, используемые и мужчинами, и женщинами, состоят в том, чтобы выработать хорошие манеры, умение вести интересную беседу, готовность прийти на помощь, скромность, непритязательность. Многие пути обретения способности возбуждать любовь к себе являются теми же самыми путями, которые используются для достижения удачливости, для обретения полезных друзей и влиятельных связей. Очевидно, что для большинства людей нашей культуры умение возбуждать любовь это, в сущности, соединение симпатичности и сексуальной привлекательности.
Вторая предпосылка отношения к любви как к чему‑то, не требующему обучения, состоит в допущении, что проблема любви – это проблема объекта, а не проблема способности. Люди думают, что любить просто, а вот найти подлинный объект любви, – или оказаться любимым этим объектом, – трудно. Эта установка имеет несколько причин, коренящихся в развитии современного общества. Одна причина в большой перемене, произошедшей в двадцатом веке в отношении выбора «объекта любви». В викторианскую эпоху, как и во многих традиционных культурах, любовь не была в большинстве случаев спонтанным, личным переживанием, которое затем должно было вести к браку. Напротив, брак основывался на соглашении – то ли между семьями, то ли между посредниками в делах брака, то ли без помощи таких посредников; он заключался на основе учета социальных условий, а любовь, как полагали, начнет развиваться с того времени, как брак будет заключен. В течение нескольких последних поколений всеобщим стало в западном мире понятие романтической любви. В Соединенных Штатах, хотя соображения договорной природы брака ещё полностью не вытеснены, большинство людей ищут романтической любви, личного переживания любви, которое затем должно повести к браку. Это новое понимание свободы любви должно было в значительной мере повысить значение объекта в ущерб значению функции.
С этим фактором тесно связана другая характерная черта современной культуры. Вся наша культура основана на жажде покупать, на идее взаимовыгодного обмена. Счастье современного человека состоит в радостном волнении, которое он испытывает, глядя на витрины магазина и покупая всё, что он может позволить себе купить или за наличные или в рассрочку. Он (или она) и на людей глядят подобным образом. Для мужчины привлекательная женщина – для женщины привлекательный мужчина – это добыча, которой они являются друг для друга. Привлекательность обычно означает красивую упаковку свойств, которые популярны и искомы на личностном рынке. Что особенно делает человека привлекательным – это зависит от моды данного времени, как физической, так и духовной. В двадцатых годах привлекательной считалась умеющая пить и курить, разбитная и сексуальная женщина, а сегодня мода требует больше домовитости и скромности. В конце девятнадцатого и в начале двадцатого века мужчина, чтобы стать привлекательным «товаром», должен был быть агрессивным и честолюбивым, сегодня он должен быть общительным и терпимым. К тому же чувство влюбленности развивается обычно только в отношении такого человеческого товара, который находится в пределах досягаемости собственного выбора. Я ищу выгоды: объект должен быть желанным с точки зрения социальной ценности, и в то же время должен сам желать меня, учитывая мои скрытые и явные достоинства и возможности. Два человека влюбляются тогда, когда чувствуют, что нашли наилучший объект, имеющийся на рынке, учитывая при этом границы собственного обменного фонда. Часто, как при покупке недвижимого имущества, заметную роль в этой сделке играют скрытые возможности, которые могут быть развиты со временем. Едва ли стоит удивляться, что в культуре, где превалирует рыночная ориентация и где материальный успех представляет выдающуюся ценность, человеческие любовные отношения следуют тем же образцам, которые управляют и рынком.
Третье заблуждение, ведущее к убежденности, что в любви ничему не надо учиться, состоит в смешении первоначального чувства влюбленности с перманентным состоянием пребывания в любви. Если двое чужих друг другу людей, какими все мы являемся, вдруг позволят разделяющей их стене рухнуть, этот момент единства станет одним из самых волнующих переживаний в жизни. В нём всё наиболее прекрасное и чудодейственное для людей, которые были прежде разобщены, изолированы, лишены любви. Это чудо неожиданной близости часто случается легче, если она начинается с физического влечения и его удовлетворения. Однако такого типа любовь по самой своей природе не долговечна. Два человека всё лучше узнают друг друга, их близость всё более и более утрачивает чудесный характер, пока, наконец, их антагонизм, их разочарование, их пресыщенность друг другом не убивает то, что осталось от их первоначального волнения. Вначале они не знали этого всего; их, действительно, захватила волна слепого влечения. «Помешательство» друг на друге – доказательство силы их любви, хотя оно могло бы свидетельствовать только о степени их предшествующего одиночества.
Эта установка, что ничего нет легче, чем любить, – продолжает оставаться преобладающей идеей относительно любви вопреки подавляющей очевидности противного. Едва ли существует какая-то деятельность, какое-то занятие, которое начиналось бы с таких огромных надежд и ожиданий и которое всё же терпело бы крах с такой неизменностью, как любовь. Если бы это касалось какой-либо иной деятельности, люди сделали бы всё возможное, чтобы понять причины неудачи, и научились бы поступать наилучшим для данного дела образом – или отказались бы от этой деятельности. Поскольку последнее в отношении любви невозможно, то единственно адекватный способ избежать неудачи в любви – исследовать причины этой неудачи и перейти к изучению смысла любви.
Первый шаг, который необходимо сделать, это осознать, что любовь – это искусство, такое же, как искусство жить: если мы хотим научиться любить, мы должны поступать точно так же, как нам предстоит поступать, когда мы хотим научиться любому другому искусству, скажем, музыке, живописи, столярному делу, врачебному или инженерному искусству.
Какие шаги необходимы в обучении любому искусству?
Процесс обучения искусству можно последовательно разделить на два этапа: первый – овладение теорией; второй – овладение практикой. Если я хочу научиться искусству медицины, я должен в первую очередь познать определенные факты относительно человеческого тела и относительно различных болезней. Но даже когда я обрету все эти теоретические знания, я все ещё не смогу считаться сведущим во врачебном искусстве. Я стану мастером в этом деле после длительной практики, когда, наконец, результаты моего теоретического знания и результаты моей практики сольются в одно – в мою интуицию, составляющую сущность мастерства в любом искусстве. Но наряду с теорией и практикой существует третий фактор, необходимый для того, чтобы стать мастером в любом искусстве – овладение искусством должно стать предметом наивысшего сосредоточения; не должно существовать в мире ничего более важного, чем это искусство. Это относится к музыке, медицине, к столярному искусству – а также и к любви. И, может быть, именно здесь содержится ответ на вопрос, почему люди нашей культуры так редко изучают это искусство вопреки их очевидным неудачам в нём. Вопреки глубоко коренящейся жажде любви, почти всё иное считается едва ли не более важным, чем любовь: успех, престиж, деньги, власть. Почти вся наша энергия употребляется на обучение достижению этих целей, и почти никакой – на обучение искусству любви (С. 2 — 4).
Богданов В. В. Логика становления и семантика понятия свободы// Вестник ТГПИ. — Таганрог: ТГПИ, 2006. — № 2. — С.10 — 26. —
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000953/. — 15.02.11.
Хотя предметом статьи является генезис, логика зарождения нового смысла, связываемого с понятием свободы, представляется необходимым воспроизвести 3 наиболее употребимых контекста, в которых используется понятие свободы в обыденном (ненаучном) словоупотреблении. Именно от употребления этих смыслов в отношении понятия свободы предостерегали Б. Спиноза, И. Фихте, Й. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, К. Маркс, Ф. Энгельс, большая часть русских мыслителей 19 — 20 века.
В обыденном мышлении 2 основных традиции: 1. «Никакой свободы нет» — традиция столь противоречивая, что скорее можно говорить об экстравагантной форме самоутверждения тех, кто это говорит, чем о том, что они действительно так думают. Едва ли кто-то из них добавляет при этом, что и сами эти слова их кто-то или что-то заставляет произнести. 2.(Традиция наиболее распространенная): «свобода есть, но она ограничена». (Для первых — это противоречие. Подразумевается, что если свобода есть, то она должна быть абсолютной. А абсолютной свободы нет, так как все люди от чего-то зависят и, значит, несвободны). Именно сторонники «ограниченной свободы» и являются выразителями 3 обыденных смыслов:
А) свобода как независимость;
Б) свобода как выбор;
В) свобода как самостоятельность, возможность делать то, что хочешь.
А. «Свобода как независимость». Особенность первого смысла в том, что свобода определена через отрицательное понятие независимости (Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. — Москва.: Издательство «Республика», 1992. — С. 48, 101, 114). При этом положительным понятием оказывается зависимость. Так было в обыденном сознании до философии, так осталось в обыденном сознании, «не отягощенным философией», сейчас. Это абсолютные синонимы — свобода или независимость — для обыденного сознания. (И тогда В. И. Ленин справедливо полагал, что логически корректно говорить только: «свобода от чего»). Но у отрицательных определений есть один недостаток — они выражают не реальность, а только отношение или оценку какой-то положительной (онтологически существующей) реальности. (К примеру, болезнь — отрицательное определение, но не себя самого, а чего-то другого — организма. Реальностью обладает организм, а болезнь это несогласованность, противоречие в организме. И вызваны нарушения в организме реальностью — микробами или чьими-то действиями. А сама болезнь — это оценка работоспособности органической системы — отрицательная оценка деятельности организма. Поэтому, плохо тому пациенту, лечащий врач которого «лечит болезнь», а не организм). Отсюда вывод: за понятием свободы как отрицанием (независимостью) нет никакой реальности — и в этом смысле её нет.
Вывод: относительная свобода как категория может быть применена к материальной природе в смысле относительной независимости только нефилосовским мышлением. Так как в системе философских категорий объяснение процессов природы довольно продуктивно через категории необходимости и случайности, условия и обусловленности, причины и действия. Когда же употребляют оборот: «животное на свободе», то подразумевают не более чем метафору смысла: «не зависит от человека». Категория свободы не эвристична и не продуктивна в отношении физической природы.
Следовательно, и человека, со стороны его физической природы, не продуктивно рассматривать через категорию свободы. Не представляется корректным сказать, что «человек как материальная природа не свободен», так как он ещё «вне свободы». (Как, например, некорректно сказать, что «младенец некультурно ест, или ведет себя», если он о культуре ещё понятия не имеет). Поскольку же человек — не только материальная природа, в которой всё детерминировано (нет свободы), применяют второй смысл.
Б) «Свобода как выбор» (как наличие нескольких возможностей без детерминирующего влияния одной из них). Те, кто употребляют понятие свободы в этом смысле, скорее всего, говорят только о зависимости (Гегель Г. В. Ф. Система наук. — Часть 1. Феноменология духа. — СПб.: Наука, 1999. — С. 141). Это видимость положительного определения. «Иметь выбор» — значит: а) иметь проблему, т. е. ещё не иметь оснований поступить тем или иным образом. Высказывание «я могу выбрать», или имею «свободу» между вариантами 1, 2, 3, 4..» корректно прочесть так: «Я не знаю, что выбрать — 1, 2, 3, 4», т. е нужно решить проблему либо случайным, либо необходимым образом. Так как, если бы я знал, какой вариант необходим для моих целей, то говорить о выборе уже не пришлось бы; б) либо «в свободе как выборе» речь идет о наличии многих возможностей. В этом случае, понятие свободы ничем не отличается от понятия возможности. Но тогда, «по бритве Оккама» не нужно двух слов, если уже есть понятие возможности. Кроме того, возможность ещё не есть действительность. Следовательно, и о свободе тогда идет речь как о том, что еще недействительно.
В) «Свобода как возможность поступать так, как хочется». В истории философии традиционно такой смысл отождествляли с понятием произвола и справедливо отделяли от понятия свободы. Кроме того, такой смысл корректнее прочесть как «отсутствие определенных оснований для деятельности, кроме хотения». Само хотение может исходит из телесной природы (тогда это подчинение природной необходимости). Хотение может исходить и из природы мышления — как собственная субъективная цель деятельности («Я хочу жить вечно»). Субъективная цель без процесса своего достижения является только мыслимым образом, абстракцией; кроме того, хотеть — значит не иметь — лишенность чего-то или возможность потерять объект желания. В любом случае, наличие объекта хотения зависит не от нас (наше все при нас), а от природы объекта желания, обстоятельств (если это не голая абстракция). Значит, та же внешняя зависимость.
Эти и другие аргументы из истории философии против применения в философии обыденного смысла понятия свободы, независимо от того, соглашаются с ними или нет, не могут быть просто отброшены.
 2015-06-13
2015-06-13 716
716








