Круг шестой (продолжение)
Я устремлял глаза в густые чащи
Зеленых листьев, как иной ловец,
Из-за пичужек жизнь свою губящий,
Но тот, кто был мне больше, чем отец,
Промолвил: «Сын, пора идти; нам надо
Полезней тратить время под конец».
Мой взгляд – и шаг ничуть не позже взгляда –
Вслед мудрецам я обратил тотчас,
И мне в пути их речь была отрада.

Вдруг плач и пенье донеслись до нас, –
«Labia mea, Domine»,[879] – рождая
И наслажденье, и печаль зараз.
«Отец, что это?» – молвил я, внимая.
И он: «Быть может, тени там идут,
Земного долга узел разрешая».
Как странники задумчиво бредут
И, на пути настигнув проходящих,
Оглянут незнакомцев и не ждут,
Так, обгоняя нас, не столь спешащих,
Оглядывала нас со стороны
Толпа теней, смиренных и молчащих.
Глаза их были впалы и темны,
Бескровны лица, и так скудно тело,
Что кости были с кожей сращены.
Не думаю, чтоб ссохся так всецело
Сам Эрисихтон, даже досягнув,
Голодный, до страшнейшего предела.[880]
«Вот те, – подумал я, на них взглянув, –
Которые в Ерусалиме жили
В дни Мариам, вонзившей в сына клюв».[881]
Как перстни без камней, глазницы были;
Кто ищет «omo» на лице людском,
Здесь букву М прочел бы без усилий.[882]
Кто, если он с причиной незнаком,
Поверил бы, что тени чахнут тоже,
Прельщаемые влагой и плодом?
Я удивлялся, как, ни с чем не схоже,
Их страждущая плоть изморена,
Их худобе и шелудивой коже;
И вот из глуби черепа одна
В меня впилась глазами и вскричала:
«Откуда эта милость мне дана?»
Ее лица я не узнал сначала,
Но в голосе я сразу угадал
То, что в обличье навсегда пропало.
От этой искры ярко засиял
Знакомый образ, встав из тьмы бесследной,
И я черты Форезе[883] увидал.
«О, не гнушайся этой кожей бледной, –
Так он просил, – и струпною корой,
И этой плотью, мясом слишком бедной!
Скажи мне правду о себе, открой,
Кто эти души, два твоих собрата;
Не откажись поговорить со мной!»
«Твой мертвый лик оплакал я когда-то, –
Сказал я, – но сейчас он так изрыт,
Что сердце вновь не меньшей болью сжато.
Молю, скажи мне, что вас так мертвит;
Я так дивлюсь, что мне не до ответа;
Кто полн другим, тот плохо говорит».
И он: «По воле вечного совета
То древо, позади нас, в брызгах вод,
Томительною силою одето.
Поющий здесь и плачущий народ,
За то, что угождал чрезмерно чреву,
В алчбе и в жажде к святости идет.
Охоту есть и пить внушают зеву
Пахучие плоды и водопад,
Который растекается по древу.
И так не раз, пока они кружат,
Свое терзанье обновляют тени,
Или верней – отраду из отрад:
Ведь та же воля[884] шлет их к древней сени,
Что слала и Христа воззвать «Или!»[885],
Когда спасла нас кровь его мучений».
И я ему: «С тех пор, как плен земли
Твоя душа на лучший мир сменила,
Еще пять лет, Форезе, не прошли.
И если раньше исчерпалась сила
В тебе грешить, чем тяжкий твой порок
Благая боль пред богом облегчила,
То как же ты сюда подняться мог?
Я ждал тебя застать на нижней грани,
Там, где выплачивают срок за срок».[886]
И он мне: «Сладкую полынь страданий
Испить так рано был я приведен
Моею Неллой.[887] Скорбь ее рыданий,
Ее мольбы и сокрушенный стон
Меня оттуда извлекли до срока,
Минуя все круги, на этот склон.
Тем драгоценней для господня ока
Моя вдовица, милая жена,
Что в доблести все больше одинока;
Сардинская Барбаджа[888] – та скромна
И женской честью может похваляться
Пред той Барбаджей,[889] где живет она.
О милый брат, к чему распространяться?
Уже я вижу тот грядущий час,
Которого недолго дожидаться,
Когда с амвона огласят указ,
Чтоб воспретить бесстыжим флорентийкам
Разгуливать с сосцами напоказ.
Каким дикаркам или сарацинкам
Духовный или светский нужен бич,
Чтоб с голой грудью не ходить по рынкам?
Когда б могли беспутницы постичь,
Что быстрый бег небес припас их краю,
Уже им рты раскрыл бы скорбный клич;
Беда, – когда я верно предрекаю, –
Их ждет скорей, чем станет бородат
Иной, кто спит сейчас под «баю-баю».
Но не таись передо мною, брат!
Не – только я, но все, кто с нами рядом,
Глядят туда, где свет тобой разъят».
Я молвил: «Если ты окинешь взглядом,
Как ты со мной и я с тобой живал,
Воспоминанье будет горьким ядом.
От жизни той меня мой вождь воззвал,
На днях, когда над нами округленной
Была (и я на солнце указал)
Сестра того.[890] Меня он в тьме бездонной
Провел средь истых мертвых, и за ним
Я движусь, истой плотью облеченный.
Так я поднялся, им руководим,
Всю эту гору огибая кружно,
Где правят тех, кто в мире был кривым.
Он говорит, что мы дойдем содружно
До высоты, где Беатриче ждет;
А там ему меня покинуть нужно.
Так говорит Вергилий, этот вот
(Я указал); другой – та тень святая,
Которой ради дрогнул ваш оплот,
Из этих царств ее освобождая».
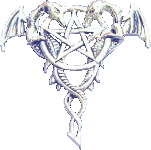
 2015-06-16
2015-06-16 251
251








