Круг пятый (продолжение)
Пред лучшей волей[807] силы воли хрупки;
Ему в угоду, в неугоду мне,
Я погруженной не насытил губки.[808]
Я двинулся; и вождь мой, в тишине,
Свободными местами шел под кручей,
Как вдоль бойниц проходят по стене;
Те, у кого из глаз слезой горючей
Сочится зло, заполнившее свет,[809]
Лежат кнаруже слишком плотной кучей.

Будь проклята, волчица древних лет,
В чьем ненасытном голоде все тонет
И яростней которой зверя нет![810]
О небеса, чей ход иными понят,
Как полновластный над судьбой земли,
Идет ли тот, кто эту тварь изгонит?
Мы скудным шагом медленно брели,
Внимая теням, скорбно и устало
Рыдавшим и томившимся в пыли;
Как вдруг вблизи «Мария!» прозвучало,
И так тоска казалась тяжела,
Как если бы то женщина рожала;
И далее: «Как ты бедна была,
Являет тот приют, где пеленицей
Ты свой священный отпрыск повила».
Потом я слышал: «Праведный Фабриций[811],
Ты бедностью безгрешной посрамил
Порок, обогащаемый сторицей».
Смысл этой речи так был сердцу мил,
Что я пошел вперед, узнать желая,
Кто из лежавших это говорил.
Еще он славил щедрость Николая,[812]
Который спас невест от нищеты,
Младые годы к чести направляя.
«Дух, вспомянувший столько доброты! –
Сказал я. – Кем ты был? И неужели
Хваленья здесь возносишь только ты?
Я буду помнить о твоем уделе,
Когда вернусь короткий путь кончать,
Которым жизнь летит к последней цели».
И он: «Скажу про все, хотя мне ждать
Оттуда нечего; но без сравненья
В тебе, живом, сияет благодать.
Я корнем был зловредного растенья,[813]
Наведшего на божью землю мрак,
Такой, что в ней неплодье запустенья.
Когда бы Гвант, Лиль, Бруджа и Дуак
Могли, то месть была б уже свершенной;
И я молюсь, чтобы случилось так.[814]
Я был Гугон, Капетом нареченный,[815]
И не один Филипп и Людовик
Над Францией владычил, мной рожденный.
Родитель мой в Париже был мясник;[816]
Когда старинных королей не стало,
Последний же из племени владык
Облекся в серое,[817] уже сжимала
Моя рука бразды державных сил,
И мне земель, да и друзей достало,
Чтоб диадемой вдовой[818] осенил
Мой сын свою главу и длинной смене
Помазанных начало положил.
Пока мой род в прованском пышном вене[819]
Не схоронил стыда, он мог сойти
Ничтожным, но безвредным тем не мене.
А тут он начал хитрости плести
И грабить; и забрал, во искупленье,
Нормандию, Гасконью и Понти[820].
Карл сел в Италии;[821] во искупленье,
Зарезал Куррадина;[822] а Фому
Вернул на небеса,[823] во искупленье.
Я вижу время, близок срок ему, –
И новый Карл его поход повторит,
Для вящей славы роду своему.
Один, без войска, многих он поборет
Копьем Иуды; им он так разит,
Что брюхо у Флоренции распорет.
Не землю он, а только грех и стыд
Приобретет, тем горший в час расплаты,
Что этот груз его не тяготит.[824]
Другой, я вижу, пленник, в море взятый,
Дочь продает, гонясь за барышом,[825]
Как делают с рабынями пираты.
О жадность, до чего же мы дойдем,
Раз кровь мою[826] так привлекло стяжанье,
Что собственная плоть ей нипочем?
Но я страшнее вижу злодеянье:
Христос в своем наместнике пленен,
И торжествуют лилии в Аланье.
Я вижу – вновь людьми поруган он,
И желчь и уксус пьет, как древле было,
И средь живых разбойников казнен.[827]
Я вижу – это все не утолило
Новейшего Пилата;[828] осмелев,
Он в храм вторгает хищные ветрила.[829]
Когда ж, господь, возвеселюсь, узрев
Твой суд, которым, в глубине безвестной,
Ты умягчаешь твой сокрытый гнев?
А возглас мой[830] к невесте неневестной
Святого духа, вызвавший в тебе
Твои вопросы, это наш совместный
Припев к любой творимой здесь мольбе,
Покамест длится день; поздней заката
Мы об обратной говорим судьбе.[831]
Тогда мы повторяем, как когда-то
Братоубийцей стал Пигмалион,
Предателем и вором, в жажде злата;[832]
И как Мидас в беду был вовлечен,
В своем желанье жадном утоляем,
Которым сделался для всех смешон.[833]
Безумного Ахана вспоминаем,
Добычу скрывшего, и словно зрим,
Как гневом Иисуса он терзаем.[834]
Потом Сапфиру с мужем[835] мы виним,
Мы рады синякам Гелиодора,[836]
И вся гора позором круговым
Напутствует убийцу Полидора;[837]
Последний клич: «Как ты находишь, Красс,
Вкус золота? Что ты знаток, нет спора!»[838]
Кто громко говорит, а кто, подчас,
Чуть внятно, по тому, насколь сурово
Потребность речи уязвляет нас.
Не я один о добрых молвил слово,
Как здесь бывает днем; но невдали
Не слышно было никого другого».
Мы от него немало отошли
И, напрягая силы до предела,
Спешили по дороге, как могли.
И вдруг гора, как будто пасть хотела,
Затрепетала; стужа обдала
Мне, словно перед казнию, все тело,
Не так тряслась Делосская скала,
Пока гнезда там не свила Латона
И небу двух очей не родила.[839]
Раздался крик по всем уступам склона,
Такой, что, обратясь, мой проводник
Сказал: «Тебе твой спутник оборона».
«Gloria in excelsis»[840] – был тот крик,
Один у всех, как я его значенье
По возгласам ближайших к нам постиг.
Мы замерли, внимая восхваленье,
Как слушали те пастухи в былом;
Но прекратился трус, и смолкло пенье.
Мы вновь пошли своим святым путем,
Среди теней, по-прежнему безгласно
Поверженных в рыдании своем.
Еще вовек неведенье[841] так страстно
Рассудок мой к познанью не влекло,
Насколько я способен вспомнить ясно,
Как здесь я им терзался тяжело;
Я, торопясь, не смел задать вопроса,
Раздумье же помочь мне не могло;
Так, в робких мыслях, шел я вдоль утеса.
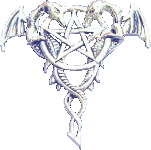
 2015-06-16
2015-06-16 346
346








