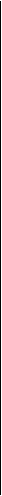
 ПРИРОДА АНАЛОГА В МЕНТАЛЬНОМ ОБРАЗЕ
ПРИРОДА АНАЛОГА В МЕНТАЛЬНОМ ОБРАЗЕ
Глава 1. Знание
Образ определен своей интенцией. Именно благодаря интенции образ Пьера является сознанием Пьера. Если рассмотреть эту интенцию в самом ее начале, когда она пробивается из спонтанности нашего сознания, то, сколь бы оголенной и бедной она ни казалась, она уже содержит в себе некоторое знание: предположительно — это наше знакомство с Пьером. Пусть это знакомство будет всего лишь пустым ожиданием, некоей направленностью: в любом случае это направленность на Пьера, ожидание в отношении Пьера. Одним словом, выражение «чистая интенция» есть соединение противоречащих друг другу терминов, так как она всегда на что-то направлена. Но в случае образа интенция не ограничивается некоей неопределенной нацеленностью на Пьера: она видит его высоким блондином со вздернутым или же орлиным носом и т. д. Таким образом, нужно, чтобы она содержала знания, двигалась сквозь некий сознательный слой, который можно было бы назвать слоем знания. Следовательно, в образном сознании знание от интенции можно отличить только путем абстрагирования. Интенция определяется только знанием, поскольку в образе мы представляем себе лишь то, что в известной мере нам уже известно, и наоборот, знание здесь — не просто знание, оно есть некий акт, есть то, что я хочу себе представить. Мне недостаточно всего лишь знать, что Пьер блондин; это знание должно быть реализовано на почве интуиции. Разумеется, его не следует рассматривать как некую добавку, присовокупляемую к уже конституированному образу, для того чтобы его пояснить, — им обусловлена действительная структура образа.
Образ не мог бы существовать без знания, которое его конституирует. В этом состоит глубинное основание феномена
127
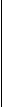 квази-наблюдения. Знание же, напротив, может существовать в свободном состоянии, то есть может само конституировать то или иное сознание.
квази-наблюдения. Знание же, напротив, может существовать в свободном состоянии, то есть может само конституировать то или иное сознание.
«Я утверждаю, — пишет Бюлер, — что в принципе любой объект вполне и с необходимой точностью можно мыслить без помощи образа. Я могу, не прибегая к представлению, с достаточной определенностью помыслить любой отдельно взятый оттенок голубого цвета на картине, висящей в моей спальне, если только этот объект может быть дан мне каким-либо иным способом, нежели посредством ощущений».1
Что следует понимать под этим знанием в свободном состоянии? Действительно ли оно нацеливается на объект? Один из испытуемых Бюлера сообщает нам об этом:
«Знаете ли вы, сколько основных цветов в изображении Мадонны из Сикстинской капеллы?». «Да. Сначала у меня возник образ Мадонны в ее облачении, потом образы двух других персонажей, в частности Святой Варвары в желтых одеждах. Таким образом, это были красный, желтый и зеленый цвета. Тогда я спросил себя, есть ли там еще и синий цвет, и без помощи образа понял, что он там представлен».
Знание нацеливается на синий цвет, поскольку он представлен на картине и поскольку это четвертый из основных цветов.
Сходным образом и по ответу одного из испытуемых Мессера («Слово „гора" вызывает у него „сознание" (сам он этот термин не употребляет) направленности на какую-то вещь, на которую по определению можно взобраться») видно, что гора понимается не как интуитивная реальность, но как некий образец. Впрочем, это хорошо показано и в классификации Бюлера. Он делит «Bewufitheiten»* на три категории, а именно сознание образца, сознание связи и сознание интенции. Последним, крайне неудачным, термином в конечном итоге у него обозначается сознание некоего порядка, некоей упорядоченности, или системы. Короче говоря, в своем чистом состоянии знание представляется сознанием отношений. Естественно, это сознание пусто, потому что чувственная материя мыслится здесь исключительно в качестве основы этих
отношений. Например, синий цвет на картине мыслится лишь как «четвертый основной цвет». Знание может быть уточнено, насколько мы того захотим, оно может охватывать множество различных отношений в едином сложном синтезе, может нацеливаться на конкретные отношения между индивидуальными объектами (например, г-н Лебрен может быть представлен мне как «выдающийся государственный деятель Франции»); может предшествовать суждению или сопровождать его; может даже соединиться с одним или несколькими знаками: оно все равно останется пустым сигнификативным сознанием. Но Гуссерль говорит,' что это пустое сознание может быть наполнено. Наполнено не словами — слова служат лишь опорой знанию. Именно в образе2 осуществляется интуитивное «наполнение» (Erfullung) значения. Если, к примеру, я мыслю «ласточку», то поначалу это всего лишь слово и всего лишь пустое значение. Если затем возникает образ, то происходит новый синтез и пустое значение становится сознанием, которое наполнено образом ласточки.
Мы должны признать, что эта теория нас шокирует. Прежде всего, что представлял бы собой образ за пределами сигнификативного синтеза? Мы не можем допустить, что образ является для того, чтобы «наполнить» пустое сознание, — он сам есть некое сознание. Кажется, что здесь Гуссерль пал жертвой иллюзии имманентности. Но всего более нас занимает проблема, которую можно назвать проблемой вырождения знания. Верно ли, что знание, выходя из свободного состояния и становясь интенциональной структурой образного сознания, не претерпевает никаких других изменений, кроме того, что становится наполненным? Не подвергается ли оно, напротив, некоей радикальной модификации. Психологи, которые методом экспериментальной интроспекции исследовали соотношение образа и мышления, наряду с чистым знанием, данным как «Bewufitheiten», «Be-wuBtseinlagen», «SpharenbewuBtsein»* и т. д., подметили у опрошенных ими лиц любопытные состояния, которые, хотя и не содержат никаких элементов представления, однако уже расцениваются ими как образы.
1 Biihler. Tatsachen und Problemc zu einer Psychologie der Denkvorgange И Arch. ges. Psych. 1907. Bd I. S. 321.
* Сознаваемое, осознанные предметы или идеи (нем.) (прим. перев.).
1 Husserl. Logische Untersuchungen. Т. II, ch. I; T. Ill, ch. I.
2 Но, разумеется, не в восприятии.
* «Сознаваемые предметы», «ситуации сознания», «сознание сфер» (, (прим. перев.).
128
5 Ж.-П. Сартр
129
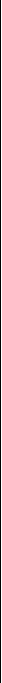 В протоколах Швите встречаются очень показательные записи:
В протоколах Швите встречаются очень показательные записи:
Г. Пациент I: «открытый».
«У меня возник неопределенный образ какого-то „отверстия"».
2'. Пациент II: «непохожие».
«Я видел два неопределенных и непохожих друг на друга объекта».1
Таким образом, перед нами отверстие, которое не проделано в каком-либо материале и даже не имеет определенной формы. Тем не менее в образе оно предстает как отверстие. А вот два объекта, у которых нет даже пространственных характеристик, то есть каких бы то ни было интуитивных качеств, благодаря которым их можно было бы отличить друг от друга, и тем не менее они оказываются схвачены в образе как непохожие. Спрашивается, чем же образ отличается от чистого знания. И все-таки он утверждает себя как образ.
Бюрлу высказывается еще более определенно. По поводу работ Мессера он пишет:
«„На более низком уровне — направление в пространстве, направленность вовне". При произнесении слова Атлант у второго испытуемого возникает зрительное представление о некоей области на карте. „Скорее всего, это направление уводит за пределы Средиземного моря...". Часто испытуемые сомневаются, как это назвать — образом или мыслью. При слове гвоздь первый из них отмечает, что в его сознании появляется зрительное или мысленное представление о какой-то веши, но ее природа такова, что от нее можно получить зрительное впечатление. ,Я подумал о чем-то длинном, заостренном". Для обозначения этих состояний пользуются такими выражениями, как знание, просто склонность к порождению зрительных представлений, „зачатки зрительных представлений и т. д."».2
Мы уже говорили, что, принимая участие в конституиро-вании образа, знание подвергается3 радикальной модификации.
1 Schwiete. ОЪег die psychische Representation der Begriffe // Arch. ges. Psych.
Bd XIX. S. 475.
2 Burloud. La Pensee d'apres les recherches experimentales de Watt, etc. Alcan,
1927. P. 68.
3 Это «подвергается» не следует понимать в буквальном смысле. Знанию
не свойственна пассивность, благодаря которой оно могло бы подвергнуться
чему бы то ни было. Лучше было бы сказать, что знание позволяет себе
несколько деградировать.
Это происходит с ним даже прежде, чем образ оказывается конституирован. Существуют сознания особого рода, которые, подобно чисто сигнификативным сознаниям, пусты, но при этом не являются чисто сигнификативными сознаниями. С самого начала утверждается их глубинная связь с чувственным миром. Они выступают как «зрительное или мысленное представление о какой-то вещи, но ее природа такова, что от нее можно получить зрительное впечатление». Мы далеки от того, чтобы признать «BewuBtheiten» Бюлера. Речь все еще идет о некоем знании, но уже о знании выродившемся.
Не соответствует ли это знание, выступающее в качестве «зачатка зрительного представления», динамической схеме Бергсона? В самом деле, в своей глубинной структуре оно определяется, по-видимому, связью с теми образами, которым еще предстоит возникнуть... «Оно состоит в ожидании появления образов, в определенной установке ума, которая предназначена либо для того, чтобы подготовить появление отчетливого образа, как в случае с памятью, либо для того, чтобы организовать более или менее продолжительную игру образов, способных в эту игру включиться, как в случае с творческим воображением. Оно пребывает в открытом состоянии, тогда как образ — в закрытом. В терминах становления оно динамически изображает то, что образы предлагают нам как полностью осуществленное, в статическом состоянии».1
В те времена, когда Бергсон выступил со своей теорией, динамическая схема представляла собой значительный шаг вперед по сравнению с ассоцианизмом. Сегодня же психология намного более свободна от влияния Тэна. Мышление не сводится к ощущению и определяется смыслом (meaning) и интенциональностью. Мышление — это акт. В свете этих новых тезисов динамическая схема кажется лишь робкой и не достигающей своей цели попыткой. Без сомнения, она уже представляет собой некое синтетически организованное целое, и это предпочтительнее, чем простая ассоциация образов. Но было бы бессмысленно искать у Бергсона позитивное описание интенциональности, которая ее учреждает. Такова постоянная двусмысленность бергсоновского динамизма: мелодические синтезы — но без синтезирующего акта; организация — без организующей силы. Такова и динамическая схема: она, без сомнения, динамична, как бывает динамична какая-либо сила
1 Bergson. L'Energie spirituelle. P. 199.
130
131
или, к примеру, вихрь. Но она нигде со всей ясностью не выступает как акт, а только как вещь.
Из этого фундаментального недостатка вытекает вся двусмысленность ее природы. В одном случае появляется некая переходная форма, которую может принимать представление:
«Интеллектуальная работа заключается в том, чтобы проводить одно и то же представление сквозь различные планы сознания в направлении от абстрактного к конкретному, от схемы к образу».1
В другом — организующая сила скрывается в тени того, что ей удалось организовать.
«...Это представление иного порядка, которое всегда способно осуществиться в образах, но всегда отлично от них,.. которое присутствует в работе порождения образов и содействует ей, но, когда дело его сделано, остается в тени уже сформированного образа».2
Равным образом невозможно в точности определить ту роль, которую в создании этих схем играет аффективность. Бергсон пишет:
«Когда я хочу припомнить какое-нибудь имя собственное, я сначала обращаюсь к общему впечатлению, которое у меня о нем сохранилось; именно оно будет играть роль „динамической схемы"».3 И далее:
«...я исхожу из общего впечатления, которое у меня от этого осталось. Это было странное впечатление, но странность его была вполне определенной. В ней словно господствовал дух варварства и грабежа».4
И все же эти впечатления не являются чисто аффективными, поскольку Бергсон называет свою схему5 «неразрывно связанной с некоторым содействием со стороны аффективное -ти».
По правде говоря, Бергсон не слишком утруждает себя стремлением к ясному описанию своей схемы. Для него важно прежде всего обнаружить в ней те качества, которым он придает значимость во всех своих описаниях сознания: схема есть некое становление;6 кроме того, ее элементы проникают
друг в друга.1 Именно этим взаимопроникновением и этой мелодической длительностью схема отличается от образа «с его устойчивыми контурами, с его рядоположенными частями». В ней есть жизнь, есть движение сознания. Она «рисует нам то, что было». Мы вновь встречаем здесь важные бергсоновские темы и классические оппозиции его системы; схема есть нечто подвижное и живое, образ же — нечто статичное и мертвое, пространство, которым движение ограничено.
Именно это противопоставление нам кажется здесь неудачным, именно оно мешает нам в общем и целом принять бергсонову дескрипцию. Прежде всего, мы уже сказали, что знание вовсе не исчезает, когда завершается конституирование образного сознания; оно не «уходит в тень» образов. Оно не является «всегда способным осуществиться в образах, но всегда отличным от них». Оно представляет собой действительную структуру образного сознания. Мы не можем согласиться со столь радикальным различением образа и схемы. В противном случае нам приходилось бы узнавать (apprendre) наши образы, как и наши восприятия; для этого нужно было бы наблюдать за ними; для того чтобы вести наблюдение, мы опять-таки нуждались бы в схемах, и так до бесконечности.
Кроме того, нам кажется, что такое понимание образа, как «представления,., части которого располагаются друг подле друга», обусловлено иллюзией имманентности. Друг подле друга части располагаются в объектах. Образ же есть некий внутренний синтез, характеризующийся действительным взаимопроникновением всех своих элементов. Вспомним тех персонажей из сновидений,2 которые одновременно могут быть и мужчиной и женщиной; и стариком и ребенком. Леруа очень тонко подметил, что в состоянии бодрствования наши образы, быть может, не менее полиморфны. Мы продемонстрируем это в следующей главе. Во всяком случае, целую категорию составляют образы, называемые Флахом3 символическими схемами и в своей изначальной нераздельности содержащие массу вещей, которые дискурсивная мысль должна будет проанализировать и расположить друг подле друга.
1 Ibid. P. 188 (курсив наш. - Ж.-П. С).
2 Ibid. P. 188.
3 Ibid. P. 193.
4 Ibid. P. 175.
5 Ibid. P. 178.
6 Ibid. P. 199-200.
1 Ibid. См., например, с. 189, 178: «Нераздельная схема» и т. д.
2 См.: Freud. Traumdeutung. P. 67. Сновидение Ирмы.
3 Flach A. Uber Symbolische Schemata im produktiven DenkprozeB // Arch. ges.
Psych. Bd II. P. 369, 599.
132
133
«Понять смысл слова „Бодлер".
В свободном пространстве, на абсолютно темном фоне я сразу же увидел сине-зеленое пятно, по цвету напоминающее купорос и как бы выплеснутое в это пространство одним-един-ственным широким взмахом кисти. Пятно было больше скорее в длину, чем в ширину, — быть может, раза в два. Сразу же явилось знание о том, что этот цвет должен выражать нечто болезненное, специфически декадентское, характерное для Бодлера. Я пытаюсь применить этот образ к Уайльду или Гюйсмансу, но это невозможно. Я ощущаю довольно сильное сопротивление, как если бы мне предлагали что-то противоречащее логике. Этот образ имеет силу лишь для Бодлера, и с этой минуты он становится для меня репрезентативным в отношении этого поэта».
Итак, следует оставить в стороне столь неопределенные выражения, как «становление», «динамизм» и т. д. Такая «сочувствующая жизни» психология уже отжила свое. Бергсон, без сомнения, видел, что существует такое состояние знания, которое можно назвать «ожиданием образов». Но это ожидание относится к тому же роду, что и сам образ. Кроме того, такое ожидание весьма своеобразно; знание ожидает как раз того, что оно само будет трансформировано в образ. Выражению «динамическая схема» мы также предпочли бы слова Шпайера1 об «ореоле образа», поскольку они хорошо показывают, что между пустым образным знанием и наполненным образным сознанием имеет место непрерывное следование.
Пациент II: «Ах, он так... Я запнулся, потому что знал то, что хотел сказать, еще до того, как явилось слово „...богат", я почувствовал как бы внутреннее освобождение, вырвалось это ах, — и нечто вроде внутреннего движения, сравнимого с быстро нарастающим воем сирены,., я чувствую, что это сейчас появится, оно уже приближается, я знаю, что понял... И вот появляется слово».2
Шпайер добавляет:
«Таким образом, обнаруживается склонность не доводить дело до конца: пытаясь сэкономить на самом образе, для того чтобы двигаться быстрее, довольствуются его ореолом...».
1 Spaier. L'Image mentale d'apres les experiences d'introspection // Revue phi-
losophique, 1914.
2 Ibid.
Мы полагаем, что между образным и чисто сигнификативным знанием существует большая разница, чем между образным знанием и образом в его развернутом виде. Но следует сделать это различие еще более глубоким и точно определить причины того вырождения, которое претерпевает знание, переходя из состояния чистого «meaning» в образное состояние. Для этого мы подробнее исследуем те особые случаи, когда образное знание предстает в своей чистоте, то есть как свободное сознание.
Показательны в этом отношении протокольные заметки вюрцбургских психологов: у испытуемых обнаруживаются пустые сознания двух типов.
Тип I: КРУГ. Сначала сознание вообще (allgemeines BewuBt-sein*), соответствующее понятию геометрической фигуры. Само слово не употреблялось.
Тип II: ТЕРПЕНИЕ-СМИРЕНИЕ. Особый вид сознания библейского характера.
ГОРДЫЙ КОРОЛЬ. «(Я чувствую), что переношусь в иную реальность, в реальность баллад и старинных сказаний... Направленность в прошлое Германии, где гордый монарх играл важную роль».1
Сознание «круга» является всеобщим, сознание «терпения и смирения» — особенным. Но между ними нет разницы. В самом деле, сознания типа I тоже могут быть особенными. Но в первом случае внимание направлено на образец, а во втором — на вещь. Рассмотрим это подробнее на другом примере.
Я читаю какой-то роман. Меня живо интересует судьба героя, который, к примеру, собирается бежать из тюрьмы. Я с огромным любопытством изучаю мельчайшие подробности приготовления к побегу. Тем не менее авторы единодушно отмечают, насколько бедны те образы, которые сопровождают процесс чтения.2 В самом деле, у большинства опрошенных образы возникают редко, притом они весьма несовершенны. Следовало бы также добавить, что по сути дела образы обычно появляются вне процесса чтения, когда, например, читатель
1 Messer. Experimental psychologische Untersuchungen des Denkens // Arch. ges.
Psych. 1906. Bd VIII. P. 1—224. Мессер характеризует сознания типа II как
аффективные.
2 См., например, Binet. Etude experimental de l'intelligence. P. 97.
* Всеобщее сознание (нем.) (прим. перев.).
134
135
возвращается в начало и припоминает события- предыдущей главы или когда он предается мечтам над книгой и т. д. Короче говоря, образы появляются во время остановок и перебоев в чтении. В остальное время, когда читатель захвачен повествованием, ментальный образ не появляется. Нам неоднократно доводилось установить это по своему собственному опыту, и многие из опрошенных нам это подтвердили. Обилием образов характеризуется рассеянное и часто прерываемое чтение.
Однако образный элемент при чтении не может отсутствовать полностью. Иначе как мы смогли бы объяснить интенсивность наших эмоций? Мы принимаем чью-то сторону, мы негодуем; некоторым случается и плакать. На самом деле, читая книгу, как и присутствуя на театральном представлении, мы оказываемся лицом к лицу с целым миром и приписываем этому миру точно такое же существование, как и миру театра, то есть полагаем, что он существует целиком в области ирреального. Вербальные знаки в отличие, к примеру, от математических не являются посредниками между чистыми значениями и нашим сознанием; они составляют ту плоскость, в которой мы соприкасаемся с этим воображаемым миром. Таким образом, чтобы правильно описать феномен чтения, нужно сказать, что читатель находится перед лицом некоего мира. Именно этим со всей определенностью доказывается (если, конечно, нуждается в доказательстве) существование того, что Бине называет «скрытыми образами».
«Наши образы зачастую более точны, чем мы предполагаем; знакомясь, например, с порядком появления образов, с мизансценами в какой-нибудь пьесе, мы, сами того не замечая, мысленно размещаем декорации. К примеру, мы должны набросать план сцены, для того чтобы сразу же осознать наше собственное положение на ней, ориентируясь по внутренне ощущаемому сопротивлению».1
Конечно, мы не можем согласиться с этим тезисом: для нас образ есть сознание, а выражение «скрытое сознание» было бы терминологически противоречиво. Однако следует признать, что есть все же некая структура, играющая роль этих так называемых скрытых образов, и эта структура — образное знание.
Сознание чтения есть сознание sui generis, имеющее собственную структуру. Когда мы читаем афишу или какую-нибудь вырванную из контекста фразу, мы попросту производим сигнификативное сознание, некий лексис. Если мы читаем научный труд, то производим сознание, в котором интенция в каждый момент будет сопряжена со знаком. Наша мысль, наше знание перетекают в слова, и мы осознаем их в этих словах, как объективное свойство слов. Естественно, эти объективные свойства не остаются обособленными, но связываются от слова к слову, от фразы к фразе, от страницы к странице; как только мы открываем книгу, перед нами возникает объективная сфера значений.
До этого момента ничего нового не появлялось. Речь все время шла об означающем знании. Но если наша книга — роман, то все меняется: сферой объективного значения становится ирреальный мир. Читать роман — значит принимать некую всеобщую установку сознания, и последняя в общих чертах напоминает установку театрального зрителя, перед которым поднимается занавес. Он готовится открыть для себя целый мир, который не будет ни миром восприятия, ни миром ментальных образов. Присутствовать на театральном представлении — значит узнавать в актерах персонажей пьесы, а в картонных деревьях — лес из «Asyou like it». *, Читать — значит, ориентируясь по знакам, вступать в контакт с ирреальным миром. В этом мире существуют растения, животные, деревни, города, люди — прежде всего те, о которых идет речь в книге[ а затем и множество других, остающихся не названными, но присутствующих на заднем плане и придающих плотность этому миру (в главе, содержащей описание бала, таковы, например, все те приглашенные, о которых ничего не говорится, но которые тем не менее находятся там и «образуют массу присутствующих»). Эти конкретные существа становятся объектами моих мыслей: их ирреальное существование коррелятивно тем синтезам, которые я произвожу, руководствуясь словами. Особенность состоит в том, что сами эти синтезы я произвожу по образцу перцептивных, а не сигнификативных синтезов.
Если я читаю: «Они вошли в кабинет Пьера», то эта простая ремарка становится приглушенной темой для всех дальнейших синтезов. Когда я дойду до рассказа об их споре,
Приведено у Делакруа по: Dumas. Traite de Psychologie. T. II. P. 118.
* «Как вам это понравится» (англ.) (прим. перев.).
136
137
 я размещу этот спор в кабинете. Вот, например, фраза: «он вышел, хлопнув дверью»; я знаю, что эта дверь ведет в кабинет Пьера, знаю, что его кабинет находится на четвертом этаже нового дома, а сам дом возведен в пригороде Парижа. Естественно, ничего этого нет в той единственной фразе, которую я прочел в этот момент. Чтобы знать эти подробности, нужно ознакомиться с предыдущими главами. Таким образом, все, что выходит за пределы голого значения прочитанной мною фразы, все, что развивает, ориентирует и локализует его, представляет собой объект знания. Но это знание не есть чистое «meaning». Я мыслю «кабинет», «четвертый этаж», «здание», «пригород Парижа» не в форме значения. Я мыслю их так, как мыслю вещи. Чтобы уловить разницу, достаточно прочесть одну фразу из доклада: «синдикат владельцев парижской недвижимости», и другую — из романа: «впопыхах он пробежал четыре этажа здания». Что изменилось? Изменилось не само содержание знания о недвижимости. Изменился тот способ, которым мы о нем узнали. В первом случае сознание нацеливается на содержание знания как на образец; во втором — как на объект. Бесспорно, в знании всегда присутствует пустое сознание какого-либо порядка, образца. Но в одном случае оно нацеливается сначала на порядок, а в рамках этого порядка — на объект (некоторым весьма неопределенным способом, как на «то, что поддерживает порядок», то есть на очередное отношение), а в другом случае оно нацеливается сначала на объект, а порядок имеется в виду лишь постольку, поскольку он этот объект конституирует.
я размещу этот спор в кабинете. Вот, например, фраза: «он вышел, хлопнув дверью»; я знаю, что эта дверь ведет в кабинет Пьера, знаю, что его кабинет находится на четвертом этаже нового дома, а сам дом возведен в пригороде Парижа. Естественно, ничего этого нет в той единственной фразе, которую я прочел в этот момент. Чтобы знать эти подробности, нужно ознакомиться с предыдущими главами. Таким образом, все, что выходит за пределы голого значения прочитанной мною фразы, все, что развивает, ориентирует и локализует его, представляет собой объект знания. Но это знание не есть чистое «meaning». Я мыслю «кабинет», «четвертый этаж», «здание», «пригород Парижа» не в форме значения. Я мыслю их так, как мыслю вещи. Чтобы уловить разницу, достаточно прочесть одну фразу из доклада: «синдикат владельцев парижской недвижимости», и другую — из романа: «впопыхах он пробежал четыре этажа здания». Что изменилось? Изменилось не само содержание знания о недвижимости. Изменился тот способ, которым мы о нем узнали. В первом случае сознание нацеливается на содержание знания как на образец; во втором — как на объект. Бесспорно, в знании всегда присутствует пустое сознание какого-либо порядка, образца. Но в одном случае оно нацеливается сначала на порядок, а в рамках этого порядка — на объект (некоторым весьма неопределенным способом, как на «то, что поддерживает порядок», то есть на очередное отношение), а в другом случае оно нацеливается сначала на объект, а порядок имеется в виду лишь постольку, поскольку он этот объект конституирует.
Но что следует здесь понимать под объектом! Нужно ли вслед за Бюлером полагать, что «я могу, не прибегая к представлению, с достаточной определенностью помыслить любой отдельно взятый оттенок голубого цвета на картине»? По нашему мнению, допускать это - значит совершать фундаментальную ошибку не только психологического, но и онтологического порядка. Индивидуальный оттенок «синего цвета» и знание принадлежат двум разным порядкам существования. Синий цвет этого портрета относится к сфере невыразимого. Уже Кант указывал на непреодолимую разнородность ощущения и мысли. Индивидуальность этого особого оттенка синего цвета, который я вижу перед собой, конституируется как раз тем, что придает ощущению его чувственный характер. Следовательно, чистая мысль не может быть наце-
138
лена на него в такой форме. Она будет мыслить-его извне в той мере, в какой тот является субстратом того или иного отношения, например как «четвертый основной цвет на изображении Сикстинской Мадонны» или как «занимающий такое-то место на цветовой шкале». Пытаться уловить его напрямую — значит стремиться увидеть его. Но для того чтобы попытаться увидеть этот уникальный и конкретный оттенок синего как таковой, нужно уже обладать им как таковым, иначе как бы мы узнали то, что хотели увидеть? Стало быть, знание может уловить объект лишь благодаря его сущности, то есть благодаря определенному порядку его качеств. Однако образное знание не будет нацеливаться на этот порядок сам по себе. Оно еще не может нацеливаться на синий цвет и уже не хочет нацеливаться на «четвертый основной цвет в изображении Сикстинской Мадонны». Оно нацелено на нечто, являющееся этим четвертым цветом. Отношение скрывается за вещью. Но вещь тут — это всего лишь «нечто», то есть некое смутное, внешнее полагание в пустоте, и этот смутный и внешний его характер точно определен теми отношениями, которые оказались скрыты его плотностью. Это хорошо показано в примере, который мы уже цитировали:
«При слове гвоздь испытуемый отмечает, что в его сознании появляется зрительное представление о какой-то вещи, — или же понятие о ней, но такое, что от него можно получить зрительное впечатление. ,Я подумал о чем-то длинном, заостренном"».
Если знание не выражается в понятиях, то оно утверждается само по себе как ожидание зрительного впечатления. За неимением лучшего, оно предъявляет свое содержание как нечто длинное и заостренное.
Речь, по-видимому, идет о радикальном изменении интенции. Чистое знание является дообъектным, по крайней мере, когда оно не связано со словом. Это означает, что формальная и объективная сущности в нем не различены. Оно появляется в той форме, которую у Бине один испытуемый называет «одно чувство под видом другого», и в этой форме представляет собой для испытуемого нечто вроде неточных сведений относительно его собственных способностей («да, я знаю», «я мог бы узнать», «искать следовало бы именно в этом направлении») и вместе с тем содержит в себе знание некоторых объективных отношений (длинный, заостренный, четвертый основной цвет, геометрические фигуры), одним
139
словом, речь идет о двойственном сознании, которое одновременно предстает и как пустое сознание некоей структуры объективных отношений, и как наполненное сознание субъективного состояния.
Напротив, образное знание есть сознание, стремящееся трансцендировать себя и полагать отношение как бы извне. Правда, оно не утверждает при этом, что оно истинно, — мы получили бы тогда лишь некое суждение. Но оно полагает свое содержание как существующее при посредстве некоей достаточно плотной реальности, которая служит его репрезентантом. Эта реальная вещь, разумеется, вовсе не дана нам даже в своей недифференцированной и весьма всеобщей форме как «нечто». Она только имеется в виду. Образное знание выступает, следовательно, как попытка определить это «нечто», как стремление достичь области интуитивного, как ожидание образа.
Вернемся к сознанию чтения. Фразы романа пропитаны образным знанием; именно его, а вовсе не простые значения, я улавливаю в словах: синтезы, которые, как мы видели, страница за страницей конституируют объективную сферу значений, не будут просто синтезами отношений; они синтетически связывают нечто, отличающееся тем или иным качеством, с нечто, обладающим той или иной характеристикой. Отношения будут упорядочены не так, как это происходит при денотативном обозначении понятия; их синтез развертывается по образцу, сообразно которому они должны соотноситься между собой так, как соотносятся между собой различные качества одного объекта. Например, кабинет Пьера становится чем-то, что находится в здании, а здание становится чем-то, что находится на улице Эмиля Золя.1
Отсюда следует любопытное изменение той роли, которую играют знаки. Как известно, в целом они воспринимаются в форме слов и каждое слово имеет собственный облик. В общих чертах мы можем сказать, что для читателя романа слова сохраняют ту знаковую роль, основные характеристики которой были даны в предыдущей главе. Но образное знание слишком стремится достичь интуиции, которая наполнила бы его, чтобы оставить попытки, по крайней мере, время от времени навязывать знаку роль репрезентанта какого-либо
объекта, — после этого оно пользуется знаком как рисунком. В облике слова предстает облик объекта. Происходит контаминация с реальным. Когда я читаю фразу «эта очаровательная особа», эти слова, бесспорно и прежде всего, означают определенную молодую женщину, героиню романа. Но они в известной степени представляют мне ее красоту; они играют роль того нечто, что является красивой молодой женщиной. Этот случай встречается чаще, чем полагают. Двелсховерс1 приводит любопытные примеры, подтверждающие наш тезис. Он предлагает испытуемому словарные пары, а тот должен сказать, согласуются или не согласуются между собой эти два термина. Безусловно, установка испытуемого отличается от установки человека, читающего роман. Однако слова тут довольно часто играют репрезентативную роль:
«По предъявлении пары „сочувствие—сострадание" у испытуемого возникает подспудная мысль о том, что согласованность здесь отсутствует. Отозвавшись на эту мысль, он начинает анализировать свой ответ и не находит ему подтверждения. Вновь вспоминая об этой своей реакции в конце серии экспериментов, испытуемый будто бы припоминает, что буква Т больше выделялась среди остальных в слове „сочувствие" (sympathie), чем в слове „сострадание" (Pitie). Отсюда у его возникло ощущение несогласованности этих букв с внешним видом слов».
Таким образом, речь здесь идет вовсе не о пустом образном знании: слово часто играет репрезентативную роль, не отказываясь и от сигнификативной, и при чтении мы имеем дело с неким гибридным — полу-сигнификативным, полу-образ-ным сознанием.
Образному знанию не обязательно предшествует чистое. В большинстве случаев (например, при чтении романов) объекты знания с самого начала даны как корреляты образного знания. Чистое знание, то есть простое знание отношений, приходит после. В некоторых случаях, которые мы рассмотрим в дальнейшем, чистое знание представляется недостижимым идеалом. В этом случае сознание оказывается в плену у своей образной установки.
Сначала вещи предстают перед нами как наличествующие. Если мы исходим из знания, то видим, что образ рождается
1 Само собой разумеется, мы не рассматриваем здесь ту роль, которую в сознании чтения играет эффективность.
1 Dwelihauvers. Traite de psychologie. Payot, 1928. P. 122, 124.
140
141
в результате усилия мысли войти в соприкосновение с этими существующими вещами. Рождение образа происходит одновременно с вырождением знания, которое нацеливается теперь не на отношения как таковые, но на отношения как субстанциальные качества вещей. Это пустое образное знание, которое Шпайер называет «ореолом образа», очень часто встречается в жизни сознания. Оно появляется и исчезает, не реализуясь в образах, однако мы все же успеваем очутиться, так сказать, на границе образа. Позднее испытуемый бывает не очень-то уверен в том, имел ли он дело с «проблеском образа», с «ореолом образа» или с понятием.
Глава 2. Аффективность
С самого начала необходимо изложить некоторые замечания по поводу глубинной природы аффективности. Работы Брентано, Гуссерля и Шелера утвердили в Германии определенное понимание чувственности, знакомство с которым пошло бы на пользу французским психологам. По правде говоря, в рубрике, посвященной аффективности, французская психология остается современницей Рибо.1 Если мы откроем новое исследование Дюма, то найдем в нем старые напыщенные дискуссии о периферическом и интеллектуалистском тезисах. Со времен Джемса и Нагловского в психологии аффективности достигнуты некоторые успехи. Но само понятие чувственности не стало более понятным.2 Двелсховерс верно резюмирует общее мнение, говоря о том, что аффективное состояние «есть некое переживание». Это выражение, как и комментарии к нему, имеет своим следствием радикальное отделение чувства от его объекта. Чувство представляется чем-то вроде чисто субъективного и невыразимого потрясения, которое, хотя и имеет весьма индивидуальную окрашенность, остается сосредоточенным в субъекте, который это потрясение испытывает. В сущности оно остается всего лишь осознанием
1 Ribot. Psychologie des sentiments.
2 Исключение следовало бы сделать для работ Жане (Janet. De l'Angoisse
a I'Extase) и Валлона, стремящихся представить аффективность как особую
разновидность поведения. Однако само понятие поведения, в котором, безус
ловно, уже отражается некоторый прогресс, остается непроясненным и проти
воречивым. См. мою брошюру: Esquisse d'une theorie des Emotions (Hermann,
1939).
тех или иных органических изменений. И ничем кроме этого Это чистая субъективность, чисто внутренняя сфера. Отсюда вытекают все те же положения, согласно которым аффективность представляет собой примитивную стадию психического развития: на этой стадии мир вещей еще не существует, как, впрочем, и коррелятивный ему мир людей. Существуют 'лишь переживания, поток субъективных, невыразимых качеств. В конечном итоге аффективность смешивается с кинестезией Признается несомненным, что аффективные состояния наиболее часто связаны с представлениями. Но эти связи устанавливаются извне. Речь идет не о живом синтезе представления и чувства: мы остаемся в механической области ассоциаций Перенос, конденсация, деривация, сублимация — все это уловки ассоцианистской психологии. Не продвинулась дальше и литература: отвергнув старую и глубокую паскалевскую теорию любви-уважения, писатели XIX века изображали чувства как совокупность прихотливых явлений, которые иногда случайно соединяются с представлениями, но в сущности не имеют реальной связи со своими объектами. А еще лучше сказать, что чувства вовсе не имеют объектов. Связь между моей любовью и любимым человеком для Пруста и его последователей имеет- по сути дела лишь характер смежности. В этом отношении у психологов и романистов дело доходит до своего рода аффективного солипсизма. Причина возникновения этих диковинных концепций состоит в том, что ощущение отделяется от его значения.
На самом деле не существует аффективных состояний, то есть неких инертных содержаний, влекомых потоком сознания и время от времени, в силу случайного сопряжения, закрепляющихся в представлениях. Рефлексия говорит нам об аффективных сознаниях. Радость, тоска, меланхолия — суть сознания. И мы должны применять к ним основной закон сознания: всякое сознание есть сознание чего-либо. Одним словом, чувства имеют особую интенциональность, они представляют собой один из способов трансцендировать себя. Ненависть есть ненависть к кому-либо, любовь есть любовь к кому-либо. Джемс говорил: устраните физиологические проявления ненависти, негодования, и у вас останутся лишь абстрактные суждения, а аффективность исчезнет. Сегодня мы можем ему ответить: попробуйте реализовать в себе субъективные проявления ненависти, негодования так, чтобы эти феномены не были ориентированы на ненавистную личность,
142
143

 на несправедливое действие, — вас может бить дрожь, вы можете стучать кулаком, краснеть, но ваше внутреннее состояние ничуть не будет затронуто негодованием или ненавистью. Ненавидеть Поля — значит интенционально усматривать в нем трансцендентный объект некоего сознания. Но не следует совершать и интеллектуалистскую ошибку, полагая, что Поль дан как объект интеллектуального представления. Чувство нацеливается на тот или иной объект, но оно нацеливается на него своим собственным, а именно, аффективным способом. Классическая психология (то есть уже Ларошфуко) утверждает, что чувство является сознанию в субъективной окрашенности. При этом рефлексирующее сознание путают с неотрефлексированным. Чувство как таковое предстает перед рефлексирующим сознанием, значение которого как раз и состоит в том, чтобы осознать это чувство. Но чувство ненависти не есть сознание ненависти. Оно сознает Поля как ненавистного; любовь не является сознанием самой себя: она есть сознание прелестей любимого человека. Сознавать Поля как человека ненавистного, раздражающего, симпатичного, вызывающего беспокойство, привлекательного, отталкивающего и т.д., значит каждый раз приписывать ему новое качество, конституировать его в новом измерении. В каком-то смысле эти качества не являются собственными качествами объекта, и, в сущности, сам термин «качество» неточен. Было бы лучше' сказать, что они задают смысл объекта и тем самым являются аффективной структурой: в своей полноте они пронизывают объект; когда они исчезают (как, например, в случае деперсонализации объекта), это не затрагивает восприятия, не касается это и внешнего вида вещей, и тем не менее мир оказывается существенно обедненным. Таким образом, чувство в некотором смысле представляет собой разновидность познания. Если я люблю тонкие и белые руки некоей особы, то направленная на эти руки любовь может рассматриваться как один из способов, которым они являются моему сознанию. Именно чувство нацеливается на их тонкость, их белизну, живость их движений: что значила бы любовь, если бы она не была любовью к этим качествам? Следовательно, здесь мы имеем дело с определенным способом, которым мне может быть явлена тонкость, белизна и живость. Но это познание не имеет отношения к интеллекту. Можно было бы сказать, что любить тонкие руки — это определенный способ любить эти руки тонкими. Кроме того, не осуществляет ли сама любовь
на несправедливое действие, — вас может бить дрожь, вы можете стучать кулаком, краснеть, но ваше внутреннее состояние ничуть не будет затронуто негодованием или ненавистью. Ненавидеть Поля — значит интенционально усматривать в нем трансцендентный объект некоего сознания. Но не следует совершать и интеллектуалистскую ошибку, полагая, что Поль дан как объект интеллектуального представления. Чувство нацеливается на тот или иной объект, но оно нацеливается на него своим собственным, а именно, аффективным способом. Классическая психология (то есть уже Ларошфуко) утверждает, что чувство является сознанию в субъективной окрашенности. При этом рефлексирующее сознание путают с неотрефлексированным. Чувство как таковое предстает перед рефлексирующим сознанием, значение которого как раз и состоит в том, чтобы осознать это чувство. Но чувство ненависти не есть сознание ненависти. Оно сознает Поля как ненавистного; любовь не является сознанием самой себя: она есть сознание прелестей любимого человека. Сознавать Поля как человека ненавистного, раздражающего, симпатичного, вызывающего беспокойство, привлекательного, отталкивающего и т.д., значит каждый раз приписывать ему новое качество, конституировать его в новом измерении. В каком-то смысле эти качества не являются собственными качествами объекта, и, в сущности, сам термин «качество» неточен. Было бы лучше' сказать, что они задают смысл объекта и тем самым являются аффективной структурой: в своей полноте они пронизывают объект; когда они исчезают (как, например, в случае деперсонализации объекта), это не затрагивает восприятия, не касается это и внешнего вида вещей, и тем не менее мир оказывается существенно обедненным. Таким образом, чувство в некотором смысле представляет собой разновидность познания. Если я люблю тонкие и белые руки некоей особы, то направленная на эти руки любовь может рассматриваться как один из способов, которым они являются моему сознанию. Именно чувство нацеливается на их тонкость, их белизну, живость их движений: что значила бы любовь, если бы она не была любовью к этим качествам? Следовательно, здесь мы имеем дело с определенным способом, которым мне может быть явлена тонкость, белизна и живость. Но это познание не имеет отношения к интеллекту. Можно было бы сказать, что любить тонкие руки — это определенный способ любить эти руки тонкими. Кроме того, не осуществляет ли сама любовь
интенцию в отношении тонкости этих пальцев как репрезентативного качества: она проецирует на объект определенную окрашенность, которую можно было бы назвать аффективным смыслом этой тонкости и этой белизны. Лоуренсу, когда он, казалось бы, всего лишь описывает форму и цвет объектов, в совершенстве удается сделать так, чтобы мы попали под воздействие этих приглушенных аффективных структур, конституирующих более глубокую реальность. Вот, например, англичанка, которая не может противиться странному очарованию индейцев.
«Говорил все время один и тот же человек. Он был молод, его большие, сверкающие глаза, черные и живые, искоса разглядывали ее. На смуглом лице приятно выделялись черные усы и редкая курчавая бородка. Его длинные, черные, полные жизни волосы свободно ниспадали на плечи. У него была такая темная кожа, что складывалось впечатление, будто он давно не мылся».1
Репрезентативный аспект сохраняет некую первичность. Белые и тонкие руки, их оживленные движения появляются сначала как чисто репрезентативный комплекс, а затем определяют аффективное сознание, которое придает им новое значение. В этих обстоятельствах может возникнуть вопрос, что происходит, когда мы производим аффективное сознание в отсутствие объекта, на который оно нацелено.
Поначалу возникает искушение преувеличить первичность репрезентативного аспекта. Многие станут утверждать, что, для того чтобы вызвать какое-либо чувство, всегда необходимо представление. Нет ничего более ошибочного. Прежде всего, чувство может быть вызвано другим чувством. Кроме того, даже в том случае, когда именно представление пробуждает чувство, ничто не говорит о том, что чувство будет нацелено на это представление. Если я вхожу в комнату, где жил мой друг Пьер, вид хорошо известной мебели, несомненно, может дать мне повод к тому, чтобы у меня возникло аффективное сознание, направленное непосредственно на нее. Но этот вид может спровоцировать и такое чувство, которое будет нацелено на самого Пьера, исключив все другие объекты. Проблема остается во всей своей полноте.
1 Lawrence. The Woman who rode away. См. также описания лесника в «Любовнике леди Чаттерлей», Дона Киприано в «Змее в перьях», капитана в «Captain's Doll».
144
145
Таким образом, я полагаю, что в случае, когда упомянутая особа отсутствует, у меня вновь возникает чувство, которое некогда вызвали во мне ее прекрасные белые руки. Для пущей ясности предположим, что оно свободно от всякого знания. Очевидно, речь здесь идет о пограничном случае, но у нас есть возможность такой случай вообразить.
Это чувство не является чисто субъективным содержанием, оно не может не подчиняться закону всякого сознания — оно трансцендирует себя, при анализе его содержания мы обнаружили бы первоначальное содержание, которое призваны оживить весьма особые интенциональности; короче говоря, это чувство есть аффективное сознание этих рук. Только руки, на которые оно нацелено, это сознание не полагает таковыми, то есть как синтез представлений. Знание и чувственные представления совершают ошибку (согласно гипотезе). Это, скорее, сознание чего-то тонкого, грациозного, чистого, со строго индивидуальным оттенком тонкости и чистоты. Без сомнения, все, что мне представляется уникальным в этих руках и что не могло бы выразиться в знании, будь оно знанием образным, — цвет кожи на кончиках пальцев, форма ногтей, морщинки вокруг фаланг — все это мне является. Но эти детали не выступают в своем репрезентативном аспекте: я сознаю их как неразличенную и не поддающуюся никакому описанию массу. И эта аффективная масса характеризуется тем, чего недостает самому ясному и самому полному знанию: она наличествует. В самом деле, чувство наличествует, и аффективная структура объектов конституируется, коррелируя с определенным аффективным сознанием. Таким образом, чувство не является пустым сознанием; оно уже кое-чем обладает. Эти руки даны мне в своей аффективной форме.
Предположим теперь, что мое чувство не является просто аффективным напоминанием об этих руках; кроме этого, допустим, что я их желаю. Желание, естественно, есть прежде всего сознание желаемого объекта, ведь я не могу желать как-нибудь иначе. Однако, — если предположить, что оно свободно от какого бы то ни было знания, — оно не может повлечь за собой познание своего объекта, оно не может само по себе полагать его как представление. Таким образом, желание должно примешиваться к аффективному сознанию своего объекта в новом синтезе. Следовательно, желание в каком-то смысле уже есть обладание; для того чтобы оно желало этируки, нужно, чтобы оно полагало их в аффективной
форме, и направляется оно именно на этот их аффективный эквивалент. Но оно не познает их в качестве рук. Так, после утомительной и бессонной ночи мне случается ощутить зарождение некоего в высшей степени определенного желания. В аффективном плане его объект строго определен, в нем нельзя ошибиться; однако я не знаю, в чем оно состоит. Желаю ли я выпить какого-нибудь освежающего и подслащенного напитка; хочу ли я спать, или же речь идет о сексуальном желании? Напрасно всякий раз я извожу себя предположениями. По-видимому, я становлюсь жертвой иллюзии: мое сознание рождается на фоне усталости и принимает форму желания. Это желание, разумеется, полагает какой-то объект; но последний не существует иначе, нежели как коррелят некоего аффективного сознания: это не напиток, не сон, он вообще не относится к сфере реального, и любая попытка определить этот коррелят по своей природе обречена на провал.
Одним словом, желание есть слепое усилие, направленное на то, чтобы в репрезентативном плане обладать тем, что мне уже дано в аффективном плане; посредством аффективного синтеза оно нацеливается на нечто потустороннее, что оно предчувствует, не имея возможности познать; оно направляется на аффективное «нечто», данное ему в настоящее время, и схватывает его как репрезентант желаемого. Таким образом, в случае желания структура аффективного сознания уже оказывается структурой образного сознания, поскольку, как и в случае образа, наличный, осуществленный синтез замещает собой отсутствующий репрезентативный синтез.
Одна из психологических теорий, называемая «теорией констелляций» или «законом интереса» и постоянно встречающаяся вплоть до сочинений Рибо, говорит о том, что чувство осуществляет выбор среди образных констелляций и вовлекает в сознание ту из них, которая послужит его фиксации. Поэтому Энар мог написать: «Всякая волна аффектов у существа, обладающего сознанием, стремится породить образ, в котором она получит свое оправдание; всякое чувство, связанное с внешним объектом, стремится получить оправдание и выразить себя благодаря внутреннему представлению этого объекта».
В таком случае образ был бы психическим образованием, в корне инородным аффективным состояниям, но большинство аффективных состояний сопровождались бы образами,
146
147
притом что в случае желания в образе представлено то, чего мы желаем. Эта теория полнится ошибками: тут и смешение образа с его объектом, и иллюзия имманентности, и отрицание аффективной интенциональности, и полное непонимание природы сознания. В действительности, как мы только что видели, образ представляет собой для чувства что-то вроде идеала, для аффективного сознания он представляет собой некое предельное состояние, то, в котором желать в то же время означало бы и познавать. Образ, выступающий в качестве нижнего предела, к которому стремится вырождающееся знание, предстает и в качестве высшего предела, к которому направлена стремящаяся познать себя аффективность. Быть может, образ как раз и является синтезом аффективности и знания?
Чтобы хорошо понять природу такого синтеза, надо отказаться от сравнений, руководствующихся представлениями о физической смеси: в сознании знания, которое было бы в то же время и аффективным сознанием, не могут иметь места, с одной стороны, знание, а с другой — чувства. Сознание всегда прозрачно для самого себя; следовательно, оно должно в одно и то же время в полной мере быть и знанием, и аффектив-ностью.
Вернемся к прекрасным белым рукам: если вместо чистого аффективного сознания я произвожу когнитивно-аффективное сознание, то эти руки в одно и то же время оказываются объектом и знания и чувства, или, скорее, они полагаются эффективностью, которая является знанием, и познанием, которое является чувством. Желание полагает объект, который является аффективным эквивалентом этих рук: нечто трансцендентное, нечто, что не есть я, что дано как коррелят моего сознания. Но в то же время это нечто появляется для того, чтобы наполнить образное знание, и я постигаю, что оно вполне соответствует этим «двум рукам». Такая уверенность появляется внезапно: по отношению к этому аффективному объекту я нахожусь в установке квази-наблюдения. Эти руки действительно присутствуют здесь: проникающее в них знание полагает их для меня «как руки такой-то особы, как белые руки и т. д.»; в то же время чувство в аффективном плане воспроизводит все, что есть невыразимого в ощущении белизны, тонкости и т. д.; оно придает этому пустому знанию ту непрозрачность, о которой мы говорили в предыдущей главе. Я знаю, что трансцендентный объект, присутствующий здесь, перед моим сознанием, соответствует двум белым и
тонким рукам; в то же время я чувствую эту белизну и эту тонкость и, самое главное, эту всегда столь своеобразную природу рук. Но одновременно я осознаю, что эти руки еще не достигли уровня существования. Передо мной лишь замещающий их эквивалент, конкретный и наполненный, но неспособный существовать сам по себе. Когда этот эквивалент присутствует, он в полной мере сообщает мне об этих руках, но в то же время его природе свойственно требовать, чтобы присутствовали руки, которые он полагает, и я сознаю, что нацеливаюсь на них через него. Следует вспомнить, чем характеризуется сущность ментального образа:1 это определенный способ, которым обладает объект, для того чтобы отсутствовать в самой глубине своего присутствия. Мы вновь обнаруживаем здесь эту характерную черту; и в самом деле, только что описанный нами аффективно-когнитивный синтез есть не что иное, как глубинная структура сознания образа. Несомненно, нам еще встретятся и более сложные образные сознания, у которых аффективный элемент, напротив, почти полностью исключен, но если мы хотим постичь образ в его истоке, то исходить нужно именно из этой структуры. Впрочем, многие образы больше ничего и не содержат. Это имеет место во всех тех случаях, когда объектом образа является цвет, вкус, какой-нибудь пейзаж, выражение лица, короче говоря, когда образ в принципе нацелен на иные чувственные качества, нежели на форму и движение. «Я не могу, — говорит Стендаль, — видеть физиономии вещей. У меня есть лишь моя детская память. Я вижу образы, я вспоминаю, как они действовали на мое сердце, но не знаю причин этих физиономий. Я вижу череду образов, очень четких, но лишенных физиономии. Более того, я вижу эту физиономию, лишь припоминая то действие, которое она на меня произвела».2
Г л а в а 3. Движения
Многие авторы подчеркивали тесную связь, существующую между образами и движениями. Гийом в своей диссертации показал, как образ мало-помалу становится «моторной причиной движений и в то же время контролирующим их элемен-
1 См. наст, кн., часть И, гл. 1.
2 Стендаль. Жизнь Анри Брюлара.
148
149
том».1 Эксперименты Двелсховерса2 доказывают, по-видимому, что образ не может возникнуть без совокупности мельчайших движений (дрожание пальцев и т. д.). Но все эти наблюдения стремятся лишь представить образ в качестве условия движений. Нам же, напротив, хотелось бы знать, не играют ли движения, то есть кинестетические ощущения, более существенную роль в конституировании образа.
Отправной точкой для нас станут любопытные исследования Пьерона.3 Он предлагал вниманию испытуемых ту или иную фигуру, слагавшуюся из перепутанных между собой линий, а затем просил их нарисовать эту фигуру по памяти. Вот некоторые замечания, которые он смог сделать по этому поводу:
«Г-н С... С четвертого раза его взгляд становится методичным. Ему хотелось бы высказать некоторые замечания в словах, но на это у него нет времени, он водит глазами и воспроизводит линии вслед за движением глаз. Понаблюдав за результатом, он водит глазами по линиям, одновременно сопровождая их движениями рук, копирующих линии... произносит вполголоса несколько слов („здесь!", „хорошо"), которыми отмечает остановки, вызванные новым наблюдением, неясно сформулированным замечанием...
Г-н Т... При первом предъявлении фигуры удивлен обилием линий и тем, насколько трудно в них разобраться; когда тест забирают, у него создается впечатление, что образ остается, и он пытается поскорее его зарисовать, но образ ускользает столь стремительно, что он терпит неудачу. Поскольку в первый раз он смотрел только на длинные линии, при втором предъявлении он не узнает фигуру. Он знает, поскольку это отложилось у него в уме, что здесь и там встречаются и короткие линии, но не помнит, как они расположены. Понемногу он расширяет свое знание с помощью наблюдения и замечаний (здесь острый угол, там — две почти параллельные линии, одна линия немного длиннее другой... и т. д.). Если понаблюдать за ним, видно, что, рассматривая линии, он поворачивает голову (притом что положение глаз остается почти неизменным) и двигает руками. Г-н Ф... Старается отметить геометрические характеристики; сразу же замечает маленький треугольник в левой части теста, но не может установить необходимые „приемы". Он
пересчитывает линии, различает сходящиеся и параллельные и т. д. Фигуру рассматривает издали, немного двигая при этом глазами... К концу недели в воспроизведении заметно искажающее влияние геометрической схематизации: главные линии оказываются сгруппированы в виде ромба...».
Таким образом, стремясь воспроизвести фигуру, эти испытуемые совершают движения или делают мнемотехнические ремарки, которые, в конце концов, сводятся к образцам для совершения определенных движений. Впоследствии, когда испытуемые сформируют образное сознание этой фигуры, эти слегка намеченные или полностью осуществленные движения послужат основой для возникновения образа.
Объект был представлен им посредством зрительных восприятий. Поскольку мы в принципе бываем непосредственно осведомлены о движениях нашего тела при помощи особых, а именно кинестетических, ощущений возникает вопрос: «Как могут кинестетические ощущения служить материей образного сознания, которое нацеливается на объект, поставляемый зрительными восприятиями?».
Сам этот факт не вызывает сомнений: у Двелсховерса он подтвержден целым рядом экспериментов.1
«Существуют, — пишет он в заключение, — ментальные образы, представляющие собой сознательное воплощение некоторых мышечных сопряжений. Эти сопряжения не воспринимаются субъектом, но позволяют возникнуть в его сознании образу, очень отличающемуся от них самих. Иначе говоря, генезис наших ментальных образов проходит иногда следующие этапы: 1) идея какого-либо движения, которое должно быть совершено; 2) мышечное сопряжение, в котором эта идея, эта моторная интенция воплощается, притом что субъект не отдает себе отчета в своей моторной реакции, в своей установке как таковой; 3) образ, возникающий в сознании как регистрация моторной реакции и качественно отличный от элементов самой этой реакции».
Но объяснения определенным таким образом феноменам мы не получаем. Сам способ, которым Двелсховерс описывает их, далек от того, чтобы его можно было счесть удовлетворительным. Попытаемся в свою очередь изложить имеющиеся факты и, если это возможно, объяснить их.
1 Guillaume. L'Imitation chez l'enfant. P. 1—27.
2 Dwelshauvers. Les Mecanismes subconscients 1925
3Art. cit. P. 134. Fig. I.
1 См.: Dwelshauvers. L'Enregistrement objectif de l'image mentale // VII th. Intern. Congress of Psychology и Les mecanismes subconscients. Alkan, edit.
150
151
Мои глаза открыты, я смотрю на указательный палец правой руки, выписывающий в воздухе какие-то кривые линии и геометрические фигуры. В большей или меньшей степени я могу видеть эти кривые линии, следя за кончиком моего пальца. В самом деле, известная устойчивость отражений, запечатлевающихся на сетчатке глаза, является причиной того, что некий размытый след остается там, откуда уже переместился мой указательный палец. Но это еще не все: различные положения моего пальца не даны мне следующими друг за другом и изолированными. Разумеется, каждое его положение наличествует как конкретное и неизбежное. Но эти наличные положения не связываются извне в качестве простых содержаний сознания. Они глубочайшим образом связаны между собой посредством синтетических актов разума. Гуссерль замечательно описал эти особые интенции,1 исходящие из некоего живого и конкретного «теперь» и направляющиеся к только что прошедшему, чтобы его удержать, и к ближайшему будущему, чтобы его предвосхитить. Он называет их «ретенциями» и «протенциями». Ретенция, конституирующая непрерывность движения, сама по себе не является образом. Именно пустая интенция направляется к той фазе движения, которая только что исчезла (на языке психологии мы сказали бы, что имеем дело с неким знанием, сосредоточенным в наличном зрительном ощущении), и именно благодаря ей это теперь может появиться также и как отличающееся особым качеством после, как такое после, которое следует не за каким угодно ощущением, а в точности за тем, которое только что исчезло. В свою очередь протенция есть некое ожидание, и это ожидание выявляет то же самое ощущение также и как некое до. Разумеется, это ощущение определено как «до» с меньшей строгостью, чем как «после», поскольку — кроме тех особых случаев, когда мы совершаем заранее определенное движение, — ощущение, которое последует, неизвестно нам в полной мере; но это последующее ощущение уже предначертано благодаря достаточно точному ожиданию: я ожидаю, что на основе некоего определенного положения возникнет зрителъное-ошущение-произведенное-движением-моего-ука-зателъного-палъца. В любом случае ретенция и протенция конституируют смысл наличного зрительного впечатления: не будь этих синтетических актов, едва ли можно было бы еще
Husserl. Lecons phenomenologiques sur la Conscience interne du Temps.
говорить о каких бы то ни было впечатлениях; это до и это после, являющиеся коррелятами упомянутых актов, даны не как пустые формы, однородные и безразличные рамки, — они суть конкретные и индивидуальные отношения, в которых актуальное ощущение находится с конкретными и индивидуальными впечатлениями, предшествующими этому ощущению и следующими за ним.
Но следует уточнить: всякое сознание есть сознание чего-либо {de quelque chose). Простоты ради мы только что описали ретенцию и протенцию в их нацеленности на впечатления. В действительности же они нацеливаются на объекты, конституированные посредством этих впечатлений, то есть на траекторию движения моего" указательного пальца. Естественно, она выступает в явлении как статичная форма; она дана как путь, который проделал мой палец и, с меньшей определенностью (в отношении дальнейшего изменения его настоящего положения), как путь, который ему еще предстоит пройти. Кроме того, пройденный путь — или часть этого пути _ имеет вид размытого светящегося следа, произведенного устойчивостью отпечатков на сетчатке глаза.
К этим зрительным впечатлениям, конституированным как неподвижные, прибавляются собственно кинестетические впечатления (ощущения на поверхности кожи, в мышцах, в сухожилиях и суставах), которые в скрытом виде сопутствуют зрительным. Ими представлены наиболее слабые, полностью подчиненные элементы, а также искаженные под воздействием устойчивых и ясных зрительных восприятий. Вне всякого сомнения, на их основе тоже возникают ретенции и протен-ции; но эти вторичные интенции строго подчинены ретенциям и протенциям, нацеленным на зрительные впечатления. Кроме того, поскольку кинестетическая устойчивость отсутствует, они вскоре после возникновения стираются.
Теперь я закрываю глаза и проделываю своим пальцем движения, аналогичные предыдущим. Можно было бы предположить, что кинестетические впечатления, на этот раз избавленные от зрительных доминант, проявятся ярко и отчетливо. Однако ничего подобного не происходит. Конечно, зрительное ощущение исчезло, но равным образом мы констатируем и исчезновение кинестетического ощущения. То, что достигает нашего сознания, есть траектория движения как некая форма в процессе ее порождения. Когда я кончиком указательного пальца выписываю восьмерку, то, что мне является, есть восьмерка
152
153
в процессе ее конституирования, почти как те буквы кинорекламы, что сами по себе появляются на экране. Безусловно, эта форма дана на кончике моего пальца. Но она не явлена мне как кинестетическая форма. Она явлена как зримая фигура.
Но эта зримая фигура, как мы видели, не дана посредством зрительных ощущений: она выступает как то, что я мог бы увидеть на кончике своего пальца, если бы открыл глаза; это зрительная форма, данная в образе. Быть может, вслед за Двелсховерсом, мы попробуем сказать, что движение вызывает образ. Но такая интерпретация неприемлема: во-первых, образ непосредственно схватывается на кончике моего указательного пальца. Далее, — поскольку мы не можем допустить, чтобы движение вызывало образ, само оставаясь неосознанным,1 — кинестетические ощущения, согласно этой гипотезе, должны были бы продолжить свое существование в вызванном ими образе. Стало быть, они обладают еще меньшей независимостью, чем когда их маскируют аутентичные зрительные впечатления, — образ как бы поглощает их, и, если они появляются при попытке их обнаружить, это их появление сопровождается исчезновением образа. Тогда, быть может, нам просто следует сказать, что кинестетические впечатления
 2018-02-13
2018-02-13 212
212








