Повернуло на вторую половину дня.
– Панцуй! – донеслось до меня слабое восклицание Саввы Петровича. Я мигом оказался подле корневщика. Савва Петрович стоял на коленях в густой и высокой траве. Виднелась лишь его серая кепка. Я пригнулся и с трудом разглядел в траве одинокую красную точечку. Присмотревшись пристальнее, увидел один‑единственный плодик на зеленом соцветии, один‑единственный.
Не поднимаясь с колен и делая пассы, словно профессиональный гипнотизер, Савва Петрович приблизился к ростку женьшеня. Движениями сомнамбулы начал отгребать от ростка – хилого, тощего дистрофика – палые листья, опалывать траву вокруг. Старик не замечал меня.
Что самое странное, дистрофик был сипие – растение с четырьмя листьями, которые розеткой окружали стебель. Корню наверняка исполнилось более двадцати лет.
Савва Петрович вынул из‑за пазухи две костяные палочки и движениями часовщика принялся отгребать почву от стебелька растения. Мне подумалось, что корневщик не дышит. Однако, видимо утомившись, Савва Петрович выпрямился, не поднимаясь с колен, потер поясницу:
– Вот говорят, убегает в землю женьшень от недоброго человека. Смотрите – чуть не утек.
А «утечь» он и вправду собирался. «Шейка» корня, как женьшенщики называют корневище, ушла глубоко в землю.
– Посидел бы корень еще лет пять в земле, еще глубже утек, – сказал я.
– Ишь… Кто ж его туда тащит?
– Женьшень сам втягивается в землю. Есть такие растения со втягивающимся корнем. Зимой он, словно медведь, как и все наши растения, спит. Весной пробуждается, тянется корешками‑мочками вглубь за влагой. Уходят в землю корешки, отсасывают воду и корень за собой тащат. Бывает, что женьшень за одно лето на два сантиметра в землю уходит. Это точно.

– А ведь вот уходит, – обрадованно сказал Савва Петрович. – Недаром говорят! Что же тогда бывает, когда пустой корень находят? Мякоти внутри не остается.
– Повредил его кто‑то… Он сгнивает. Одна пробковая оболочка остается. Как у старого хрена.
Савва Петрович недовольно покачал головой.
– Больно просто…
– Не совсем. Просто мы привыкли считать растение, дерево вроде бы мертвым. А на самом деле растения живые. Не меньше, чем любое животное. Ведь корень зарывает в грунт зимующую почку. Может, потому, что в процессе приспособления корень выработал в своей биологии именно такие механизмы, он и дожил до наших дней. Ведь женьшень – древнее, реликтовое растение.
– Верно ведь, – улыбнулся Савва Петрович.
– Как же вы, корневщики, объясняете, что корень женьшеня часто не стоит в земле, как морковка, а лежит на боку? Барчуком этаким, лентяем? – спросил я в свою очередь.
– Больше так: раз похож на человека, то и привычки человеческие. Лежачие корни очень полезны.
– Правильно подмечено, лежащий корень по качеству лучше.
– Ложится‑то он зачем?
– Почвы в тайге бедные. Плодородный слой всего несколько сантиметров. От силы два десятка. Вот и не хочет, человеческим языком говоря, женьшень идти в глубину, где пищи мало, и ложится. В таком положении сколько ни расти, всегда перегноя древесного будет достаточно. Любит женьшень этот древесный перегной. Потому и «гоняется» за ним.
Передохнув за разговором, Савва Петрович принялся снова выкапывать щуплый корешок. Я стоял, прислонившись к обросшему мхом камню. С точки зрения корневщика, при выкопке женьшеня я не годился даже в разнорабочие. Я размышлял о том, как трудно дать научное обоснование эмпирически найденному народом открытию действия женьшеня. А казалось бы, все очень просто.
Не только врачей, но и больных теперь нисколько не удивляет назначение при самых различных заболеваниях глюкозы и витаминов, этих общеукрепляющих средств. Но уже одно понятие «повышение неспецифической сопротивляемости» вызывает недоумение. Однако «специфическое» или «неспецифическое» объясняется несложно. Прививка, вакцинация, повышает сопротивляемость организма к определенному заболеванию, а состояние неспецифической повышенной сопротивляемости, если не гарантирует, то во всяком случае помогает организму в его борьбе против многих заболеваний и вредных воздействий.
На одном из челябинских заводов в осеннее время был проведен опыт с адаптогеном дибазолом. В течение десяти дней рабочим давали дибазол. Количество простудных заболеваний сократилось наполовину. Было сохранено здоровье сотням людей. Многие из них избежали губительных осложнений. Экономисты, безусловно, подсчитали, что дало такое профилактическое мероприятие заводу. А затраты? Четвертинка таблетки 0,02–всего 0,005 на прием. Три четверти таблетки в день.
Во Владивостоке такой же опыт был проведен с элеутерококком. Его получали десять дней люди, которые недавно прибыли в город и плохо акклиматизировались. Гнилая приморская весна и коренных жителей нередко укладывает в постель. Из четырехсот человек, принимавших профилактически в течение десяти дней настойку элеутерококка, заболело легкой формой простуды всего пятеро.
Но дело не только в простуде. Есть болезни, куда более серьезные и сложные. Однако большинство из них начинается стереотипно – реакцией напряжения: недомоганием, потерей аппетита, исхуданием. Вот эту реакцию и решено было использовать в качестве фармакологической мишени.
Не верно, что адаптогены можно было бы сравнить с живой водой, спасающей от гибели. Нет, животные, подвергнутые сильному стрессорному воздействию, погибали. Но важно было установить картину их борьбы за жизнь.
Все адаптогены – дибазол, женьшень, элеутерококк – в равной степени препятствовали исхуданию животных, появлению кровоизлияний в желудке, атрофии печени, почек, сердца.
Это основное, главное, то, что мы искали.
Я уверен, что по нашей работе можно спорить о многом, можно не соглашаться с нами по частностям, но два вывода практически неоспоримы. Они твердо установлены. Кто бы ни стал проводить и повторять эксперименты подобного порядка, придет к двум фактам. Во‑первых, адаптогены изменяют течение стресса, и, во‑вторых, эти изменения благоприятны для организма и свидетельствуют о повышении его сопротивляемости.
И все‑таки я чувствую, что это выводы только наши, нашей группы, нашего института. Пока я не вижу, как подойти к более широкому обобщению.
Шеф, пожалуй, посоветовал бы…
А Савва Петрович все еще оперировал корень. Я насчитал тридцать восемь мочек, когда он наконец поднялся с корешком в руках. Женьшень был величиной с мизинец, но очень походил на человечка. Это доставило Савве Петровичу большую радость. Он нянчился с ним, словно с младенцем, бородатым и сморщенным.
– А мочковат‑то! Мочковат‑то! – восклицал он.
Когда стало смеркаться, мы отправились в лагерь. Нас заждались, волновались. Но отужинали. Пал Палыч мыл миски. Никодим сидел нахмурившись, глядел в огонь. Вздернув брови, он посмотрел на нас блеклыми старческими глазами.
– Все поперезабыл. Али места так изменились?
Савва Петрович передал конверт с корешком Пал Палычу. Тот достал плоский деревянный ящичек, открыл его. Там оказались старые аптекарские весы с разновесами.
– Шесть и три десятых грамма. А выглядит он на все сто рублей. Ишь какой лесовичок.
– Ты мне его не считай, Пал Палыч, – Савва поднес ложку ко рту, но задержал хлебок. – Себе возьму. Больно хорош.
– Спать пора, – то ли приказал, то ли посоветовал Никодим. – Завтра через реку переправимся. Еще одну сопочку обломаем. Может, пофартит.
Пишу на тот случай, если нам не удастся выбраться. Главное, жаль, что, может быть, не удастся закончить работу, довести ее до конца. Да… А месяц назад я считал: в диссертации нельзя изменить ни строчки.
Но прав был шеф.
Теперь мне ясно: в том виде, в каком я сдал диссертацию шефу, она не закончена. Далеко не закончена. Огромный, нужный, просто необходимый материал словно позабыт мною. А он очень важен, принципиально важен.
Не знаю, будут ли нас искать и найдут ли эти записки. Возможно, если и станут искать, то не скоро. Разверстые хляби небесные, как сказал Никодим, наверное, натворили в долинах такого, что теперь не до нас.
Никто не ведает, где мы. Может быть, речная коловерть, вооруженная торпедами‑таранами в виде плавника, пощадит нас, обитающих на ветвях, подобно нашим узконосым предкам.
Ладно. Об этом потом. Обо всем потом. А сейчас лишь бы плавник не сбил кедр. Даже Никодим не помнит такого наводнения, называет его потопом. Это видно и по кедру, на котором мы нашли убежище. И про это потом. Сейчас только о главном.
Теперь, когда казалось, что работа закончена, мне совершенно необходимо заново просмотреть всю литературу по адаптогенам. Но уже в свете своей темы «Проблемы фармакологической регуляции стресса». Яне сомневаюсь: такой подход во многом дополнит диссертацию. Ведь наши эксперименты проведены в довольно ограниченном объеме. И будет непростительной глупостью опустить уже известные достоверные данные. Их полно. Они, данные о воздействии адаптогенов на стресс, спрятаны, словно ядрышки в скорлупе, в других отличных научных работах. Хотя те посвящены совсем иным темам, в них, помимо воли авторов и независимо от цели исследования, четко прослеживается действие адаптогенов на реакцию напряжения.
Насколько же широк круг воздействий, к которым адаптогены повышают сопротивляемость?
Здесь, на кедре, на крохотной площадке, что кое‑как соорудили Никодим и Пал Палыч, у меня нет научной библиотеки. Придется записывать на память.
В историческом плане действие адаптогенов впервые было изучено при нагрузках, требующих мышечного напряжения. Оказалось, что адаптогены повышают работоспособность. Дибазол, женьшень и элеутерококк проявили себя почти одинаковыми по силе. Они увеличивали продолжительность принудительного, до полного утомления, плавания мышей с нагрузкой на сорок четыре – сорок девять процентов.
За первыми сообщениями последовал целый поток работ. Известно, что стресс – системная реакция, в ней участвуют многие системы и органы. В нашей работе определялись лишь некоторые данные по эндокринной системе. Но литературные источники показывают ряд фактов влияния адаптогенов на проявление стресса, на нарушения со стороны нервной системы, сердечно‑сосудистой деятельности, формулы крови, обмена веществ и так далее.
Адаптогены влияют на течение многих приспособительных реакций и патологических процессов: воспаление, развитие иммунитета, регенерацию, злокачественный рост. Сказанного достаточно. Важно, чтобы в случае чего (плавать‑то я не умею) записи четко передали основную мысль: широкий спектр действия адаптогенов объясняется проявлением одного свойства – их способностью регулировать развитие общего приспособительного синдрома.
Знобит, в глазах словно горсть песку. Мы снова в охотничьей избушке с черноствольной березой на дерновой крыше. На столе тонким языком коптит жировичок. Рядом, на лавке, лежит Пал Палыч. Он бредит. Я ничем не в состоянии ему помочь. Единственное, чем я могу облегчить его страдания, – класть на его пылающий лоб тряпицу, смоченную в холодной воде, подносить к его запекшимся губам чашку с кислым соком лимонника.
Я врач, который знает все происходящее в организме больного. Я могу описать химическими формулами едва ли не все патологические процессы, совершающиеся в больном. Я твердо представляю, что нужно больному. Но у меня ничего нет для лечения, даже для облегчения его страданий. Будто я оказался в середине прошлого столетия.
Никодим и Савва Петрович смотрят на меня словно на колдуна пли святого, которому стоит лишь подойти к одру страждущего, как тот восстанет и пойдет. Нет, больной не восстанет и не пойдет. У Пал Палыча крупозная пневмония. Надо за три‑четыре дня доставить Пал Палыча в больницу или здесь достать пенициллин, что равносильно чуду воскрешения. Иначе я не поручусь за жизнь Пал Палыча.
Аккуратнейший, щепетильнейший Пал Палыч прекратил прием женьшеня еще в мае и пил перед едой стопочку, двадцать граммов разведенного спирта, «чтоб не отвыкнуть». Все знали. Не знал лишь я. Таким образом, получилось, что контрольным «подопытным кроликом» оказался не я, а Пал Палыч…
На следующее утро после находки Саввой Петровичем хилого, дистрофичного корня Пал Палыч пошел с «малопулькой» добыть дичинки на обед. Явился он к полудню. Пал Палыч был увешен рябчиками и фазанами. Я подумал, что так, наверное, должен выглядеть страстный охотник по перу из Подмосковья, впервые попавший в благодатные дальневосточные края.
– Зачем вы столько набили? – спросил я.
– Счастья решил попытать, – ответил Пал Палыч и крикнул в избушку – Никодим!
Вышел заспанный Никодим с воздетыми на лоб бровями, посмотрел на пестрый ворох дичи у порога, удовлетворенно крякнул.
– Я и на той стороне был. Четырех рябчиков да двух фазанов стрелил. Перья на хвостах у них заломаны для отметки, – сказал Пал Палыч.
– Оно, может быть, и повезет.
Я пока не понимал, о чем речь.
– А остальных мы как узнаем? – спросил Савва Петрович.
– Узнаем, – ответил Пал Палыч. – Тоже заметки есть. Не без этого. Разберемся. Было бы в чем.
Никодим принялся рыться в тушках, нашел птиц с заломанными хвостами.
– Очень та сопочка, между прочим, любопытна…
Пал Палыч вытащил чайник из потухшего, но сохранившего под пеплом жар костра, принялся чаевать.
Любопытство разбирало меня сверх всякой меры.
Положив на порожек голову рябчика, Савва Петрович ударом ножа отсек ее и, не дав себе труда ощипать птицу, ловким движением вскрыл тушку. Потом он вытащил из рябчика зоб, желудок и кишки. Все остальное, что, собственно, и годилось в пищу, он отшвырнул ударом ноги. Затем вскрыл зоб и стал с видом авгура копаться в травинках и камешках, которыми тот был набит.
Никодим поступил так же, а Пал Палыч пил чай и внимательно и настороженно приглядывался к действиям того и другого.
– Ни черта! – и Савва Петрович взялся за следующую птицу.
Пал Палыч хмыкнул:
– А ты в первом же зобу хотел семена найти?
Мне осталось лишь обругать себя за недогадливость. Чего проще! Еще на первых уроках ботаники я слышал о том, что семена некоторых деревьев съедаются и разносятся птицами. Женьшень – редкое растение, но у него яркие ягоды. Обычно рябчики и фазаны не уходят далеко от своих гнездовий. Тогда остается установить место, где убита птица, и в радиусе километра‑двух обшарить каждый квадратный метр земли и найти женьшень.
– Вскрывать я умею. Давайте помогу.
– Помоги, – кивнул Пал Палыч.
Я протянул руку к тушкам, отобранным Саввой Петровичем.
– Из кучи бери, – бросил он.
Не ощущая все‑таки особого доверия к этой женьшеневой рулетке, я взял первую попавшуюся птицу из кучи и занялся привычным делом. Мой рябчик оказался «пустым номером».
– Вот! – Савва Петрович протянул на ладони три женьшеневых семени. – В зобу нашел.
Корневщики повскакали с мест и принялись рассматривать костянки. На мою долю семян не досталось. Я следил за тем, как корневщики сначала по раздельности рассматривали желтые, фасолевидные, величиной с ноготь мизинца косточки.
– Совсем свежие.
– Утренние, может быть.
– Определенно утренние, – настойчиво проговорил Савва Петрович. – Тут, на этом берегу склеванные.
– Это как сказать. Видишь, я перышки на хвосте заломал. Значит, летел он с той стороны.
Я заметил, что следует не увлекаться и быть методичным. Надо осмотреть внутренности всех птиц. Вероятнее всего, не один рябчик напал на яркие ягоды.
Меня выслушали со вниманием.
– Рябчики, они больше стайками держатся. Очень может быть, что еще семена найдем. – Никодим не хуже прозектора расправлялся с тушками птиц. Во внутренностях фазана он нашел еще два семечка.
– Так это не сегодняшние! – вскинулся Савва Петрович.
Никодим склонил лысую голову к одному плечу, к другому, вознес брови на лоб:
– Вот что. И на этом берегу, между прочим, может быть. Разделиться нам надо. Ты тут смотри – места не много осталось. Сопочку мы едва не всю обломали. Может быть, пофартит тебе.
– Правильно, правильно, – засуетился Савва. – Все равно добыча на всех. На всю бригаду.
Брови Никодима влезли на темя:
– Кто ж про то рассуждает. Непотерянное не найдено, ему и меры пет, а уговор бригадный свят, между прочим.
– И доктора с собой возьмите. Все помощь. Какой‑никакой, а лишний глаз. Я уж тут один справлюсь. Чего ему за мной хвостом ходить.
Савва Петрович говорил так, словно меня здесь не было.
Отойдя от нас поодаль, Пал Палыч смотрел с яра на ту сторону реки, на сопочку. А совсем‑совсем далеко, сквозь чистейший воздух виделись серые, тяжелые тучи, точно притаившийся враг.
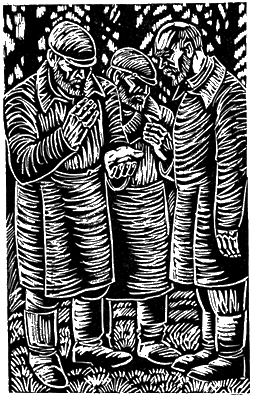
У корневщиков хватило выдержки и терпения кое‑как сварить обед, поесть… И вскоре мы переправились на моторке.
Чуть ниже нашей переправы стремительное течение разбивал на два рукава скалистый островок. Он поднимался из воды острыми камнями, напоминающими нос дредноута или брига. Впечатление усиливалось тем, что на кремнистой почве островка росли, словно мачты, три кедра: два молодых, стройных и один, в самой высокой части, старый, дуплистый, приземистый и разлапистый, с почти плоской кроной.
Вдоль реки рос густой тальник. Свежий ветер отворачивал листья кустов, показывая их изнанку. Берега казались серебряными. Мы причалили и затащили лодку за тальниковую опушку.
Я видел, что корневщикам неймется скорее уйти на поиски.
– Идите, – предложил я. – С лагерем справлюсь. Палатку поставлю, ужин состряпаю. Идите.
Давно уже перевалило за полдень, и отправляться в тайгу особого резона не было: три‑четыре часа светлого времени оставалось, но они пошли.
Я исподволь задумался о том, что значит найти старую плантацию женьшеня. Ведь, очевидно, не один десяток лет бродил Никодим в этом районе, и каждый год то крепла, то таяла его надежда найти таежный клад.
Я поставил палатку, заготовил дрова, запалил костер и приготовил ужин. Быстро темнело, но корневщиков не было.
Из – за гор, со стороны океана, натянуло перистых облаков. Небо поседело. Усилился ветер. И под покровом плотно сбившихся высоких перистых облаков из‑за дальних сопок выползли низкие, стелющиеся лохмотья туч. Стал накрапывать дождь.
В темноте я издалека услышал громкие возбужденные голоса Никодима и Пал Палыча. Они о чем‑то спорили. Потом замолчали. Вскоре они ступили в круг света, отбрасываемого костром.
– Доктор, – позвал Пал Палыч. – Считай нашли!
– Покажите.
– Не корень нашли. Зарубки видели, хао‑шу‑хуа. Такие стертые, что заплыли, между прочим.
– Но ведь разглядел же ты! Разглядел. Не темнота – и плантацию нашли бы. Стрели‑ка пару раз, пусть Савва знает.
– Нечего стрелять, между прочим. Мало ли зарубок в тайге может быть. Вот пощупаем корешки своими руками, тогда, между прочим, и кричи: «Панцуй!» А так – радость прежде дела.
– Дом кирпичный отгрохаю, чтоб и правнуки помнили Пал Палыча! А? Доктор! И террасу застекленную построю. Чай в дождик пить. Чтоб самовар шумел и дождик перекрывал.
Я был на стороне осторожного Никодима. Возможно, у меня начал меняться характер? Или мне не хотелось, чтоб мои спутники нашли плантацию?
– Да, – сказал я рассеянно.
– Завтра с нами пойдешь, – ободряюще сказал Пал Палыч, по‑своему расценивший мой ответ.
– Дождь, между прочим, расходится.
– Эка важность. Захватим палатку, натянем пологом – и копайся. Лишь бы корешок был. А выцарапать – выцарапаем.
– Давай, доктор, на сон грядущий, между прочим, «чертовой» настоечки выпьем. Труда, может, много потребуется завтра.
Никодим накапал себе и протянул склянку мне.
– А я – своей.
– Все шутишь? – Никодим недовольно покосился на Пал Палыча.
Тогда я не придал значения этому замечанию.
Спали мы плохо. Поднялись разом, молча, торопливо, точно обиженные чем‑то друг на друга. Сняли палатку, взяли ее с собой и пошли, продираясь сквозь мокрые кусты.
Тайга была серая, будто насупилась. Дождь отчетливо бил по листьям. Мы прошли километра два по косогору.
– Вот! – Никодим остановился и ткнул пальцем вперед. – Видишь?
Желтые стволы кедров, серые – бархата и коричневые – лип высились вперемешку. Действительно, на коре близстоящего кедра я увидел пять выпуклых наплывов.
– Пятьдесят шагов до столба, вбитого в землю. Двадцать пять – до женьшеня. Значит, столб искать надо. По кругу двинемся. Вот и пойдем, – засуетился Пал Палыч. – Отсчитаем – и пойдем. В ряд. Чего же мы стоим?
– Думаем.
– Чего же думать?
– Не мельтеши, Павел. Дай с духом собраться. Ведь не корешок плюгавый ищем, а целый клад, между прочим.
– Если он цел…
Я невольно осмотрелся. Но не ощутил волнения, которое, наверное, должны испытывать кладоискатели в нескольких шагах от сокровищницы. Мне хотелось, чтобы корневщики поскорее нашли женьшень и перестали себя мучить.
– Идем…
И не веря никаким зарубкам и расчетам, Никодим велел нам стать рядом с ним, и первый круг мы совершили вокруг ствола кедра с зарубками. Двигались чрезвычайно медленно, раздвигая посохами траву, осматривая каждый лист, каждый сантиметр почвы. Так, будто раскручивая спираль, мы кружили около часа.
– Стоп! В глазах рябит. Краснеется все, между прочим.
– Рябит, кругом рябит.
– Да нет же! Смотрите!
– Закрой, между прочим, глаза. И открой.
Я закрыл глаза, даже помотал для верности головой. Открыл.
– Да вот же!
– Ты, Павел, видишь?
– Вижу… А ты?
– Тоже, между прочим, вижу.
И я видел несколько ярко‑красных точек в траве.
Мы подошли к маленькой полянке, не полянке даже, а небольшой прогалине между большими деревьями, тенистой, очевидно, в солнечные дни, но в то же время достаточно освещенной в пред‑полдневные и послеполуденные часы. На полянке в разных направлениях валялось несколько древних полусгнивших стволов. Травостой на ней был очень разнообразен, не низок и не высок…
В общем, если бы я был ботаником, то, наверное, сказал бы, что полянка – оптимальное по освещенности, по увлажненности и по растительному сообществу место.
При беглом взгляде я насчитал восемнадцать цветоножек женьшеня, поднявшихся на разную высоту. В розетках оставалось всего по нескольку ягод, и ни одна розетка не была полной.
– Вот. Нашли!
Я посмотрел на лица Никодима и Пал Палыча. Они были в крупных каплях пота.
– Сосчитать, значит, надо. И выкопать все подчистую.
– Это зачем? – Никодим снял шапку и вытер пот. – Возьмем самые крупные. Времени не хватит. Задождит, между прочим.
– Мало ли что… Вдруг прознают место. Такое дело – только мигни. Слово неосторожное – отбоя от охотников не будет.
Я сказал:
– Слова никто от меня не услышит.
– Ладно, доктор… Сосчитать корешки, между прочим, надо.
Четырнадцать корней оказались упие! Двадцать семь – синие и тридцать один – тантаза. Росли они на площади в три десятка квадратных метров между поваленными стволами, которые как бы ограничивали размеры плантации.
– Вот. Упие и возьмем.
– Посмотрим. Лишь бы дождь не разошелся. И Савву надо сюда. Пусть потрудится. Доктор сходит, позовет.
Я согласился.
– Особо не пали, между прочим, – предупредил Никодим, передавая мне свой хилый карабин. – Стрельни три раза и жди, пока он придет, потом перевезешь.
Придя на берег к лодке, я не без трепета трижды выпалил из разболтанного карабина, который, к моему удивлению, остался цел, и стал ждать появления на том берегу Саввы Петровича. Дождь расходился и через час превратился в ливень. Вода в реке, исхлестанная струями, стала черной и пенной. Я пожалел, что чересчур точно выполнил приказание Никодима. Мне следовало съездить на тот берег и там пострелять.
Саввы Петровича не было. Я очень проголодался без завтрака, а время настало обедать. Решил посмотреть Савву Петровича последний раз и идти в лагерь. Я вылез из‑под лодки и едва не по колено ухнул в воду. Побуревшая река вышла из берегов и уже затопила тальники. Ветки кустов, подобно водорослям, тащились по течению. Оно волокло на своем хребте всякий лесной хлам, скопившийся по берегам: прутья, ветки, даже целые сухостоины.
Мне приходилось лишь слышать о таких ливневых паводках на таежных реках, и в первые минуты я лишь растерянно смотрел на взбеленившуюся воду. Наконец догадался вытянуть повыше лодку и завернутый в кусок брезента мотор. Он был собственностью Пал Палыча, а тот умел беречь вещи. Управившись с этим делом, промокший до костей, я пустился, не особо разбирая дороги, к корневщикам.
Они были поглощены работой под тентом из палатки.
Шесть прекраснейших корней уже лежали на лубяных подстилках‑конвертах, устланных мхом. Их оставалось лишь запаковать, но, очевидно, красота панцуя сильно подействовала на корневщиков, и они нарочно держали женьшень открытым, чтобы, оторвавшись на мгновение от препарирования мочек, взглянуть на извлеченные драгоценности.
– Где Савва? – спросил стоявший на четвереньках Пал Палыч. Он не повернул головы и продолжал быстро и ловко орудовать костяными палочками.
Никодим не спросил ни о чем. Видимо, ему попалась заковыристая мочка.
Я принялся долго и подробно рассказывать о стрельбе, ожидании и наводнении. Они вроде слушали, но не понимали. Пришлось дважды повторить, что река взбунтовалась. Только тогда Никодим повернул голову к Пал Палычу:
– Еще по корню, между прочим, выцарапаем.
– Да. Вода, того гляди, пойдет по склону. Хоть выше и лежит ствол, но такого ливня он не сдержит.
– Сдержит. Полсотни лет, между прочим, держал.
– Не больно‑то, – бубнил, не поднимая головы, Пал Палыч. – Чего мы выкопали, а уж три «спящих» корешка нашли.
Тут я обратил внимание на отдельно лежащую Лубянку с тремя корнями, у которых не было мочек. Иногда при неблагоприятных условиях женьшень не погибает, а словно впадает в состояние летаргии, или анабиоза. Корень не дает побега, не растет, но и не гниет. Он действительно словно дремлет в земле. Так может продолжаться не один год и даже десятилетие. Потом, будто вдруг, женьшень просыпается, оживает, почка на головке стебля дает побег, и растение продолжает жить как ни в чем не бывало.
– Наводнение! – повторил я.
Мне было непонятно, почему эта весть совсем не взволновала корневщиков. Но я ошибался.
Наконец Никодим выпрямился, потер поясницу, видимо занемевшую от долгого неподвижного и неудобного положения:
– Вот. Подвезло, да заколдобило. К завтраму здесь не земля – жижа, между прочим, будет. Напьются корни, поеные станут.
– Давай, давай, Никодим. Разговорился не ко времени.
– Подожди минутку, спина занемела. Пройди такой ливень на неделю раньше – и нашли бы плантацию, да ни корешка не взяли бы.
– Будет. Взяли же! И еще сколько! Килограмма два. Не меньше. А всего здесь десять будет. Не меньше. Первый сорт корешки, экстра!
– Может быть, и десять килограмм, между прочим, – сказал Никодим и снова опустился на локти.
Тогда разогнулся Пал Палыч, и на лице его было такое выражение, словно перед его взором маячила осуществленная мечта.
Ливень, пробиваясь сквозь кроны, грохотал по тенту.
– Что делать‑то будем? – спросил я.
– Выкопаем корень – и в избушку. Переждем непогоду – и домой. Распрощаемся с кладом до будущего сезона. Вот тогда…
Пал Палыч не договорил, покосился на Никодима и принялся орудовать палочками.
Пасмурный, непогожий день гас быстро. Ливень трудился, как на поденщине, по заявлению Пал Палыча. Закончив выкопку, Пал Палыч и Никодим завернули Лубянки сначала в свои шинели – мою не взяли лишь потому, что она была слишком мокра, – потом в палатку.
– Лишь бы корни не испортить, – приговаривал Пал Палыч. – Напоим – пропадут наши труды ни за грош.
Тюк получился внушительный. Под веревку продели жердь и понесли его на плечах. К реке подошли в густых сумерках, казавшихся совсем непроглядными, потому что ливень не прекращался. Вода в реке поднялась и подступила к корме лодки, хотя я втащил ее от уреза метра на два выше. Пал Палыч снял брезент с мотора и еще раз укутал тюк с женьшенем. Потом приладил двигатель на корме.

– Напрасно, Паша. Попадет, может быть, плавучая коряжина под винт – разнесет.
– Новый купим! Нам теперь что! Нам теперь корешки беречь надо.
– Шинель мою наденьте, – предложил я. – Продрогли в рубахах под дождем.
– Сам берегись, доктор. Мы привычные – и моченые, и сушеные. Через полчаса в избушке у печки обогреемся, чайком побалуемся.
Противоположный берег, верх которого едва можно было различить на фоне темного обложного неба, выглядел каменным монолитом. Направо, вниз по течению, белой оторочкой прибрежной пены обозначился остров. Он выглядел небольшим пятном. Видимо, его сильно затопило.
Спустили лодку. Пал Палыч положил тюк на нос, залез сам. Потом велел забираться мне. Я сел на дно. Никодим впрыгнул последним. Течение подхватило нас. Мотор заработал с первого рывка дергачом. Никодим направил лодку наискось по течению.
 2020-04-20
2020-04-20 135
135








