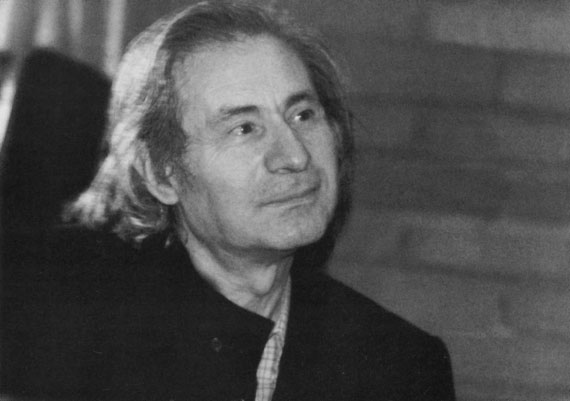
Композитор Альфред Шнитке.
Способы участия музыки в фильме или спектакле относительно хорошо исследованы. Этим подробно и плодотворно занимался С. Эйзенштейн. Из современников – армянский режиссер и исследователь А. Пелешян. «Звук, – пишет он, – может быть непосредственно включен в сюжет, может быть иллюстрацией, может выполнять функцию аккомпанемента, а может быть использован для создания настроения, и, наконец, может вступать в контрапунктные отношения с изображением» [68].
Музыке в театре специально посвящено содержательное исследование Н. Таршис, которая справедливо замечает, что «в системе драматического спектакля сращение музыки с диалогом имеет границы, музыка отчетливо выделена, в отличие от музыкального театра, где ее участие безусловно», но она по‑разному соотносится с происходящим на сцене. Нередко ее функция «ограничена главным образом лишь эмоциональным соответствием происходящему». С другой стороны, она способна «составлять сложный контрапункт с происходящим на сцене» [85, 71]. Эти принципы включения музыки в драматический спектакль, получившие воплощение в произведениях классиков отечественной режиссуры, являются достоянием современности и получают дальнейшее развитие. По словам А. Шнитке, сегодня композитор, владеющий спецификой зрелищного искусства, приступая к работе, непременно задается вопросом: «должно ли быть «дополняющее» музыкальное решение или контрапункт?» [95]. В этом конкретном суждении композитора речь шла о кино, но оно верно и для театра, и прежде всего для Театра на Таганке, в котором композитор много и плодотворно работал.
Именно разнообразные контрапунктные отношения музыки с остальными элементами спектакля – когда она не играет роль эмоционального сопровождения, аккомпанемента, а становится равноправной с остальными элементами участницей драматического действия, – характерны для любимовского спектакля.
«Тартюф», «Дом на набережной», «Три сестры» и «Живаго (Доктор)»
В «Тартюфе», по точному описанию рецензента, «… музыка А. Волконского, метко подтрунивающая и над происходящим, и над самой собой. В ней отрывки из старинных литургических и поздних симфонических вещей запущены с бешено‑пародийной скоростью, обработаны под джаз, даны в стереофонической записи; предвещающий бедствие перезвон колоколов и аккорды клавесина соседствуют с гулкими шумами, уханьем, клекотом, верещанием – это день сегодняшний, будто вызвав на свидание день позавчерашний, делает ему нос и показывает язык, стараясь расшевелить, чтобы тот отбросил свою торжественно насупленную неприступность и с мальчишеской шаловливостью пустился во все тяжкие» [18, 27].
Инструментальная музыка с самого начала обнаруживает недоступное персонажам знание в спектакле «А зори здесь тихие…». Она как бы предупреждает о грядущем, вступая в драматический диалог с происходящим на сцене, в том числе с песнями, которые поют девушки. Не в силах предотвратить трагедию, она преисполняется страданием.
В «Доме на набережной» вновь и вновь врывается песня В. Высоцкого «Спасите наши души!» – будто вопль совести, от которой Глебов хотел бы так же отмахнуться, избавиться, как и от воспоминаний. Она, словно бельмо на глазу, тревожащая, лишающая покоя, мешающая, подобно самому Высоцкому, тому живому (спектакль вышел при жизни поэта), а не из посмертных статей. Песня вносит новый мотив, противостоящий герою.
Военный марш в «Трех сестрах» то и дело грубо «вмешивается» в события, подчиняя и уродливо преображая их. Порой марш сменяется вальсом, полным печальной рефлексии на происходящее. Но снова и снова, в том числе в финале, «берет свое» жесткий ритм военного марша.
Наконец, музыка, включаемая в действие таким, свободно‑ассоциативным способом, может выявлять прямое лирическое высказывание режиссера (насколько это возможно в театре). В той или иной степени оно обнаруживается во многих произведениях Любимова, но, на наш взгляд, с особой очевидностью – в «Живаго (Доктор)». В спектакле рефреном звучат молитвенные песнопения, положенные на музыку А. Шнитке строки из стихотворений Юрия Живаго и эпизоды из поэмы Блока «Двенадцать», а также пронизывающие действие фрагменты русской народной песни «Заюшка». Множество музыкальных рядов, ассоциативно монтируясь со сценически воплощенной фабулой романа, способствуют созданию своего рода лирической исповеди режиссера. Именно так следовало бы уточнить жанр постановки, рискуя не согласиться с ее автором. Разумеется, «последний» аргумент – только анализ спектакля в целом. Укажем лишь на глубоко лирический характер выбранной режиссером песни, составляющей контрапункт с остальными мотивами, выбор и сочетание определенных православных и иудейского песнопений, наконец, соотнесение Пастернака и Блока. Кроме того, в спектакле возник небывалый на Таганке музыкальный ряд – неожиданно пропеваемые отдельные реплики (прозаические). Так поток реплик, построенных в прозаической форме, разрывается своего рода акцентами, которые организуются нескрываемой режиссерской волей и в качестве еще одного относительно самостоятельного мотива участвуют в становлении сложной темы спектакля. Тема эта, посвященная человеческой судьбе, многослойна. В том числе, пожалуй, впервые у Любимова, так отчетливо и сильно звучит мотив любви.
Звуковая партитура
Подобно музыке включаются в действие и другие неречевые звуки. Вспомним о звонах в «Борисе Годунове». Они издавались косами, бьющимися о стену или друг о друга. «Обслуживание», непосредственное озвучивание происходящего на сцене если и было, то далеко не исчерпывало содержание звонов. Действительно, на первый взгляд, возникала вроде бы иллюстративность: Сибирь, опала – звон кандалов, Россия православная – колокольный звон, битва – звон воинской сечи. Однако спектакль как целое снимает такую жесткую обусловленность. Повторяясь, звоны будто взаимоотражаются, и в каждом из них одновременно слышатся другие. Ряд звонов, входя в отношения контрапункта с остальными событиями, участвует в создании мира, в котором сосуществуют и оборачиваются друг другом красота колокольного, ужас кандального и кошмар военного звонов. Мир, созданный не без участия самого народа и породивший народ, действующий в спектакле.

Пир во время чумы. Моцарт – И. Бортник.
Звуковая партитура и этого, и большинства других любимовских спектаклей, как правило, многосоставна. Каждый ее элемент имеет свой голос и собственное содержание, но как бы разнородны они ни были, режиссер выстраивает их в единство, внутренняя согласованность которого оказывается специальным объектом зрительского внимания. «Мы с удивлением узнаем практически незнакомую музыку, хотя вся она взята из кинофильма М. Швейцера по тем же «Маленьким трагедиям», – отмечает рецензент «Пира во время чумы». – В музыкальные темы А. Шнитке вплетается даже плеск брошенного в бокал кольца, даже звон рассыпавшихся монет (…). Скрип страшной телеги разрывает музыкальные фразы как диссонанс, чтобы затем многоголосию этому влиться в божественное звучание Моцарта» [37, 71].
Как музыкальное произведение воспринимался полный противоречий звуковой космос «Медеи». Здесь в трагическом поединке переплетались «варварские» надрывные звуки варгана, «эллинско‑бродские» хоры Э. Денисова (хоры специально для спектакля перевел И. Бродский), звучащий слог Еврипида‑Анненского и, наконец, шум моря, который в финале поначалу поглощал все. Но затем этот финальный аккорд разбивался шумом падающих из крана капель, внося новую тревогу и снимая разрешение. Катарсис снова оказывался под вопросом. Звуковая партитура создавала внутренне конфликтную автономную составляющую в драматическом раскладе спектакля. Но как целое, в своей музыкальной выстроенности, она противостояла миру, где
Никто никогда не знает,
Откуда приходит горе,
миру, где
Никто никогда не знает,
Что боги готовят смертным…
Актерская пластика
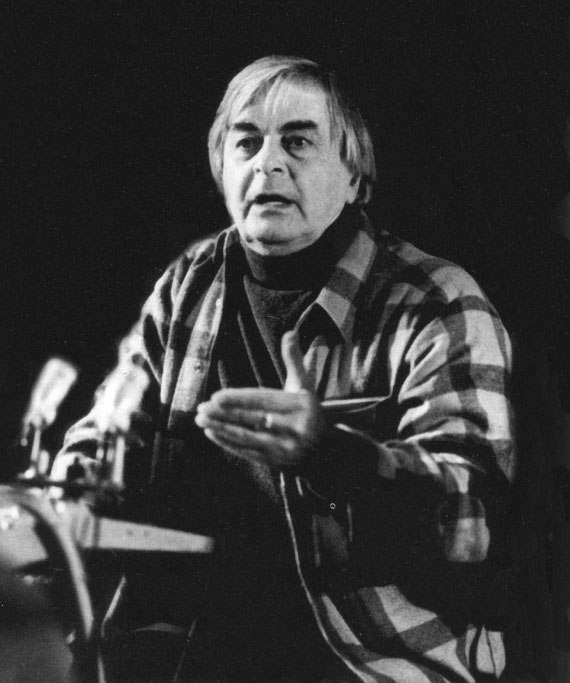
В непосредственно последовавших за «Добрым человеком из Сезуана» спектаклях происходило, наряду с другим, и своего рода оттачивание необходимой режиссеру актерской пластики. В «Антимирах», «Десяти днях, которые потрясли мир», «Павших и живых», «Жизни Галилея», в «Послушайте!», «Пугачеве», «Тартюфе» активно использовались элементы пантомимы и танца. Многие эпизоды были построены полностью средствами пантомимы, как в «Десяти днях, которые потрясли мир», или своеобразно «вытанцеваны», как в «Тартюфе». В дальнейшем пантомима и танец в «чистом виде» применялись не столь интенсивно, но всюду рисунок актерской пластики оставался ритмически строго выверенным.
Особенности пластики как таковые, вызвавшие зрительский интерес, существенным образом определяли и «драматическую активность» (термин Б. Костелянца [42]) персонажа. Присмотримся с этой точки зрения к некоторым постановкам.
 2020-04-20
2020-04-20 1131
1131
