– Не смотрит, а все видит, – говорили о нем гвардейцы. И не было в этих словах ни страха, ни неприязни, а лишь гордость взыскательным своим «командиром‑отцом».
С первых же дней службы в армии больше всего Грохотов полюбил стрелковое дело и знал его в совершенстве.
Чередуя тренировку в стрельбе из оружия с занятиями по баллистике и теории огневого дела, он на поучительные и интересные свои беседы привлекал даже командиров других подразделений.
«Тот не солдат, который не владеет своим оружием, как хороший парикмахер бритвой… И пользы от такого бойца на фронте, как с зайца сала», – говорил гвардии старший лейтенант Грохотов.
Оружие в его роте было в исключительном порядке. Каждую винтовку он выверил и пристрелял сам. Все – от рядового гвардейца до ротного должны были знать каждый винтик своего оружия и содержать его идеально.
Даже пирамиды, где хранилось оружие, у него были отполированы так, что на них была заметна всякая пылинка.
От подчиненных своей роты он требовал знания наизусть основных баллистических свойств оружия, терпеливо разъяснял и на личном примере по двадцать раз показывал изготовку для стрельбы, приемы держания оружия и нажима на спуск.
– Трудно, – говорил он, – но необходимо: в бою и свою и сотен товарищей жизнь спасает меткий стрелок. – И приводил примеры из Отечественной войны, когда один снайпер, порой, стоил целого подразделения, называл фамилии знаменитых стрелков. О себе он никогда не говорил, хотя многие из старых сослуживцев его полка знали, что в тылу Грохотов на сто метров из боевой винтовки мог пробоинами пуль, выстреленных в предельно короткий срок, подписывать свою фамилию на мишени, в боях же на его счету был не один десяток немецких снайперов!
В каждом командире, солдате, даже в каждом гражданине, встреченном им на улице, Грохотов хотел видеть стрелка высокого класса.
А прежде всего гвардии старший лейтенант Алексей Грохотов добивался, чтобы в каждом солдате во время учебы закипело горячее сердце большевика.
– Тогда, – говорил он гвардейцам, – все будет возможным, все выполнимым в мирное время, не говоря уже о том, что сделает такой солдат в бою.
Дома Алексей Грохотов не был шесть лет, а приехал в свой родной колхоз и на третий же день попросил председателя колхоза, бывшего фронтовика Герасима Петухова, заседлать ему жеребца.
– Еще и не нагляделись и не надышались на тебя, а ты уже на охоту собираешься, Алешенька! – сказала Аня.
Грохотов ласково, но решительно отвел горячую руку молодой женщины.
– Поезжай, поезжай, милый, знаю – истосковался, исстрадался… – примирительно заторопилась жена.
Алексей снял со стены драгоценный подарок дивизии – снайперскую винтовку и, вынув затвор, заглянул в ствол: голубоватые спирали нарезов сверкали в нем без единого пятнышка ржавчины.
Стоялый племенной жеребец запотел и на первом же крутике стал задыхаться. Всадник спрыгнул с седла и повел коня в поводу.
Вечером охотник был уже у знаменитых «Развил» – в коренном обиталище зверя. Жеребца спутал в пади, у речки.
* * *
Как и шесть лет назад, в памятную последнюю охоту на козлов, вершины гор пылали в золотой пыльце заката. Охотник прижался к выступу мшистой скалы, на стыке двух длинных горных хребтов.
Вправо – луговина, излюбленное пастбище диких маралов, пестрела альпийскими цветами. Здесь же только распускалась пахнущая медом весна. Цвел темнопунцовый маральник, из густых сочных трав поднимались ветренницы. Кусты волчьего лыка и шиповника сплелись в веселый хоровод вокруг высокогорной луговины.
Влево – каменная россыпь, похожая на реку с застывшими гребнями волн.
Далеко в пади – пихтач, густой и ровный. Сверху он походил на луг. На него хотелось прыгнуть и бежать по игольчатым его верхушкам, как по зеленой поляне. Но Алексей знал обманчивую ровность родной тайги. С детства ведомы ему в ней буреломные завалы с трухлявыми колодинами, непролазной крепи кустарников и перерослых трав – надежное прибежище птицы и зверя, укрывающее одинаково и юркого горностая и широкого лося.
Тайга! Сколько раз вымерял он крутизну твоих падей, взбирался на обрывы стремнин, откуда земля кажется опрокинутой татарской чашкой, потрескавшейся от времени морщинами ущелий, с тончайшими ниточками речной глазури. Дышал смолистым теплом весны, дрожал на ледяных остряках, ночуя в жилище бурь и ветров, восторгался ею, вздыбленной ураганом, черной и ревущей, как океан.
Грохотов не мог оторвать глаз от синих гор, курившихся молочно‑розовыми туманами. После долгой разлуки они казались ему похорошевшими, как лицо любимой, озаренное радостью встречи.
И на лошади, и на лыжах обегал он тайгу по всем направлениям, знал сокровенные ее уголки.
Охотник сидел на зверином переходе. Сколько круторогих архаров[5] взял он здесь в прежние годы! Здесь он подстерегал маралов с золотисто‑ореховыми глазами, с ногами, сплетенными из жильных струн, с драгоценной венценосной короной над маленькой, точно из яшмы высеченной головой!
А соболей – жемчужин горной тайги! Сколько переловил он их на этой россыпи! Сколько подслушал он скрытых для неохотника звуков. Увидел такое, что никому не увидеть больше. Видел и бешеный полет над лиственницами соболя, впившегося мертвой хваткой в горячее горло глухаря; сцепившихся в смертном бою двух козлов с онемевшими шеями и подгибающимися от усталости ногами, – рознял он их только перерезав глотки обоим.
«Развилы» – заповедные звериные переходы – не один раз виделись Грохотову во сне под далеким чужим) небом.
И вот он снова, как и прежде, сидит, прижавшись к прохладной мшистой скале. Разгоряченное подъемом тело нежится, отдыхает.
Кругом неколебимая тишина. Мир накрыт легкими розовыми крыльями зари.
Подожженные падающим солнцем, сверкающие на горизонте ледники слепят глаза.
Ближние сиреневые цепи гор подергиваются дымкой удивительной нежности и мягкости. И, кажется, уже не горы это, а призрачные облака, возникшие из голубого дыхания бесконечно любимой, родной земли: дунет ветерок и тронутся они, качаясь, как сказочные корабли на воздушном океане.
Зеленые травы стали темнеть. Надвигалась прохлада, а с нею еще острее и ощутимей потекли медовые хмельные запахи.
Алексей восторженно обводил горизонт. Закрывал и снова открывал глаза, словно не веря, что вся эта красота и в небе и на земле опять его, что не сон это, пригрезившийся ему в огне, в грохоте войны, а подлинный, богатейший и прекрасный Алтай, по которому так изболелась вольная его душа охотника.
Алексей засмеялся беззвучно, как проснувшийся в люльке ребенок. Только в «Развилах», у этой гранитной, в коричневых прожилах скалы, давно‑давно известной ему, Алексей Грохотов по‑настоящему ощутил, что война окончилась, что он, долго ходивший рядом со смертью, сам видевший смерть вокруг себя, получил неоценимый подарок – вторую жизнь. И что уж теперь‑то научился по‑новому ценить каждую минуту ее…
Взволнованные мысли гвардии старшего лейтенанта прервал придушенный звериный стон.
Не поворачивая головы, а только по‑охотничьи скосив глаза, Алексей увидел медведей. Они вышли из‑за поворота скалы всей «свадьбой» – семь зверей, в тот краткий миг, когда отцветающая в небе заря боролась еще с ползущими из ущелий сумерками, а последние отблески света умирали на широкой кроне единственного здесь кедра.
Вместе со зверями возник удушающий медвежий запах, напоминающий запах мокрой собаки. Он проник в ноздри, в рот сидящего в засаде охотника.
Первой шла буланая, серебристая медведица с мускулистым, коротким, точно обрубленным корпусом. Узкая голова ее была вытянута, глаза безумные, пасть раскрыта: ноздри самки трепетали, она тихо ворчала, ворчание ее походило на стоны.
Рядом, касаясь крупа зверицы, шел огромный чернобархатный зверь‑семилеток. Он уже успел перелинять. Короткая, не отросшая еще шкура его лоснилась и под ней отчетливо проступали, перекатываясь, железные мускулы. Белые клыки его были в желтой пене. Он поворачивал голову то влево, то вправо, и взгляд раскаленных его глаз держал на почтительной дистанции идущих в стороне самцов.
Ближний справа к нему – горбатый, бурый, с белой грудью, точно щеголь в манишке. Длинная шерсть его – от холки до бугристого загривка – вздыблена. Он готов был в любой момент к прыжку через отделявшее от медведицы пространство, но огненный взгляд черного атлета удерживал его.
Слева – рыжий, клочкастый, высокий и худой медведь, очевидно не оправившийся еще после охотничьей пули или помятый кулемою[6].
Позади – медведок‑второгодок какого‑то редкого чубарого окраса. Он недавно только потерял молочные зубы, а новые были еще малы, как у щенка, но когти его были остры, и он тоже рвался в бой.
В хвосте тянулись два старика. Зубы их, очевидно, были стерты до десен, когти обношены, глаза тусклы. Звери были худы, клочкастая шерсть без лоска висела прядями. Оборванные и общипанные, они походили на старых нищих. Один из них был хром (левую переднюю ступню он, наверное, потерял в капкане). Во время остановок старец поджимал культяпку к животу.
Медведи шли бесшумно, точно тени, бессильные остановиться и на секунду, если не останавливалась самка.
Алексей не раз сталкивался с медведями в лесу и знал, что спокойствие и выдержка – лучшие товарищи в единоборстве с «хозяином тайги». Но с семью зверями сразу он встретился впервые. И сейчас он не потерял рассудка при неожиданной встрече с «медвежьей свадьбой».
Только задрожали руки да сердце застучало громко. Грохотов инстинктивно вскинул винтовку и «поймал на мушку» самого огромного – черного медведя. Зверь был так близко от него, что даже при точном попадании медведь в один прыжок мог бы сорвать его с выступа скалы: чудовищную крепость к ране и молниеносную подвижность этого неповоротливого с виду животного хорошо знал Алексей. И тем не менее он уже совсем было нажал на спуск, но чернобархатный атлет вдруг бросился на обнаглевшего, переступившего дозволенную черту белогрудого соперника, и они оба поднялись на задние лапы. Звериный рев разбудил горы. Казалось, задрожала скала, на которой сидел охотник.
Алексей опустил винтовку и пришел в себя. Звери стояли, ломая один другого. Шерсть клочками летела с них.
Медведица отошла на луговину. Она казалась равнодушной к битве и даже не смотрела в сторону грызущихся самцов.
Рыжий медведь и чубарый медведь‑второгодок, пользуясь битвой опасных своих противников, в несколько прыжков были уже у зверицы, и даже старики отбежали от скалы.
Охотник перевел дух и левой рукой придавил сильно бившееся сердце. «Спокойно, друг! Спокойно!..» – беззвучно прошептал он.
Черный повалил белогрудого и ударил его когтистой лапой по уху. Белогрудый поднялся и затряс головой.
Черный атлет очутился рядом с медведицей. Расступившиеся перед ним звери снова заняли те же позиции, и даже израненный бурый, не переставая трясти головой, встал на прежнее место.
Сумерки надвигались быстро: кустарники сливались в сплошную массу. Охотник не без волнения подумал, что скоро будет уже невозможно стрелять, ждать же, когда звери отойдут от скалы еще дальше – нельзя. Подавив дрожь, он нащупал мушкой череп медведицы. Выстрел раскаленным прутом рассек воздух.
Медведица подпрыгнула на метр от земли и сделала гигантский скачок к одинокому приземистому кедру: в беспамятстве она сочла ствол дерева за своего врага.
Рыжий, чубарый медведь‑второгодок и оба старых медведя, подкидывая по‑поросячьи зады, кинулись врассыпную. Но черный великан стремительно бросился на выстрел охотника. Грохотов только успел передвинуть затвор – зверь был у скалы.
Перед скалой медведь вздыбил. Огромный, он с злобным ревом тянулся к выступу черными когтистыми лапами. Раскрытая окровавленная пасть его с вершковыми белыми клыками была почти рядом: с охотником: брызги пены летели Алексею в лицо, когда он целился чуть повыше переносья, в желобок между надбровными припухлостями зверя.
Сноп огня вспыхнул и погас в зрачках медведя. Пуля пробила череп на‑вылет, и все‑таки зверь не опрокинулся, не рухнул наземь, а тихо, точно опускаясь в воду, стал скользить по мшистой скале волосатой грудью, а когтистые лапы его, срывая мох, еще двигались конвульсивно.
Белогрудый теребил за загривок поднявшуюся на дыбы у кедра раненую самку. К охотнику он стоял боком. В сгущавшихся сумерках стрелок с трудом нащупал ухо зверя и в третий раз нажал спуск.
Белогрудый упал к ногам зверицы.
Кедр скрипел, шатался в последнем объятии смертельно раненой медведицы. Острые когти медведицы дотянулись до первых сучьев и сломали их. Последними усилиями зверица запустила когти в смолистую мякоть кедра. По шкуре ее волнами пробегала судорога. Она захлебывалась кровью и не могла реветь, а, припав головой к стволу дерева, казалось, безутешно всхлипывала. Потом со стоном повалилась навзничь.
Запущенные в древесину когти обнажили ствол кедра от сучьев до самого корня. Лоскутьями коры, прижатыми к груди в оцепенелых лапах, она словно накрылась, спряталась под ними от заглянувшей в ее глаза смерти.
Когда Алексей подошел к ней – медведица была неподвижна.
* * *
Возвращение охотника жеребец приветствовал звонким ржанием. От жарко запылавшего костра речонка отливала плавленой сталью. Зазолотившиеся бахромчатые лапы пихт, казалось, вот‑вот вспыхнут. В пади у речки было сыро: дым от костра набухал меж деревьями мохнатой шапкой. Напуганный пламенем рябчик, мертво затаившийся на ближней пихте, не выдержал – слетел. Охваченное отблесками огня крыло его на мгновенье вспыхнуло и погасло. С вершины на вершину переметнулась белка. Все, все здесь было как шесть лет тому назад: первозданная тишина, красота, покой. Тайга, любимая охотничьему сердцу, родная тайга была вокруг.
Грохотов лежал на траве и смотрел в небо. Как долго он ждал этого радостного отдыха!
Но первое возбуждение после столь необыкновенно удачной охоты быстро прошло, сменившись глубокой сосредоточенностью и даже грустью. То же самое случилось с ним и на другой день приезда домой. Непонятное, тоскливое чувство и тогда не давало ему покоя. Жена испуганно ловила его взгляды и не могла понять причины его тоски.
– Почему? – допытывался он причины и не мог разгадать ее.
Как все, выходящее за пределы его понимания и трудно объясняемое, так и эта, казалось, беспричинная тоска, охватившая его опять, раздражала Алексея. Он бросил смолистый пень в костер. Искры взвились над головой. Грохотов накрылся шинелью и снова лег.
Речка звенела по камням. Зубчатые стены пихтачей были безмолвны. Набежавший из ущелья ветер колыхнул траву у самого лица. Трава робко зашелестела, закачалась. Прибрежные осины захлопали листьями. Конь поднял голову навстречу ветру и зафыркал.
– Завтра будет дождь, – вслух сказал Алексей и стал смотреть на небо, по которому текла звездная река вселенной.
Сна не было. Алексей вспомнил, как, возвращаясь домой по горячим следам войны, он как бы обозрел страшный ее итог: разрушенные города, изуродованные огнем сады Украины. И он думал тогда: «Корень цел – жизнь отрастет. На месте разрушенных построим более величественные города, вырастим новые сады. Но уже никогда, никогда больше не позволим врагу топтать нашей святой земли». И Алексей дал тогда клятву себе: все силы свои отдать армии, Родине, быть часовым так дорого доставшегося ей мира…
А вот сейчас вместо того, чтобы быть там, где партия поставила его на пост, он охотится на медведей, лежит и смотрит в небо…
«Но ты же ведь отпущен в отпуск, набраться сил… Ведь рота же твоя отмечена, как образец»… – Алексей криво улыбнулся. Прямой и честный в отношениях с другими и с самим собой, он уже не мог не думать о своих солдатах, видел помещение своей роты и снаружи и внутри. Ясно представил себе офицеров своего полка, разбирающих очередное тактическое задание. Мысленно проверял весь наличный состав своей роты: – «Командиры взводов только что со школьной скамейки… Хорош старшина, на него можно положиться. Хорош и Головинченко, помкомвзвода. Но что же они одни?.. Ребята два месяца как из колхозов. Их нужно закалить и обучить».
Алексей вспомнил свое сегодняшнее сердцебиение, затрясшиеся руки при неожиданном появлении медведей. «И это ты, стреляный волк!.. А там… они…». Под этим «там» он всегда представлял бой. Под словом «они» – своих ребят.
Нет, домой, домой!.. Надо научить их и в одиночку и всем подразделением действовать ночью в лесу, на переправах, при самых неожиданных, внезапных, именно внезапных, опасностях. Алексей уже снова сидел, смотрел в костер и, не боясь быть подслушанным, громко разговаривал сам с собой:
«…Уж ты‑то, Алексей, знаешь теперь, что им надо. Ты, который всегда твердишь, что воин Советской Родины во время учебы должен быть правдив, ясен, как солнце, в бою грозен, как лев.
Образцовая рота! А ты‑то лучше генерала знаешь, где и в чем она у тебя хромает…».
Мучившая его все эти дни тоска по боевым товарищам, по своей роте прорвалась, и он бичевал себя безжалостно:
«Слов нет, может быть, и заслужил ты отпуск – дрался… Но это уже прошлое, Алеша, а прошлое нужно только для справок. В карете прошлого, как известно, недалеко уедешь…
Вспомни: ты говорил им: „В сердце солдата не должно быть темных пятен, каждую минуту оно должно биться так же пламенно‑горячо, как билось сердце великого Ленина“. А ты будешь здесь два месяца охотиться, отдыхать…».
Алексей бросил в костер новый смолистый сук.
Борьба за коммунизм с первых же шагов осмысленной жизни гвардии старшего лейтенанта Грохотова представлялась ему, как борьба двух смертельно враждебных сил, соревнующихся за каждый час времени, за скорости самолетов, тонны извлеченного из земли угля, руды, нефти, выращенного хлеба. Выигранные пять лет, несколько месяцев, а может быть даже дней, могут решить судьбы человечества на долгие годы…
– Два месяца не с ротой! – Алексей вспоминал, думал о многом. Вспомнил крупную ссору с одним майором в госпитале, когда выздоравливающий офицер, читавший Толстого, рвал на цыгарки прочитанные страницы. И он, взбешенный, кричал тогда ему, что культура командира – это не начищенные сапоги и закрученные усы, что советский офицер должен быть прежде всего образованным.
И не заснул охотник в эту ночь. Вскоре он уже смотрел на зарумянившийся восток. Вершины ледников начали розоветь. Утро занималось медленно: земля не хотела расставаться с призрачным очарованием ночи. Умытый росою лес казался помолодевшим. Звезды бледнели и гасли: река вселенной мелела. Ночью она снова заиграет: мир был полон движения, вечность занималась изначальным своим делом – переливала из чаши в чашу.
Вместе с брызгами солнца пришли покой и ясность.
«Судьба моя навеки связана с армией. Ее сила – мое счастье и мой покой… Возьму Аню и поеду в полк – дело и ей найдется на соседней фабрике».
Взволнованный неожиданным своим решением Алексей поднялся и уже весело, вынув из сумки складной шомпол и смазку, принялся за чистку: «В стволе снайперской винтовки не должно быть ржавого пятнышка».
* * *
К вечеру доставили в деревню шкуры и туши убитых медведей и под крики сбежавшихся ребят провезли их к леднику колхозной столовой.
А через неделю друзья, бывшие фронтовики, провожали гвардии старшего лейтенанта Алексея Грохотова и его жену в один из далеких городков западной границы страны.
Алексей Грохотов сидел смущенный и радостный среди земляков‑колхозников, бывших фронтовиков.
На самом видном месте красовался медвежий окорок и целая гора колбас.
После первых же стопок начались тосты.
«Посошок» пили за гордость колхоза – гвардии старшего лейтенанта Алексея Николаевича Грохотова.
– Одним словом, за все спасибо тебе, Алексей Николаевич, – сказал председатель колхоза Герасим Андреич Петухов. – И за верную твою службу Родине, и за бесстрашное и честное, большевистское твое сердце, и за медвежьи туши…
Одним словом, однако, я захмелел немножко, и ничего я не могу сказать тебе на прощание, как только – готовь таких же защитников, сынов трудового народа из наших детей, каков ты сам есть, одним словом, Алексей Николаевич…
– А уж хлебушком мы вас обеспечим полностью, да еще и сверхом! Одним словом, езжай без думушки – алтайские колхозники, одним словом, алтайские колхозники!.. – окончательно смешался он и первым засмеялся. А вместе с ним засмеялось и все шумное веселое застолье друзей, бывших фронтовиков.
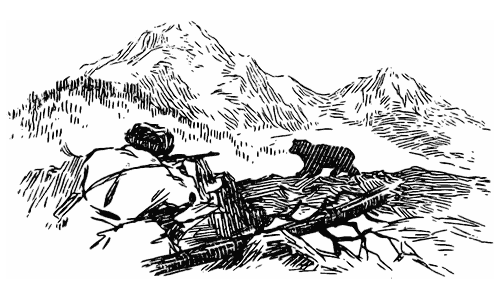
Вик. Лаврентьев
ЗВЕРОВОД

Гроза проходила стороной, и здесь, на озере, полузаросшем камышом, было сравнительно тихо.
Когда вдалеке темное небо прорезывала стремительная извилистая молния, окрашивая горизонт мерцающим голубым светом, на поверхности озера пробегали узкой змейкой отражения, на мгновение загорались дрожащими бликами окна домиков, стоящих на берегу, сами домики и верхушки прибрежного камыша на какое‑то мгновение становились видимы, а потом все снова погружалось в непроглядную темноту.
Налетавший порывами ветер шевелил густую стену камыша, возле которой стояла лодка с одиноким гребцом.
Подогнав к этому месту свою плоскодонку, человек погрузил поглубже в илистое дно шест, которым он подталкивал лодку, и сидел тихо, неподвижно, стараясь ничем не выдавать своего присутствия, напряженно всматриваясь и прислушиваясь к тому, что происходило вокруг.
От порывов ветра камыши шуршали, заглушая остальные звуки. Когда ветер стихал, начинали назойливо петь комары, норовя усесться на лицо. Комаров было много. Невидимые в темноте, они лезли в глаза, уши, за воротник. Отбивая атаки невидимых врагов, человек отмахивался обеими руками, отпуская для этого шест, за который все время держался, чтобы лодку не отгоняло в сторону.
Снова налетал ветер, отгоняя комаров, но начинал шуршать камыш, чуть позванивая отмирающими подсохшими листьями. А с той стороны, где полыхали молнии, доносился ровный, мощный гул, словно там, за несколько десятков километров, многочисленные орудия приступили к беспрерывному методическому разрушению обороны врага, как это бывало не раз на фронте.
Ничего не услыхав и не заметив в этом месте, человек, бесшумно опуская шест в воду, стал подталкивать лодку вперед.
Он искусно лавировал между зарослями камыша и безошибочно направлял лодку туда, куда надо было, ни разу не допустив ее ткнуться носом в плотные камышевые стены, между которыми лежало пространство свободной воды. Похоже было на то, что все озеро человек знает наизусть и чувствует себя на нем так же привычно и свободно, как если бы находился в давно обжитой квартире.
Где‑то совсем рядом тихо крякнула спросонья утка, затем послышалось испуганное шлепанье и характерный посвист утиных крыл, рассекающих воздух.
– Напугал? Летай, летай. Сейчас ты мне не нужна. – пробормотал человек и продолжал подталкивать лодку вперед.
Непривычный, чуть слышный звук заставил его налечь на шест, тормозя движение. Лодка остановилась.
Прошло несколько минут, и в наступившей тишине, между двумя порывами ветра он различил испытанным слухом охотника то, что так долго искал, ради чего решил провести бессонную ночь.
В камышах слышалось движение, признаки какой‑то жизни, до сих пор неизвестной на этом тихом озере, где испокон веков обитали только утиные выводки.
Доносились осторожные всплески, какое‑то шуршанье, словно кто‑то невидимый старался что‑то тащить по камышам. Вот раздался отчетливый звук падения в воду какого‑то тела.
– Сорвалась, – подумал человек, – и это заставило его улыбнуться.
Не видя, он представил себе, как зверок тащил на сухое место добытый со дна озера сладкий корень камыша, как он втаскивал его на «лабзу» – наслоения погибших камышевых стеблей, чтобы поудобнее устроиться и полакомиться своей любимой пищей, как вдруг под лапкой обломилась тростинка и зверушка бултыхнулся обратно в воду.
Чуть‑чуть подавая лодку вперед, человек внимательно слушал, и не просто слушал. Он прямо‑таки упивался звуками озерной жизни, как упиваются любители звуками чудесной музыки.
И вот отовсюду – и с боков и спереди – стала слышна возня зверушек, недавних жителей камышевых зарослей, занятых своими делами, не подозревающих о близком присутствии охотника.
Человек старался сидеть совершенно неподвижно, забывая, что вокруг него тучей вьются комары, густо облепляя лицо, шею и руки.
Сколько так он просидел, он и сам не знал. Время перестало для него существовать.
Наконец, он решил, что на сегодня хватит быть разведчиком и сказал в темноту:
– Значит, чувствуете себя, как дома? Ну, добре. Пока живите.
Сказав это, он прислушался. Вокруг воцарилась тишина.
– Испугались? Не бойтесь.
Сильными толчками человек погнал лодку, больше не заботясь о том, чтобы соблюдать тишину, стараясь поскорее выбраться из зарослей на простор чистой воды.
Поселок спал крепким предрассветным сном.
Человек посмотрел туда, где недавно бушевала гроза. Далеко‑далеко изредка вспыхивали похожие на зарницы отблески молний, окрашивая края уходящих туч, но звуки грома сюда уже больше не долетали.
До рассвета оставалось совсем немного. Ощущая приятную усталость, охотник тихо зашагал вдоль огородов домой.
Подсолнухи, свесившись через плетень, неодобрительно, по стариковски тихо, покачивали своими шляпами, словно желая сказать – и чего человек шляется по ночам, да к тому же еще один.
В избе, услыхав шаги, жена спросила сонным голосом:
– Вернулся?
– Вернулся, спи.
– Комары не заели до смерти?
– Есть маленько. Зато, слышишь, нынче с добычей будем. С большой.
– Как же. Второй год про это слышу, – сердито ответила жена и больше ничего не сказала, хотя он принялся подробно рассказывать о том, что видел и слышал на озере. Она спала.
* * *
Ивана разбудил шум, поднятый во дворе стариком‑соседом, заядлым рыбаком.
– Где он, этот охотник? – шумел старик. Натворил делов, а теперь позапечкам прячется.
Иван вышел на крылечко, щурясь от яркого солнца.
– Чего шумишь, – спросил он, – сладко потягиваясь, заранее зная все, что произойдет дальше.
– Видали его! – от злости чуть не задохнулся старик и молча указал на лежащую у его ног плетеную из тальника корчажку.
– Улов плохой? – спокойно спросил Иван.
– Крысы, крысы твои проклятые озоруют. Опять корчажку изгрызли. Видишь.
Старик повернул свою снасть так, чтобы Иван мог посмотреть, какую дыру прогрызли ондатры в плетенке, выпустив на свободу поймавшуюся рыбу.
– Что‑ж они, подлюги, делают! Всю снасть мне перепортили. Хотя бы жрали рыбу, а то и не едят и мне не дают. А? Чего зубы скалишь? Ты виноват. С тебя буду взыскивать.
Негодованию старика не было предела.
– Чего‑ж ты на меня, отец, кричишь, – старался утихомирить его Иван. – Я и сам не прочь рыбкой побаловаться.
– Зачем тварей расплодил? Кто тебя просил? Век прожил, заботы не знал. С вечера корчажку поставишь – утром полнехонька. А теперь? Убирай куда хочешь свое змеиное отродье. Слышишь?
– А как его теперь уберешь. Расплодились, всех не переловишь.
– Ты это всурьез?
– Помогай ловить, может быть справимся.
– Чтоб я свои руки стал поганить. В жизни этого не будет. Я на тебя управу найду. Жаловаться буду.
Высказав свое откровенное мнение о самом Иване и его родителях, об ондатре, осквернившей озеро и мешающей ему заниматься рыбным промыслом, старик ушел, унося с собой испорченную корчажку и твердое намерение добиться справедливости – найти власть и закон на охотника и «змеиное отродье».
Иван с грустью посмотрел вслед старику. Жаль было его. Как никак, Ивана роднило с ним очень многое. Тот – рыбак. Иван – охотник. В каждом из них сильна одна и та же страсть к промыслу. Ну, кто знал, что ондатра окажется такой проказливой и, воцарившись на озере, начнет совершать каверзы.
Каверза заключалась в том, что, обнаружив поставленную корчажку, ондатра обязательно прогрызала стенки, и рыбаки напрасно ожидали улова.
Теперь виноват, конечно, во всем Иван. Начиная с весны, сколько пришлось выдержать таких перепалок. Ругают Ивана на редкость дружно, а доказать ему свою правоту пока нечем. Только остается утешать самого себя, что настанет время, и тогда люди поймут – не зряшнее это дело – ондатра. И выгоднее ловить ее, чем плести и ставить корчажки на рыбешку. Рыбу же можно ловить и другими снастями. Да, время покажет.
* * *
На невысокой гриве, меж двух озер, расположилась в Барабинской степи деревня Новогутово.
Здесь весной и осенью – обилие перелетной дичи. Зимой многочисленные стаи волков рыскают по округе в поисках добычи. Невольно еще с детства Иван Иванович Балабошкин пристрастился к охоте и уже давно числился штатным охотником в своем колхозе «Память Кирова».
Охотничью науку ему приходилось познавать самостоятельно, потому что издавна вкоренилось среди промысловиков правило свои секреты скрывать от других. Каждый по‑своему выслеживал зверя, по‑своему ставил капканы, имел свою, только ему известную приманку, и об этом никому не рассказывал.
 2020-06-12
2020-06-12 94
94








