В избе тесно, и мы на ночлег укладываемся на полянке. Под бока себе кладем сухое сено. Нас это вполне устраивает – свежий воздух. Мы скучали по нему в городе.
Меня друзья кладут в середину:
– Так тебе будет теплее после твоей холодной ванны…
Максим Григорьевич приносит с рыбозасольного пункта большой брезент и накрывает нас:
– Спите, ребятушки, утром подыму на зорю…
Утром мы с Ефимом плывем на дощатой лодке возле прибрежных камышей. Справа – длинное плесо. Оттуда налетает ветер, бьет в нос лодки и прижимает нас к зеленой стене. Стена с шумом валится почти до самой воды, потом на секунду встает и снова падает. По щекам хлещет дождь. За воротники течет вода. Брезентовые плащи превращаются в жесткие панцыри. Иногда пенистые гребни переваливаются через борт. Нам давно надо быть на месте охоты, а мы не проплыли еще и половины пути. Гребем изо всех сил, но лодка движется очень медленно. Иногда нам кажется, что она стоит на якоре. Ветер, противоборствуя, часто относит нас к куреням, мимо которых мы проплывали несколькими минутами раньше.
Проходит часа полтора, пока мы добираемся до Речки. Влево, за камышами, открывается большая заводь, похожая на двор, окруженный высокими заплотами. Посреди заводи – зеленый курень, камышевый остров, затопленный водой.
Мы загоняем лодку в самый густой камыш, – золотистые дудки в мизинец толщиной, пушистые метелки рукой не достанешь.
Я сажусь на беседку. Ефим встает рядом, – он будет стрелять только в лет. А я – по сидячим.
Ветер теряет силу. Мелкий дождик моросит без конца. Убаюкивающе шумят камыши. Под их шум я погружаюсь в дремоту. Ефим толкает меня в плечо:
– Стреляй!
Вскидываю голову. Метрах в двадцати от нас поднимается гоголь‑сегодыш. Не успеваю взвести курки, как раздается выстрел Ефима. Гоголь падает с перебитым крылом и сразу же проваливается в воду. Мы ждем, когда он вынырнет где‑нибудь далеко от нашего куреня. Но через несколько секунд он появляется на поверхности воды, возле моего камыша. Я опускаю руку за борт и схватываю подранка.
Это единственная птица, добытая нами до полудня.
– Утчонка, наверно, там, за большим плесом.
Мы выплываем из куреня и направляемся к поселку.
Через день решаем плыть за большое плесо. Там, в камышах, стоит на сваях рыбацкая избушка.
В ней будет наше стойбище.
Впереди плывет Максим Григорьевич, лицо его теперь напряжено, и черные усы топорщатся, как иглы на спине ерша. За его лодкой плещется вода. Справа вдали – камыш, слева – «море». Поблизости от нас солнце бросило на сизую шелковую воду серебристые полоски, за которыми лежит зеленая безбрежность. То и дело мы проплываем над сетями, протянутыми от камышей далеко в «море». Рыбаки веслами подхватывают за верхние кромки, приподымают, выпутывают красноперых окуней и снова погружают сети в холодную воду. Изредка в руках рыбаков блестят щуки, будто поленья. Слышно, как большая рыбина бьет хвостом о дно лодки.
Просыпается ветер. «Море» вмиг становится рябым. О носы лодок разбиваются первые волны. Мы повертываем к камышам. На плесо выбегают белые барашки.
Вскоре мы входим в узкий пролив, – по обе стороны густые заросли на несколько километров, – и поворачиваем круто вправо.
Вот и долгожданная избушка. Она стоит среди камышей на маленьком плесе, где места только для ее деревянных ног да для 4–5 лодок. Она воскрешает в памяти русскую сказку. Избушка на курьих ножках! У ней ни окон, ни дверей. Люди лазят в дыру в стене. Камышевая крыша издали напоминает пшеничный блин. Нет лишь сказочного калача…
Мы причаливаем к невысокому помосту из тонких жердей, бросаем наши котомки, а сами спешим на вечернюю зорю.
Вскоре мы оказываемся на небольшом плесе, окруженном шумливыми камышами. Посредине – зеленый курень. От куреня поднимается стая гоголей.
– Одному надо здесь остаться, – кричит Тимофей.
– Дальше места будут лучше, – успокаивает Максим Григорьевич заядлого охотника.
Он ведет нас по узкому пролому в камышах, где двум встречным лодкам нельзя разминуться.
– Линных гусей ловили тут, пролом сделали, – разъясняет рыбак. – Охота была добычливая. В прошлом году вон за тем зеленым куренем сети натянули, а с той стороны из камышей погнали. У гусишек маховых перьев нет, лететь не могут, в сетях‑то запутаются, а мы их палками по головам давай хлестать… Полные лодки нагрузили!..
– А сколько штук сгноили? Сотни?
– В тот раз всех успели засолить. А бывало, в самом деле, пока домой плывешь, да солить собираешься, попреют гусишки наполовину. Но это не беда. Охота добычливая, много успеваешь засолить.
– Это не охота, а разбой среди бела дня. Хищничество.
– Раньше все так добывали линных гусей… А теперь стали говорить: нельзя, да нельзя… Но наши гоняют помаленьку…
– Как ваше сердце не лопнет от такого варварства, – гремит Ефим. – Вы птицу любите, про лебедей говорите, будто стихи читаете…
– Верно, – перебивает Максим Григорьевич, – лебедя зорить не позволю. Сам не стреляю и другим не даю. В позапрошлом году один городской охотник не послушался меня, свалил лебедка, так я ему – от ворот поворот: уезжайте, говорю, и больше сюда нос не показывайте.
– А сами гусей лупите, – укоряет Тимофей.
– Старая привычка, будь она проклята, подмывает, – соглашается островитянин. – Опять же хлеб колхозный жалко. Гусь он – вроде вредителя: навалится стая – все на корню обмолотит.
– Охоту надо в августе развертывать, коптить птицу да – в город, – советует Ефим. – Зачем же больных‑то губить? Ни себе, ни людям.
– Да это верно, – окончательно сдается Максим Григорьевич. – Мясо у них в ту пору никудышное – тощая птица, как балалайка…
Первым останавливается на зорю Тимофей. Он повертывает влево и уплывает на маленькое плесо. Неподалеку от чего встаю я. Ефим с Максимом пробираются на лодке в глубь зарослей.
Через полчаса черное крыло тучи закрывает горизонт. Заря быстро гаснет. Камыши превращаются в сплошную черную стену. Без поводыря мне не найти избушки в густых зарослях, изрезанных бесчисленными проливами. Решаю подождать проводника. Слышу стук весел, все ближе и ближе. Плывут сюда. Я слышу голос Ефима, но лодки не вижу до тех пор, пока они не подплывают ко мне вплотную.
Плывем по тому же узкому пролому. Кричим Тимофею. Он отзывается за камышами:
– Выход потерял. Не могу выплыть.
– На запад, на запад, плыви, – советует рыбак.
– Чорт его знает, где запад, где восток. Ничего разобрать нельзя.
– А лодка носом куда стоит?
– Не знаю. Плавал возле камышей во все стороны и выхода нигде не мог найти. Буду проламываться – тут мелко. А вы кричите.
Слышно, как он опускается в воду. Под ногами хрустит густой камыш. Лодка с шумом разваливает заросли.
Мы свиваем факел из сухого камыша, обертываем газетой и зажигаем. Высоко над головами пляшет пламя.
Факел быстро сгорает, а несчастный охотник все еще далеко от нас. Он часто останавливается и шумно вздыхает. Мы ясно представляем его себе. Тяжелыми руками он наклоняет камыш, чтобы сделать два нешироких шага. Красная телячья шуба лежит в лодке. Пиджак расстегнут. От рубашки идет пар. Из‑под шапки, с широкого лба текут горячие струйки. Тяжела ходьба по сырым камышам. Даже по сыпучим пескам знойного юга итти много легче.
Ефим, которого охотники за исключительную выносливость прозвали верблюдом камышей, уступает другу свое почетное звание:
– Проламывайся, проламывайся, верблюдушко, – звонко кричит он. – Проламывайся, милой.
Наконец, мы видим широкую грудь Тимофея. Через высокие голенища сапог переливается вода. Он падает в лодку. Мы выводим ее на плесо, посредине которого стоит курень камыша.
Вскоре сам Максим Григорьевич теряет ощущение стран света. Мы плывем возле зарослей и не можем найти выхода в пролив.
Рыбак встает на ноги и, потрясая веслом над головой, кричит:
– Долго ты нас водить будешь, проклятая? Что тебе надо от нас?
– Это вы на кого так?
– Да… на нее, окаянную. Давно она ко мне не привязывалась, а тут – на тебе – прицепилась. Водит. Путик туманом закрывает.
Он повышает голос:
– Брось, говорю тебе. Я не парнишка. Ты меня не собьешь.
Рыбак пристально смотрит вправо.
– Вроде бы тут камыш‑редничок виднеется, – неуверенно говорит он, садясь на дно лодки.
Мы повертываем в редкие заросли, проплываем их и через минуту оказываемся в проливе.
– Меня однажды, – годов, однако, семь тому будет, – она, проклятая, два дня по камышам водила. Едва, ребятушки, выплыл, – уже спокойно рассказывает рыбак. – Ровно бы и место знакомо, а никак на путик выбиться не мог.
Он и на этот раз не решается назвать кикимору, – ведь до избушки остается еще полкилометра нелегкого пути.
– А какая она? – опрашивает Тимофей серьезным тоном.
– Мне видеть не доводилось, – отвечает Максим. – Говорят, в разных обличьях показывается: кому – молодой девкой, кому – старухой, а кому – глазастым филином. Глаза у филина, сказывают, как угли горят, на ушах – звездочки, клюв на серп походит, а голос человеческий. А моему дедушке ветряной мельницей показалась. Шесть ден старик проплавал, чуть с голоду не решился. Увидит мельницу – проламывается напрямик, а там – один камыш. Мельница – с другой стороны крыльями машет. Да он у Малого Чана к берегу прибился…
– И трезвый был?..
– Ну, вот вы смеетесь…
– А ты неужели веришь в такую чепуху?
– Да сам не знаю. От стариков привычку перенял… – говорит Максим Григорьевич. – Тут и без нее в два счета заплутаешься – камыш да небо.
– В этом и дело – ориентиров нет.
– Правильно. А все‑таки, ребятушки, поминать ее не надо. Ну ее к бесу…
Лодки останавливаются у помоста из жердей.
В убогой хижине мы на камнях разводим костер.
Тимофей открывает банки с рыбными консервами…
* * *
Бывают минуты, которые навсегда остаются в памяти четкими гравюрами.
Такой гравюрой стоит передо мной пестрый чановский день. Над головами висят светлосерые громады облаков. В причудливые просветы видно голубое небо. На севере, над медной безбрежностью камышей громоздятся черные тучи. Над просторами стоит величественное спокойствие. Переломится тонкий камышевый стебель, и то слышно. После сытного обеда спят обитатели вод. Лишь изредка недалеко от свайной избушки жалобно стонет черная гагара, будто жалуется, что не дано ей подниматься высоко в поднебесье.
Мы сидим у костра.
Издалека доносится нежная музыка. Все слышнее и слышнее. Кажется, что где‑то в стороне от избушки по камышам проходит оркестр. Ясно слышен звон тонких‑тонких серебряных дисков.
Ефим выскакивает на помост с ружьем в руках, а за ним и мы. На минуту все замираем. Над камышами, на черном фоне туч проплывает стая лебедей. Они идут цепочкой. Мы стоим, очарованные красотою птичьего полета; любуемся мерными изящными взмахами мощных крыльев, гордо вытянутыми головами.
Птицы спокойно разговаривают между собою:
– Кув, кув…
– Кув, кув…
В их музыкальных голосах слышится легкая грусть. На своем птичьем языке они прощаются с озером, с буйными камышами. Прощаются до будущей весны.
Мне вспоминается, что казахи, любящие степь с ее голубыми глазами вод, так же нежно прощаются с озерами:
– Кош, куль…[7]
Два слова слились в одно географическое имя. Недалеко от озера Чаны стоит деревня Татарский Кошкуль. А на великой Сибирской магистрали, в Барабинских степях, есть станция Кошкуль.
Прощай, озеро. Сегодня мы последний день живем в свайной избушке. Завтра ступим на твердую землю и оглянемся на твои просторы.
Я провожаю глазами лебедей. Все тише и грустнее их разговор. Так же мягко и постепенно исчезают прекрасные звуки птичьего оркестра, как возникли они несколько минут тому назад.
* * *
Мы останавливаемся на ночлег на месте охоты. Лодки затаскиваем в камыш. В носах лодок лежит наша добыча – шилохвостые, чирки, соксуны, гогольки.
Чтобы не поджечь камыш, мы разводим костер в котле. Над котлом держим второй котел, – в нем варится уха из чебаков.
После ужина ножами режем камыш и в лодках стелем себе постели. Мягко спать на мелком камыше. Над головами задумчиво мерцают звезды. Где‑то неподалеку от нас с шумом падает на воду пара кряковых.
* * *
Туманное утро. Я стою в камышах, на стрелке между большим плесом и Речкой. У противоположной стены камышей чернеют лысухи. До меня доносится их противный стон. Иногда туман рассеивается, но и тогда нигде не видно ни одной утки. Это незнакомый рыбак распугал их. Он все утро пел противную «Могилу».
Лодка рыбака показывается из‑за камышей. Он плывет прямо на лысух. Они сначала стараются уплыть от него, а потом одна за одной бьют крыльями о воду, чтобы подняться на воздух. Они долго как бы бегут по воде – отталкиваются ногами и крыльями – и никак не могут поднять свои тяжелые зады. Только на средине плеса лысухи отрываются от воды, летят низко и тяжело.
Максим Григорьевич советовал нам пойти на Лебяжье озеро, расположенное рядом с Речкой и большим плесом, и там бить лысух.
– Вы можете их там в один день всех перестрелять: им деваться некуда. Днем на плесо они не полетят, – говорил он. – У меня однажды начальник милиции был, так за день на Лебяжьем настрелял лысух полный мешок.
– А знаете, как лысуха сюда попадает?
– Ночью летит, окаянная.
– Ее журавль на спине приносит. Мне один охотник рассказывал. В теплой стороне птицам стало тесно. Корму нехватало. Созвали собрание и постановили: искать новые места. Ходоком послали журавля – птица умная, осторожная и почтенная, летает быстро и ходит хорошо – ноги длинные. Журавль отправился на поиски новых мест. А без него к журавлихе стал похаживать чирок. Он ей понравился – маленький, юркий, веселый и на боках яркозеленые перья блестят. Однажды ночью он с журавлихой миловался, слышит – журавль возвращается. Чирок едва успел под гнездо спрятаться. Журавль своей жене новые места расписал: «На севере – прохладно, привольно, корм сытный, журавлят можно много расплодить. Мы с тобой улетим отсюда одни, никого не возьмем». Чирок из‑под гнезда вылетел да прямо к лысухе. Все ей тут же рассказал. Она обрадовалась: «Осрамлю мерзавца журавля. Он в прошлом году перед всеми птицами высмеял меня за короткие ноги». Вот собрались все птицы на совет. Журавль докладывает: «На севере худо. Я оттуда едва ноги унес. На севере – зима, лета не бывает, травы не растут».
– Журавль врёт, не верьте ему! – крикнула лысуха.
– Как ты смеешь меня позорить? – прокурлыкал журавль, схватил лысуху и вмиг ей вывихнул ноги и крылья. Убил бы ее, если бы птицы не отобрали. Тогда собрание решило послать на север орла. Орел слетал и места расхвалил: «Корм хороший, травы густые, простор, приволье! Птенцов можно много развести». Собрались птицы к отлету на север. Пришла лысуха и стала просить: «Не оставляйте меня. Сами знаете, что меня журавль изувечил. Куда я без вас, больная, семейная… Погибну». Опять собрались птицы на собрание и постановили: «Пусть журавль на своей спине носит лысуху на север и с севера обратно на юг». Не хотелось журавлю носить лысуху, но должен был подчиниться – все птицы постановили.
– Так вот почему он осенью рано улетает, чтобы лысуху не нести, – рассмеялся Максим Григорьевич. – А оттуда его за ней заворачивают, наверно?
Сквозь камыш я вижу, как из воды показывается змеиная голова на тонкой длинной шее.
– Гагара – радуюсь неожиданной встрече.
Едва успел перезарядить ружье и подобрать гагару, как в просвете между клочьями тумана показалась длинношеяя и длинноногая серая птица.
– Журавль в октябре! Что за чертовщина!
Стреляю. Промах. Птица перевертывается в воздухе и… летит в ту сторону, откуда появилась. Она темнее журавля. Что же это за птица? Аист? Но ведь аисты бывают белые или черные? Да в Сибирь они и не залетают. Я рассматриваю странную птицу и забываю стрелять из левого ствола. Через секунду она скрывается в тумане.
За обедом рассказываю Максиму Григорьевичу о птице.
– Пошто же ты не убил ее, – сожалеет он. – Посмотрели бы. Недавно рыбаки видели ее и никак не могли понять, что за птица. Никогда такой здесь не было.
– Это, наверно, журавль за лысухой прилетел, – смеется островитянин. – Лысух‑то, ребятушки, стало меньше. Улетают. Осень нажимает на них.
Мы прощаемся с хозяевами и идем к лодкам. Катер поджидает нас в открытом «море».
– Кош, куль! – тихо говорю я. – Прощай, озеро! На твоих просторах я научился плавать. Я вернусь к тебе. Непременно вернусь. Кош, куль!
– Приезжайте еще, ребятушки, на наше море, – приглашает островитянин.
На палубу катера выходит стройный парень, машет фуражкой.
– Нас торопит, – говорит Ефим.
Мы плывем к катеру.
Над нами большим треугольником летят на юг лебеди. Кажется, что они мощными крыльями разметают дорогу среди серых облачных хлопьев. Оттуда падают мягкие чарующие звуки:
– Кув, кув.
Птицы разговаривают о большой воде, о будущей весне, когда они снова прилетят на это барабинское «море».
Е. Березницкий
СОХАТЫЙ
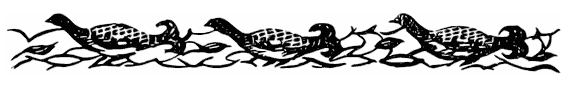
Зубцы дальних гор беззвучно горели.
Вот‑вот запылают вершины
сосен, сошедших к ручью,
Схлынул туман, и разметали форели
Брызги навстречу трепетному лучу.
Щебетом, писком и плеском полон рассвет.
Осторожно,
Тихо раздвинув ветви,
Вышел на водопой
Зверь матерый сохатый. Ноздри раздув
на ветер,
Он поводит тревожно
Тяжелой резной головой.
Тронуло пламенем тихим солнце прибрежную
заросль:
Зверь позолоченный замер,
слушая близость врага,
Грузный и мощный в дымке прозрачной.
Казалось,
Выше зубчатых вершин
вразлет подымались рога,
Так он стоял мгновенье, властвуя над горами…
Зеленый мир, опрокинут, плыл в воде.
Зверь приник
К звучной прохладной влаге
бархатными губами.
Бросило солнце гроздья сочных рябин и
брусник…
Рядом хрустнула ветка.
Чутко замер сохатый,
Будто врезанный четко в раму из гор и вод;
Близко, как на ладони, бок звериный мохнатый
Там, где гудит большое, мощное сердце его.
Только и было слышно:
Капли падали громко,
Да под ногами зверя тяжко охнул песок.
Вот он рога литые на спину бросил ловко,
Вот он готов умчаться, сделав могучий бросок.
Поторопись, охотник! Щебень прибрежный
брызнет
Из‑под копыт. Не одержишь зверя буранный
бег.
Зверю дает охотник время рвануться к жизни,
Хочет сравнять охотник силы в неравной
борьбе.
И, раздувая ноздри, зверь подскочил и
прянул,
Гибели жгучий запах ноздри его ожег.
Бурей летит сохатый…
Выстрел тогда лишь грянул,
Предупредив последний мощный его прыжок
В заросли краснотала…
Лось упал на колени.
Встал… Рванулся… Рухнул грудью на бурелом.
Мертвый, казалось, бежит он в непобедимом
стремленье,
Зверь свободный и сильный, рвущийся
напролом.

Н. Устинович
ЛАЙКА
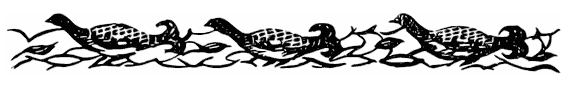
Василия Ивановича Лукина люди называли лучшим охотником колхоза «Таежник». И не зря. Осенью, во время промысла белки, никто не приносил из тайги так много добычи, как Василий Иванович. Колхозный кладовщик, принимая пушнину, всякий раз удивленно говорил:
– Ну и удачливый же ты, Лукин! Белка, видно, сама к тебе идет.
– Под лежачий камень вода не течет, – довольно посмеиваясь, отвечал охотник. – Побегать надо по тайге за добычей‑то.
Все знали, что Лукин и в самом деле ног на охоте не жалеет. Мало кто из колхозников мог потягаться с ним в выносливости. Но главное было все‑таки не в этом. Очень много помогала Василию Ивановичу его чудесная промысловая собака Лайка.
– Без нее я приносил бы пушнины вполовину меньше, – сознавался Лукин. – Такой помощницы я не видел еще ни у кого.
Лайка на вид была самой обычной собакой. Маленькая, с торчащими острыми ушами и загнутым в кольцо хвостом, она ничем не отличалась от простых дворняжек. И лаяла она из своей конуры на незнакомых людей хрипло, лениво, словно выполняла скучную обязанность.
Зато в тайге Лайка преображалась. Куда девался ее ленивый, равнодушный вид! Безустали носилась она чуть не круглыми сутками среди сопок и голос ее, совсем не похожий на прежний, звенел то в одной, то о другой пади.
Вряд ли кто в деревне дорожил своей собакой так, как Василий Иванович. Он построил для нее удобную, теплую конуру, кормил белым хлебом и свежим мясом, терпеливо выбирал набившиеся в шерсть репьи. И нередко, в кругу своей семьи, охотник заявлял:
– Лайка для меня – что родной человек. Когда состарится она и на промысел не пойдет, буду я ухаживать за нею, как и сейчас.
А Лайка и в самом деле начала стареть. С каждой осенью Василий Иванович замечал это все больше. Не было уже у нее прежней неутомимости, слабее и глуше стал голос. По вечерам, после тяжелого промыслового дня, она не порывалась, как раньше, броситься на поиски нового беличьего следа, а устало плелась по лыжне вслед за хозяином к избушке.
Тем временем у Василия Ивановича выросли две славные собаки: Шарик и Мурзилка. Это были дети Лайки, и на охоте они мало в чем уступали своей матери. Поэтому, когда колхозники стали готовиться к новому промысловому сезону, Лукин решил:
– Лайку нынче в тайгу не возьму. Отработала она свое, пусть отдыхает.
И Василий Иванович дал семье наказ кормить суку лучшей пищей.
В сборах незаметно промелькнул последний теплый месяц. Пока насушили охотники сухарей, починили одежду и обувь, до назначенного к выходу в тайгу числа осталось меньше недели.
В один из этих дней к Лукину пришел колхозник из другой бригады Андрей Новоселов.
– Беда у меня, Иваныч, стряслась, – начал он, уныло опуская голову. – Уж такая беда, что не знаю, как ее и поправить.
– Что случилось? – всполошился Василий Иванович.
– Собака сдохла… Тузик… С кем теперь на промысел итти – ума не приложу. Есть у меня второй кобелек, да совсем еще молод, глуп: на синиц лает. Ему поработать сезон с хорошей собакой – был бы толк.
– С председателем колхоза говорил?
– Говорил. Ссуду дает, чтоб купил собаку.
– Что ж, это хорошо.
– Известно не плохо, – согласился Андрей. – Колхоз не оставляет человека в беде. Только где найдешь за три дня хорошую собаку? Вот в чем загвоздка…
Новоселов долго молчал, затем произнес:
– Слышал я, что не берешь ты нынче свою Лайку в тайгу. Не продашь?
– Ладно, возьми, – согласился Василий Иванович после раздумья. – Только стара она стала, больше одного сезона не отработает.
– А мне больше и не надо, – ответил сразу повеселевший Андрей. – К будущей осени кобелек подрастет.
Когда Новоселов, положив на стол деньги, поднялся с табуретки, Лукин тоже шагнул было к порогу. Но дотронувшись пальцами до дверной ручки, медленно вернулся назад и глухо сказал жене:
– Сходи уж Наталья ты, отдай Андрею Лайку…
Потом, не считая, бросил деньги в ящик комода и за весь этот день не проронил больше ни слова.
Ночью Василий Иванович долго ворочался на кровати, а едва все в доме уснули, вышел во двор. Шарик и Мурзилка, завидев хозяина, выскочили из своих конур, радостно стали прыгать на грудь, норовя лизнуть языком по лицу. Только у третьей конуры было тихо, и от этой тишины Василию Ивановичу стало еще более тоскливо.
Ни о чем не думая, Лукин подошел к домику Лайки, тронул ладонью шершавую крышу. Затем, сам не зная для чего, оторвал одну дощечку и, повертев ее в руках, бросил к забору. И когда в крыше появился пролом, Василий Иванович торопливо, словно боясь, чтобы его никто не застал за этим делом, начал ломать конуру. Он трудился так прилежно, что на лбу выступили капли пота. И через несколько минут от конуры не осталось и следа.
Перетащив доски в дальний угол двора, Василий Иванович вернулся в дом и снова лег на кровать. Но сна не было попрежнему, и Лукин проворочался с бока на бок почти до рассвета.
Рано утром Василий Иванович услышал слова жены:
– Лайка прибежала.
Он поспешно вскочил с постели, подошел к окну и тут увидел, что Лайка, свернувшись калачиком, лежит на том месте, где был ее домик…
Василий Иванович оделся и вышел во двор. Он молча вынес из угла груду досок и сосредоточенно начал сколачивать разрушенную ночью конуру.
В это время скрипнула калитка и через высокий порожек перешагнул Андрей Новоселов.
– Собака‑то у меня убежала, – проговорил он. – Цепочку порвала…
Василий Иванович, бросив молоток, широко зашагал в дом. Он тотчас же вышел оттуда и, протягивая Андрею деньги, сказал:
– Возьми. Передумал я…
Новоселов, помедлив, неохотно сунул деньги в карман и, глубоко вздохнув, промолвил:
– Та‑ак… Пропал, значит, у меня нынешний сезон…
– Почему пропал? – поднял на него глаза Лукин. – Я же не сказал, что не дам тебе Лайки. Бери, охоться. А денег не надо. Вернешься с промысла – приведешь. Пусть дома доживает старость…
И Василий Иванович снова застучал молотком.

Никандр Алексеев
ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ
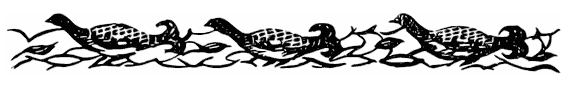
Старик был бел, белей метели…
Удел его – лежи в постели,
Да втихомолку все горюй:
Как лыжи, годы под гору
Бежали ниже, ниже, ниже
И вот остановились лыжи.
Путь жизни пройден, погорюй:
Скатились лыжи под гору.
Ах, их обить бы козьей кожей,
Да быть на сорок лет моложе.
Как белку бил дробинкой в глаз,
Фашисты, так стрелял бы вас…
Пообещал старик столетний
Ружью отдать свой вздох последний.
Ужель без выстрела умру?
Сбежали лыжи под гору…
Есть утешение: любимый
Охотник‑сын стрелял не мимо,
Стал русскому он кровный брат,
Кровь вместе лил за Ленинград
По свеже‑выпавшей пороше.
Привет мой сын – стрелок хороший
За Сталина – он наш отец –
Да будет метким твой свинец.
И я в тайге, не мимо метя,
Взял девяностого медведя…
Последнего ль?
Ужель умру?
Сбежали лыжи под гору.
Сказал, прикованный к постели,
Старик, белее чем метели.
Сказал старик…
И вот те на.
В аил нагрянула война.
Война в аил!
И в самом деле,
Дрожали стекла и звенели…
Послышался звериный рев,
Мычанье долгое коров,
Крик женщин, голосили дети…
В глаза косматого медведя
Глаза взглянули старика
И зачесалася рука…
В окошко поглядел медведь
Или в медвежьей шкуре смерть
Пришла суровою порою,
Припрятав лыжи под горою?
Иль новый воротник сошью?
Тянулася рука к ружью,
Рука, что выстрела просила,
И к шорцу возвратилась сила.
Старик из хаты вон:
– Постой,
Начнем открытый честный бой…
Я слухом слаб и плохо вижу,
Реви сильней, иди поближе…
Как надо, примем чужаков.
Не больше десяти шагов
От следопыта до медведя…
И зверь ревел, рыдали дети:
На задних лапах, сея страх,
Топтыгин шел в пяти шагах,
У старика былая хватка:
Нацелил прямо под лопатку,
(Шерстиночку облюбовал)
И смерть убита наповал.
Старик сказал:
– Неплохо вижу,
Прощай постель. –
И встал на лыжи.
Александр Куликов
МЕДВЕЖАТНИКИ
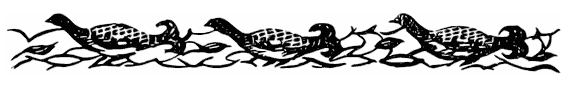
Есть в Горно‑Алтайской области село Уважан. Окутанные голубоватой дымкой в летние погожие дни лежат за долиной горные хребты. В узких ущельях пенятся о камни беспокойные, вечно торопливые реки. Зеленым ожерельем охватывает горы тайга, забирается высоко по склонам и, чем выше, тем реже она, и вот, словно устав подниматься на высоту, остается тайга внизу, и только отдельные деревья‑смельчаки еще продолжают свой подъем, но потом исчезают и они. Выше, сияя белизной, лежат вечные снега – белки. Редко человек посещает эти поднебесные высоты, и только медведь – хозяин тайги – уходит в знойные июльские дни к белкам, в прохладу снежных вершин. А за зверем идет человек, отважный охотник‑медвежатник. Идет день, два, три, неделю, не теряя следа, пока не встретится с ним и не вступит в единоборство.
 2020-06-12
2020-06-12 104
104








