В глаз, без промаха, белку бил.
В зимовье на распялах шкуры,
Пестроцветный пушной подбор:
У лисицы – подшерсток бурый,
Белка вышла – на первый сорт.
Горностаи светлы и нежны,
Росомахи – в три искры бок,
А у выдры – нагул подснежный
Сединой по хребту натек.
Год хороший для всех хороших
Мастеров огневой игры.
На тропах глубоки пороши,
Сладок дым смолевой коры.
Рысьим мехом подбиты лыжи.
Темной сталью сверкает ствол.
По тайге, за собакой рыжей,
Верст с полтысячи он прошел.

Кондр. Урманов
ЗИМОЙ
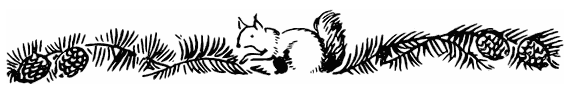
Перед Новым годом я вскинул на плечо ружье, встал на лыжи и пошел в лес. Кто знает, может быть там меня ожидает удача, и я на Новый год украшу свой стол какой‑нибудь дичиной. Это совсем неплохо в трудные военные годы…
В последние дни усердно давил мороз, ртуть в термометре сжималась до 40–45 градусов, в воздухе стоял туман и часто на близком расстоянии плохо было видно. В день моего выхода температура повысилась на десяток градусов, исчез туман, и яркое солнце спокойно, совершало свой путь в холодном зимнем небе.
За городом я спустился в овраг, пересек небольшую речонку и, поднимаясь на бугор, неожиданно увидел свежий след лисицы. В лесу, по голубому снегу, ей, видно, трудно стало добывать пищу, и она решила сходить «в гости» к крайним пригородным домикам, надеясь там чем‑нибудь поживиться.
От яркого солнца и белизны снега ломило глаза. До заката времени было много, и хотя целью моего похода было – отыскать тетеревов, «уложить их спать», чтобы на утро безошибочно устроиться на месте, – я все же решил последить за лисичкой.
– Бывает, – говорил я себе, – пойдешь за одним, а находишь другое.
Я шел к знакомым местам, и след лисы не уводил меня в сторону. Осенью, километрах в двадцати от города, где я охотился на тетеревов, над маленьким ручьем обнаружил три колхозных полевых избушки. Вспомнив о них, я сказал себе, что лучшего и желать нечего. В одной из них жил сторож Аким Иванович с большим серым котом, более похожим на дикого зверя, чем на домашнее животное. Провести долгую зимнюю ночь в такой избушке – мечта охотника.
Одет я был в полушубок с плащом и, чтобы не греть излишне себе спину, не торопился. Лисий след был неглубокий и, как говорят, «тепленький». На взгорье снег был достаточно тверд, лыжи шуршали, как по льду, и нужно было хорошо приглядываться, чтобы не потерять след, не потерять направление. Вместо четкого отпечатка лапы, на снегу оставались только следы острых, симметрично расположенных коготков. Этот трудно читаемый след был невелик, и вскоре лиса пошла низиной, между кустарников. Только не увела бы она меня в Большой лог, который тянется на десяток километров в нежелательном для меня направлении.
Даль хорошо просматривалась, и я, не замечая, стал «нажимать». Лыжи несли легко, снег не проваливался, я на ходу с удовольствием читал лесную книгу по многочисленным и разнообразным следам обитателей леса. Заячьи следы шли во всех направлениях. Ноги зайца быстры, и он не стесняется расстоянием. День лежит где‑нибудь в укрытии, а уж за ночь вдоволь нагуляется – везде побывает в поисках пищи. Горностай и хорек больше прогуливаются по лесной чащобе, обшаривают пни, проверяют всякую ямочку. На больших полянах, где были посевы, – частые следы мышей. Как тонкие бисерные строчки, они украшают зимние страницы полей. Возле брошенной соломы наброды сорок и белых куропаток. Лисица прошла по ним, обнюхала все, покопалась в двух местах и через бурьян направилась в небольшой с густым тальником лог.
– «Не залегла ли она где‑нибудь тут?» – подумал я и осторожно стал спускаться, зорко вглядываясь в каждый кустик, в каждый бугорок снега.
Но из лога след вывел меня на пригорок, к одиноко стоящему кусту. Недавний буран за кустом выстрогал причудливый гребешок, все было ясно видно и, не предполагая никаких неожиданностей, я закинул ружье за плечо. Я еще не дошел десятка метров до куста, как из‑под Надыма вырвался крупный заяц и быстро покатился на бугор. Если бы не черные кисточки на концах его длинных ушей да не грязноватые ступни лап, его трудно было бы увидеть на снегу – так бела была его зимняя шубка. Быстро схваченное ружье пришлось снова забросить на плечо: заяц был уже вне выстрела.
Поднявшись на бугор, я остановился в раздумье: за кем итти? Лисий след шел прямо и уводил меня все дальше в сторону Большого лога. Я еще не видел лисицы и неизвестно, увижу ли. Между тем, надвигается ночь и не пора ли подумать о ночлеге? Заяц же пошел влево, к тем местам, где по моим предположениям должны быть избушки. Не лучше ли иметь в руках ушкана, чем золотохвостую лису в Большом логу?
Город, весь окутанный дымовой завесой, остался далеко позади. Опускаясь к горизонту, солнце помутнело, а мороз, казалось, начинал усиливаться к ночи. Нужно было решать – куда итти? Ведь ушкан пока тоже еще не в руках, а уж поводить‑то он поводит!
Поле передо мной было изрезано массой оврагов, низин, поросших кустарником, в березовых колках попадались крупные деревья, и глаз невольно останавливался на «подсадистых», плакучих березах, на которых нехватало только моих чучел да косачей.
Вопреки благоразумию я пошел по следам лисицы. Мне казалось, что она достаточно отошла уже от города и где‑нибудь совсем недалеко отдыхает в тишине и покое. Я без оглядки мчался по ее следам, нырял в овраги, прочесывал кустарники, пересекал чистые поля и так же неожиданно, как на зайца, налетел на лису при выходе из кустов. Она применила все свои лисьи хитрости, чтобы обмануть меня, но мой выстрел прогремел не зря: она сбавила шаг и я заметил, что задняя правая нога волочится по снегу. Я стал нажимать. Часто на снегу я видел красные бусинки застывшей крови. Если бы снег был поуброднее, я скорее умаял бы красавицу, но она выбирала твердые места и шла довольно далеко впереди.
Теперь все дело было в моих ногах, выносливости и смекалке. Я обходил лису по крутояру, мчался под уклон так, что в ушах свистел ветер, и только боялся одного, чтобы не налететь на невидимый пенек и не сломать лыжи. Я гнался долго, а лиса все шла впереди, вне выстрела, как бы дразнила меня. Спускаясь под уклон, я приближался к ней, но она меняла направление, взбиралась на пригорок, и я отставал.
В последний раз я увидел лисицу на кромке Большого лога. В горячей погоне я как‑то забыл о нем и сейчас даже испугался.
– «Уйдет»… – мелькнула мысль.
Лог был сумрачный и страшный, он, как живой, раскрыл свои мохнатые объятья, чтобы принять и укрыть покалеченного мной зверя. Я еще попытался отрезать лису от лога, но безуспешно – она, словно пушистый колобок, скатилась на дно и исчезла в густых зарослях.
Разгоряченный, с мокрой спиной и мокрой головой, я задержал лыжи и только сейчас пришел в себя. Солнца уже не было, и землю кутала синева приближающейся ночи. Я взглянул в ту сторону, где должны быть избушки, и ничего, кроме заснеженных полей да разбросанных в беспорядке березовых колков, не увидел.
Я закинул ружье за плечи и пошел тем размеренным шагом, который не дает остынуть и при котором нельзя излишне согреться. Предстояла долгая зимняя ночь, а какая она будет, я не знал. Вечерняя синева быстро исчезла и весь мир, окружавший меня, заливала густая темнота. Невольная дрожь пробегала по спине: в такой темноте трудно было рассчитывать найти избушки и как бы после долгих блужданий по лесу мне не пришлось итти к городу, который теперь казался таким далеким‑далеким.
Я шел ощупью, избегая спускаться в овраги и тем удлиняя свой путь. Мороз крепчал, на небе появились звезды и стало как будто немного светлее. Теперь лыжи мои не шумели, как днем, а звонко пели, и на плечи с каждым часом наваливалась усталость; ружье казалось не в меру тяжелым, одежда связывала движения.
Поровнявшись с каким‑нибудь березовым колком, я долго и пристально вглядывался в него, перебирал в памяти свои осенние походы и силился припомнить какую‑нибудь кривую березу, которая должна же сохраниться в памяти. Нет, память отказывалась, память ничего не могла восстановить и уже не боязнь, а страх перед долгой зимней ночью начинал сжимать мое сердце.
Я шел уже более часа и не мог решить – верно ли взял направление, хотя звезды усыпали все небо и без труда различались овраги и возвышенности. Иногда казалось, что вот обойду этот лесок и начнется спуск в долину, а там, под крутой горкой, над ручьем стоят три избушки. В самой крайней к ручью живет дедушка Аким Иванович. Сейчас, вероятно, он сидит у печи, глядит на жарко пылающие сухие дрова, а рядом с ним – серый большой кот; он тоже щурится на огонь и тихонько мурлычит, развлекая не то своего хозяина, не то самого себя…
Видения мои исчезают быстро, не возбуждая во мне уверенности, что я скоро окажусь в тепле. Неожиданно впереди, на снегу, зашаталась длинная‑длинная тень. Я оглянулся – из‑за леса поднималась большая, ясная луна и от ее холодного света у меня на сердце стало теплее. Теперь‑то я расшифрую всю округу, и желанные избушки никуда от меня не скроются, я закурил и быстрее зашагал.
В одном месте, спускаясь с крутояра, я разглядел среди берез три крупных сосны. Они ярко выделялись своими густыми кронами и, раз увидев, их нельзя было забыть. Осенью я отдыхал под ними и назвал их «три сестры». В самом деле, среди березняка они были одиноки, и это название родилось как‑то само собой. Может быть, когда‑то здесь был большой сосновый лес, но сейчас они одиноки. Я четко, до мельчайших подробностей, вспомнил свой отдых под ними и тот путь, каким я шел к полевому стану. Я облегченно вздохнул и, теперь уже без всяких сомнений, направил лыжи к избушкам.
Обходя возвышенность, я увидел запомнившуюся ранее березу. Вероятно, в далеком детстве какая‑то внешняя сила искалечила ее. Она была согнута дугой, вершина уперлась в землю, засохла, а сучья вытянулись кверху. «Березка‑веер» назвал я ее, увидев впервые. Теперь сучья были как бы самостоятельными деревьями, со своими кронами, она же – надземным корнем, питающим их соками земли.
«Березка‑веер» сказала мне, что я шел правильным путем. Луна поднялась высоко, и даль была ясна. Вскоре я увидел избушки. Они стояли низенькие, как бы придавленные тяжелыми белыми шапками. Недалеко от них был навес. Издали он казался горбатым чудовищем на длинных тонких ногах.
Я стремительно подкатил к избушке, в которой осенью жил Аким Иванович, и от переполнявшей меня радости уже раскрыл рот, чтобы крикнуть: – Аким Иванович, встречай гостя!., и онемел. Избушка глядела на меня пустыми глазницами, в оконных проемах не было даже рам. Остальные избушки были в таком же состоянии: ни рам, ни дверей, плиты разрушены, нары разобраны, сожжены или увезены.
Меня обдало холодом. Я был мокрый, сил осталось мало, а ночь… да что ночь! – утро меня не согреет. В скрадке‑то с часик надо просидеть неподвижно.
Я вошел в избушку, в которой жил Аким Иванович. Здесь тоже кто‑то усердно поработал, даже половицы выломал, и я чуть не свалился в яму, в подполье. Может быть, разгром произошел недавно. В избушке мало было снега. Я прошел и сел на подоконник закурить.
Вероятно, у меня звенело в ушах, но мне казалось, что это звенит окружающая меня тишина. Изредка в этот звон, как короткие хлопки выстрелов, врывалось потрескивание берез, стоявших над ручьем.
Я переживал самую критическую минуту, не знал, что делать, на что решиться. Вдруг вспомнилось, как ночевал я в страшную пургу в Атбасарской безлюдной степи. Пурга разгулялась к ночи, до ближайшего аула оставалось еще добрых три десятка километров, но мой возница – старик‑казах – не падал духом и уверял, что, закрывши глаза, он найдет аул дружка Садыка Атаева. Мы ехали бесконечно долго, лошадь давно сбилась с дороги и теперь еле плелась, проваливаясь по брюхо в снег. В белом мятущемся хаосе невозможно было ничего понять, мы уже не искали дорогу, а старались только не потерять направление. Наконец, лошадь выбилась из сил и остановилась. Попытки возницы «прибавить» ей силы кнутом не увенчались успехом. Мы отпрягли ее, перевернули сани, разгребли снег почти до земли и, завернувшись в кошму, уснули. Утром пурга затихла, и мы увидели совсем недалеко аул Садыка Атаева.
Это было давно. Засыпая под кошмой, я чувствовал дыхание старика‑казаха. Сейчас я был в ином положении. Мне нередко приходилось ночевать одному в тайге. Это была настоящая тайга, а здесь – сырой березовый лес и только. Там я валил несколько сухостойных деревьев, стаскивал их вместе, делал что‑то похожее на «надью» – и спал тепло, прикрывшись от ветра лапами сосен и елей. Там все для меня было ясно, здесь же я не знал, на что решиться, что предпринять, и невольный страх начинал давить мое сознание.
Неожиданно в разгоряченном мозгу вспыхнула непрошенная и холодная, как лед, мысль, словно ее тихо произнес кто‑то стоявший за моей спиной:
– Сдавайся!..
– Нет, я не сдамся… – громко говорю я, чтобы разогнать давящую тишину.
И в эту же секунду, откуда‑то сверху, с чердака донеслось:
– Мя‑у‑у!..
Меня как удар поразил этот голос. Если бы я был суеверный… вероятно, не написал бы этих строк, а там же окончил бы свою жизнь неудачливого охотника.
Я выскочил в окно и, стараясь заглянуть на чердак, стал звать:
– Вася!.. Ну, Васенька!., или как тебя там?!.. Ну, иди же ко мне, голубчик, будем ночь коротать вместе!.. Вася!.. Вася!.. Я наношу сена, закроем окна и двери и будем сидеть у костра…
Но сколько я ни звал, кот не показывался. Несомненно, это был кот дедушки Акима Ивановича. Уехал старик, а он остался и одичал. Я ободрился. Если кот может один жить в лесу целые месяцы, то чего же бояться мне, которому предстоит провести в лесу всего одну ночь?
Мороз усиливался. Чтобы не застыть, нужно было двигаться. Я пошел к навесу, нет ли там соломы или сухих дров, чтобы развести костер. Но ни дров, ни соломы под навесом не оказалось, лезть же на крышу не было никакой возможности.
От навеса я увидел у речушки будку трактористов. Конечно, провести долгую зимнюю ночь в тесовой будке – вздор, и я отмахнулся от этой мысли, но… делать было нечего, и я пошел посмотреть. Но странно, я захватил все с собой, как будто не собирался возвращаться в избушку. Правда, об этом я вспомнил гораздо позднее.
Возле будки стояла железная бочка из‑под горючего, я стукнул по ней и она загудела, как колокол в лесной тишине. Будка была на высоких колесах, у двери – лесенка в две приступки. Я вошел и зажег спичку. В будке было двое нар; налево, в углу, когда‑то стояла на кирпичах железная печка – зола и угли подтверждали это. Ах, если бы она была сейчас! Спичка давно погасла, но лунный свет проникал через сохранившееся небольшое окошко и в будке было светло.
– Ну, что ж, тут можно жить, – сказал я себе.
Я положил на нары ружье, снял мешок и, достав топорик, отправился к речке за дровами. Там оказался летний загон для скота… Он был обнесен высоким пряслом, а с северо‑западной стороны, кроме того, был устроен навес, лежало много хвороста и сена. Я снял три сухих, осиновых жерди и вернулся к будке. Пока рубил – согрелся. Потом, случайно, обнаружил, что бочка – это не бочка, а печка: для топки вырублено дно, а у второго дна, на боку сделано отверстие для выхода дыма. Трубы я откопал в снегу под будкой и занялся устройством.
Через какие‑нибудь полчаса в печке жарко пылали дрова. Я разделся, достал котелок, набил его снегом и поставил на печку. Скоро у меня будет чай.
Теперь все неудачи дня отлетели, исчез испуг перед долгой зимней ночью, я сидел, смотрел на пылавшие дрова и думал о завтрашнем дне. Потом в эти раздумья властно вошел кот со своей судьбой, и я никак не мог отделаться от жалости к этому несчастному брошенному домашнему животному.
После чая я решил сходить к избушке, еще раз позвать кота и, если он поверит в мои добрые намерения и подойдет ко мне, обогреть его, накормить и завтра взять с собой в город.
Я отрезал кусочек хлеба и нарочито шумно подкатил на лыжах к избушке, чтобы он слышал, что я иду. Я стал опять у того же окна и позвал:
– Вася!.. Васенька, ну, подойди же, голубчик, я тебе хлебушка дам! Или может тебя зовут Мохнатый?.. Ну, Мохнатый, ну, Серый, ну, Бродяга! – отзовись же хоть разок… я ничего тебе худого не сделаю – хлебушка дам. У меня есть еще печеная картошка, я отогрею ее и принесу тебе… Ну, Василий Иванович, ну, Мохнатый, отзовись же!..
Я тянулся, заглядывал под крышу и все звал. Я перебрал множество всяких имен, звал его в свою будку, к теплу, но на все мои призывы он только один раз мяукнул, как бы говоря:
– Ну, что ты мешаешь мне спать?..
Так я и ушел ни с чем. В будке стало холодно, нужно было заготовить дрова на всю ночь. Я долго возился, снова растопил печку, подогрел чай, несколько картошек и, поужинав, залез на верхние нары. Здесь было жарко, пожалуй, как в бане, и мне захотелось растянуться, расправить уставшие плечи. Я расстелил плащ с полушубком и лег.
И вот никогда так со мною не случалось. Как только лег, – словно в яму провалился – ни ощущения, ни мысли, какой‑то темный хаос, и в этом хаосе плыву я в неизвестность.
Плыву долго‑долго, потом где‑то в темной дали загораются две зеленые точки. Они приближаются, оживают, но я никак не могу догадаться – что это? И вдруг в тишине и мраке рождается призывное и знакомое с детства:
– Мя‑у‑у‑!..
– Вася!.. Мохнатый!.. Серый!.. Бродяга!.. Ну, иди же ко мне, – говорю я, но странно, я не слышу своего голоса, хочу протянуть к нему руки и не могу их поднять. А кот приближается, я уже вижу его широкий лоб с двумя большими зелеными глазами, короткие уши и пушистую серую шубу; он мгновенно вырастает в огромное животное и ложится мне на грудь.
– Пришел, Вася, пришел, Мохнатый! Ну, вот и хорошо! Теперь ты будешь жить у меня, на охоту со мной ходить… только не зимой. Ты ведь боишься зимы?..
Мохнатый мурлычит как‑то сердито. Может быть, он рассказывает о страшных, долгих и холодных ночах зимы и сердится на дедушку Акима Ивановича за то, что он бросил его в этом лесу одного. Потом я чувствую, как больно начинают впиваться его когти в мою грудь.
– Мохнатый, мне же больно, – чуть не кричу я и резким движением хочу сбросить его с себя и… просыпаюсь…
Я лежал, как привязанный к нарам. В груди болело, руки и ноги настолько закоченели, что я не в силах был ими двинуть. И опять, как у избушки, я услышал свою мысль:
– Сдавайся…
– Нет, я не сдамся!.. – и резким рывком приподнимаюсь на нарах.
Лунный свет лежал четырьмя квадратиками на полу и ярко освещал приготовленные дрова. В будке было настолько холодно, что глоток воздуха, как игольчатый лед, входил в мои легкие, причиняя острую боль. Я хотел соскочить с нар, чтобы скорее растопить печку, согреться, но резкая боль в коленях не позволила мне встать, а пальцы рук не двигались и были нечувствительны. Я перепугался. Что это – конец?..
Я представил себя окоченевшим. Уходя из города, я никому не сказал, куда пойду, и меня, навеки уснувшего, найдут только весной пахари. Кому нужно заглядывать в будку, находящуюся в двадцати километрах от города, в глубокой впадине, куда нет никаких дорог.
Придвинувшись на край нар, я начал болтать ногами и выделывать руками всевозможные фигуры. Вместе с ударами крови, по рукам и ногам задвигались острые иголки. Эта мучительная боль была так невыносима, что я не на шутку стонал.
Сколько времени продолжалась эта мука, я не знаю, но, наконец, я почувствовал, что могу встать на ноги. Я соскочил с нар и, не удержавшись, упал. На коленях подполз к печке, с большим трудом наложил в нее дров, а зажечь спичку никак не мог – пальцы не слушались. Спички в коробке были обыкновенные, но взять их пальцами мне долго не удавалось..
Наконец, дрова запылали и будка начала наполняться теплом, и тут я пережил последнюю и самую острую боль в пальцах. Я метался из стороны в сторону, махал руками, а боль усиливалась. Я выскочил из будки и запустил пальцы в снег. Так меня учила мать в далеком детстве. Боль как будто стала утихать, но стоило мне вернуться в будку, как она снова началась. Я сел у печки и опустил пальцы в холодный, покрывшийся льдом, чай и так держал, пока боль совсем не прекратилась.
Теперь я имел возможность закурить и посмотреть часы.
Была полночь, всего только полночь, а до рассвета еще оставалось полных девять часов.
В моей хижине стало тепло. Я выплеснул из котелка воду, набрал чистого снега и поставил на печку. Нары меня больше не тянули к себе. Я смотрел на них, как на гроб, как на западню смерти, и решил на ногах встретить утро.
Желанное утро было далеко. Я все время топил печку, выходил слушать ночные звуки леса, часто и долго смотрел на освещенные луной березовые колки и поля, надеясь увидеть гуляющего зайчишку или хитрую лису, пробирающуюся по его следу. Когда сон начинал снова наваливаться на меня, я говорил:
– Шалишь, теперь я тебе не поддамся.
Я пел песни и долго‑долго рассказывал сказку о коте‑Ваське, брошенном в лесу, и его мытарствах в продолжение всей зимы, как будто вокруг меня сидели дети и внимательно слушали.
…Перед рассветом я вышел из избушки и услышал звон топора в лесу. Я был несказанно рад этому звону, словно ко мне подошел человек и пожал руку. Я был не одинок в этом мертвящем покое зимней ночи. Мир наполнялся движением, тихая ночь уступала место деятельному бодрому утру.
Я быстро стал готовиться к утренней зоре. Еще осенью, недалеко от избушек, я построил три шалаша. Один из них был над глубоким логом, два других – у березовых колков, среди пашен. Нужно было решить – какой из них занять на это утро. Если бы я не гонялся за лисой, а пришел сюда раньше, я имел бы время последить за косачами, «уложить их спать» и сегодня мне не нужно было бы их искать. Там, где они ночевали, – самое верное место.
Я выпил утреннюю чашку чая, чтобы теплее было сидеть в шалаше, собрался и нетерпеливо поглядывал на часы. Мороз был такой же, как вчера, и просидеть в шалаше без движения лишний час – нелегко, но сколько я ни уговаривал себя не спешить, все же не выдержал и пошел.
Перебравшись через застывший и заваленный снегом ручей, я поднялся на пригорок и вскоре подошел к логу. Мой осенний шалаш сохранился и даже подчучельники стояли под той же березой, на которую я ставил чучела. Раздумывать было не о чем, птицы могли ночевать только в логу, но никак не в поле, где мало снега.
Я поставил чучела и долго еще топтался на месте, чтобы не замерзнуть. Наконец, в логу проснулись чечотки, застрекотала сорока, принялся за работу дятел. Я долго и пристально вглядывался в глубину лога, надеясь увидеть подъем первого косача на дерево, но так и прозевал, – увидел его уже качающимся на ветке березы. Вскоре он снялся и направился ко мне. Я не дал ему сесть, и он рухнул почти к самому шалашу.
Друг за другом прогремели мои пять выстрелов. Больше птицы не видно было, но я ждал еще с полчаса и, когда большой табун косачей пролетел надо мной, не обратив внимания на мои чучела, я встал и пошел к стану.
В будке за чаем я вспомнил про кота. Отправляясь домой, я зашел еще раз позвать его и проверить: съел ли он хлеб, оставленный мной вчера на верхнем бревне избушки. Свежие следы вели от избушки к навесу. Там я обнаружил несколько перышек чечотки и объеденный хвост сороки. Значит, Васька не только спит, но и промышляет. Хлеба тоже не оказалось ни на бревне, ни на снегу.
Мои новые попытки вызвать кота не привели ни к чему. Я простился с ним, как с добрым знакомым, и повернул лыжи к городу.
Взбираясь на пригорок, я поднял зайца и удачным выстрелом опрокинул его.
….Вдали, в синей дымке уже были видны неясные очертания города.
По пути я зашел в совхозный выселок и рассказал ребятам о забытом коте‑Ваське. Я так и назвал его…
– Как только потеплеет, мы за ним сходим… – обещали ребята.
– Обязательно сходите… – и, зная детское сердце, добавил: – одному‑то ему там страшно: ночью волки ходят, лиса его манит: «Милый Васенька, пойдем вместе охотиться, ты будешь птичек ловить, а я мышей. Хорошо будем жить». А Вася сидит на чердаке и отвечает: «Проваливай кумушка, я как‑нибудь без тебя проживу»… Такой умный котище!
Ребята засмеялись, и по засверкавшим глазам я понял – обещанье свое они выполнят.
…В город я возвращался, как победитель, и не потому, что в моей сетке лежало пять тетеревов, а сзади, в сумке, был приторочен заяц, – нет – я победил лютый мороз, долгую зимнюю ночь, я победил страх одиночества в лесу, я победил смерть, сторожившую меня каждую минуту, чтобы сжать в своих леденящих объятиях.
Я возвращался в город победителем…
Кондр. Урманов
ПЕРВАЯ ДОБЫЧА
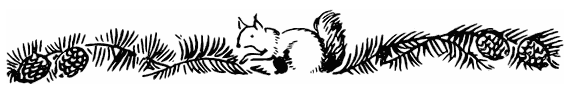
Никто не заметил, когда появился в охотничьем клубе маленький Андрюша Надымов. По вторникам и пятницам в клубе собиралось много народа. Андрюша присаживался где‑нибудь возле группы стариков и жадно слушал их рассказы об охоте, не пропуская ни слова.
А старикам‑охотникам было о чем вспомнить. Они говорили об охоте на косачей, на зайцев, волков и лисиц, говорили о разных мелких зверушках, о капканном лове и многом‑многом другом, что трудно было сразу понять и запомнить. Молодежь вспоминала о чудесных весенних зорях, об охоте на уток и гусей, о таежных походах и экскурсиях по большой системе приобских озер. Эти клубные разговоры настолько волновали Андрюшу, что он часто во сне видел себя охотником, бродил по лесу с ружьем, плавал по озерам на лодках и даже поднимался в воздух, ухватившись за длинные лапы журавля.
В клубе была небольшая библиотека, и Андрюше самому захотелось почитать обо всем, о чем с таким интересом говорят старые и молодые охотники. Старичок‑библиотекарь постоянно сидел у маленького столика, возле шкафа, перебирал и выдавал книги, К нему часто обращались с вопросами, он обстоятельно объяснял, потом доставал книгу и подарял охотнику.
– Вот почитайте эту книгу – полезно… – говорил он наставительно.
Андрюша уже привык к обстановке и как‑то вечером подошел к библиотекарю:
– Дедушка, а мне можно взять на дом книжечку про охоту на косачей…
Библиотекарь посмотрел на него поверх очков, смерял с ног до головы, как бы удивляясь: откуда мог взяться такой, и спросил:
– А ты чей же будешь?..
– Надымов…
– Николая – сын, а Нифантия Ивановича – внук? Так что ли?
Оказывается, и отца и дедушку здесь, в клубе, хорошо знали, и Андрюша торопливо ответил:
– Да‑да…
Библиотекарь спросил об отце, и Андрюша рассказал все, что знал из последних писем с фронта.
– Папаша у тебя мужик всех статей. Отличному охотнику и на войне легко. – Потом еще раз оглядел Андрюшу, как бы решая: время ли ему заниматься охотничьими книгами, и, наконец, сказал: – Хорошие книжки читать невредно, и я тебе дам, только не повредит ли это твоим школьным занятиям? Охота в свое время придет, у вас в роду все охотники… потомственные… А дедушка так в лесу и живет? Вот старый чудак – навек прирос к месту…
Дедушку Нифантия Ивановича многие знакомые называли чудаком за то, что он не жил с семьей, а где‑то в лесу сторожил колхозную пасеку и редко ездил в город.
– В городе воздух тяжелый, – говорил он. – А там у меня – благодать…
Когда Андрюша был еще совсем маленький – очень обижался за дедушку, что его так называли, и часто сквозь слезы говорил:
– Неправда, дедушка умный!.. Умный!..
Мать прижимала его к груди и успокаивала:
– Ну, конечно же, неправда, дедушка у нас умный, он у нас охотник, да еще какой!.. Вот ты подрастешь и будешь с отцом да дедушкой вместе на охоту ходить…
Библиотекарь тоже назвал дедушку чудаком, но сейчас почему‑то Андрюше не было обидно.
Книжки были интересные, и школьные уроки незаметно отошли на задний план. Как‑то перед новогодними каникулами Андрюша сорвался. На вызов учителя он ответил:
– Я сегодня не приготовил уроков. Но этого, Николай Иванович, больше не будет. Даю слово…
Из школы Андрюша возвращался в угнетенном состоянии. А дома, за столом, сидел дедушка – лысый, красный, с полотенцем на шее. Он только что попарился в бане и пил чай с медом.
– Ну, какие дела, профессор? – спросил он, искоса поглядывая на Андрюшу своими светлыми голубыми глазами.
Андрюша сознался, что сегодня не ответил уроков.
– Как же так? Отец узнает, нехорошо ему будет там, на фронте. Он сегодня вон пишет, что моя наука ему шибко помогает: и на лыжах он хорошо ходит – никакой фриц от него не уйдет, и местность всякую без компаса сыщет. А ты учиться не хочешь…
– Да я, дедушка, учусь хорошо, а вот вчера не выучил, – оправдывался Андрюша, скрывая истинную причину.
– Ну, смотри, отец за такие дела не похвалит… Про меня вы тоже совсем забыли. Помрешь там, а вы и знать не будете. Ну, мать на работе, а ты мог бы в воскресенье приехать, тут и езды‑то всего ничего. На лыжах бы там походил, лес зимний посмотрел…
 2020-06-12
2020-06-12 115
115








