Старик, ступая неслышно, как кошка, отошел и принес от очага низкую скамеечку. Он сел так, что одна половина его была вся озарена тусклым колеблющимся светом, а другая оставалась в тени. Не сводя глаз со спящего мальчика, он терпеливо оттачивал нож, все бормоча про себя и не замечая, как бегут часы; он был похож на серого чудовищного паука, готового проглотить неосторожное насекомое, запутавшееся в его паутине.
Наконец, много времени спустя, старик, который смотрел, но ничего не видел, поглощенный своими думами, вдруг заметил, что глаза мальчика открыты, широко открыты и глядят! – глядят, застыв от ужаса, на нож. Улыбка дьявольского торжества скользнула по лицу старика, и он, не меняя положения и не прерывая своей работы, спросил:
– Сын Генриха Восьмого, молился ли ты?
Мальчик беспомощно забился в своих узах, и невнятный звук вырвался из его крепко стянутых челюстей. Отшельник истолковал это как утвердительный ответ на свой вопрос.
– Так помолись снова! Читай отходную молитву!
Дрожь пробежала по телу мальчика, лицо его побледнело. Он опять забился на постели, пытаясь освободиться, изгибаясь и поворачиваясь во все стороны; он вырывался отчаянно, но напрасно; между тем старый людоед с улыбкой глядел на него, кивал головой и спокойно продолжал точить нож, время от времени бормоча:
– Твои минуты сочтены, и каждая из них драгоценна… Молись, читай себе отходную!
Мальчик горестно застонал и перестал метаться; он задыхался, слезы капля за каплей текли по его лицу, но это жалостное зрелище нисколько не смягчило свирепого старика.
Уже начинало светать; отшельник заметил это и заговорил резко, возбужденно:
– Нельзя мне больше растягивать это наслаждение. Ночь почти прошла. Она пролетела для меня как минута, как одна минута; а я хотел бы, чтобы она длилась год! Ну, отродье губителя церкви, закрой глаза, если тебе страшно смотреть…
Дальше речь его стала невнятна. Он упал на колени с ножом в руке и наклонился над стонущим мальчиком.
Но что это? У хижины послышались голоса. Нож выпал из рук отшельника; он набросил на мальчика овечью шкуру и вскочил, дрожа. Шум усиливался, голоса звучали грубо и гневно, слышны были удары и крики о помощи, затем топот быстро удаляющихся шагов. Тотчас же вслед за тем; раздался громовый стук в дверь хижины и крик:
– Эй! Отворяй! Да поскорее, во имя всех дьяволов!
О! Эта брань прозвучала музыкой в ушах короля: то был голос Майлса Гендона!
Отшельник, стиснув зубы в бессильной злобе, поспешно вышел из каморки, притворив за собою дверь; затем король услыхал разговор, происходивший в «молельной»:
– Привет тебе и уважение, почтенный сэр! Где мальчик, мой мальчик?
– Какой мальчик, друг?
– Какой мальчик! Не морочь меня, господин монах, не рассказывай мне сказок, я не расположен шутить. Невдалеке отсюда я встретил двух негодяев, должно быть тех самых, которые украли его у меня, и я выпытал у них правду: они сказали, что он опять убежал и что они проследили его до твоей двери. Они показали мне его следы. Ну, нечего больше хитрить! Берегись, святой отец, если ты не отдашь мне его!.. Где мальчик?
– О добрый сэр, ты, должно быть, говоришь об оборванном бродяге царского рода, который провел здесь ночь? Если такие люди, как ты, могут интересоваться такими, как он, то да будет тебе известно, что я послал его с поручением. Он скоро вернется.
– Скоро вернется? Когда? Говори скорее, не теряй времени, не могу ли я догнать его? Когда он вернется?
– Не утруждай себя, он скоро придет.
– Ну, ладно, будь по‑твоему! Попытаюсь дождаться его. Однако постой! Ты послал его с поручением, ты? Ну, уж это враки! Он не пошел бы. Он вырвал бы всю твою седую бороду, если бы ты позволил себе такую дерзость! Ты врешь, приятель, наверняка врешь! Не стал бы он никуда бегать ни ради тебя, ни ради любого другого человека.
– Человека – да! Ради человека, может быть, и не стал бы. Но я не человек.
– Господи, помилуй, кто же ты?
– Это тайна… смотри, не выдавай ее. Я архангел!
Майлс Гендон буркнул что‑то не особенно почтительное, затем прибавил:
– Этим, конечно, и объясняется его снисхождение к тебе. Он палец о палец не ударит в угоду простому смертному; но архангелам даже король обязан повиноваться. Тсс! Что это за шум?
Все это время маленький король то дрожал от ужаса, то трепетал от надежды и все время старался стонать как можно громче, чтобы Гендон услышал его стоны, но с горечью убеждался, что либо эти звуки не доходят до его слуха, либо не производят на него никакого впечатления. Последние слова Гендона подействовали на короля, как свежий ветер полей на умирающего! Он опять застонал, напрягая все силы.
– Шум? – сказал отшельник. – Я слышу только шум ветра.
– Может, это ветер. Да, конечно ветер. Я все время слышу слабый шум… Вот опять! Нет, это не ветер! Какой странный звук! Пойдем посмотрим, что это такое!
Радость короля стала почти невыносимой. Его утомленные легкие работали из всех сил, но все было напрасно: туго стянутые челюсти и овечья шкура не пропускали звука. Вдруг его охватило отчаяние: он услышал, как отшельник сказал:
– Ах, это доносится снаружи. Наверно, вон из тех кустов. Пойдем, я провожу тебя.
Король слышал, как они вышли, разговаривая; слышал, как шаги их быстро замерли вдали, – и он остался один, среди страшного, зловещего безмолвия.
Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем шаги и голоса раздались снова; на этот раз до короля донесся новый звук – стук копыт. Он услышал, как Гендон сказал:
– Дольше я не стану дожидаться. Не могу. Он, наверное, заблудился в этом густом лесу. В какую сторону он пошел? Укажи мне дорогу, живо!
– Вот сюда… Но погоди… Я пойду с тобой и буду указывать тебе путь.
– Спасибо… спасибо! Право, ты лучше, чем кажешься с первого взгляда. Не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем… Может быть, ты хочешь ехать верхом? Так возьми осла, которого я приготовил для моего мальчугана… Или, может быть, ты предпочтешь обхватить своими святыми ногами этого злополучного мула, которого я купил для себя? Меня здорово надули! Этот мул не стоит и месячного процента на медный фартинг, отданный в долг безработному лудильщику.
– Нет, садись сам на мула, а ослика веди за собою! Я больше доверяю собственным ногам, – я пойду пешком.
– Тогда подержи, пожалуйста, эту малую тварь, пока я с опасностью для жизни и со слабой надеждой на успех попытаюсь вскарабкаться на большую.
После этого послышались понукания, крики, свист бича, удары кулаками, отборнейшая громоподобная брань, наконец горькие упреки, которым мул, по‑видимому, внял, так как военные действия прекратились.
С невыразимым горем слушал связанный маленький король, как замирали вдали шаги и голоса. Теперь он утратил всякую надежду на освобождение, и мрачное отчаяние овладело его сердцем. «Моего единственного друга увели обманом отсюда, – говорил он себе. – Старик вернется и…»
Он задохнулся и так неистово заметался на постели, что сбросил прикрывавшую его овечью шкуру.
И вдруг услышал звук отворившейся двери! При этом звуке холод пронизал его до костей: ему казалось, что он чувствует нож у своего горла. В смертельном страхе закрыл он глаза, в смертельном страхе открыл их снова – перед ним стояли Джон Кенти и Гуго!
Если бы у него рот не был завязан, он бы сказал: «Слава богу!»
Минуту спустя руки и ноги короля были свободны, и похитители, схватив его под руки с двух сторон, что было духу потащили в глубь леса.
ГЛАВА XXII
ЖЕРТВА ВЕРОЛОМСТВА
Опять начались скитания короля Фу‑фу Первого в обществе бродяг и отщепенцев; опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, а порой – за спиною у атамана – и злые проделки Джона Кенти и Гуго. Кроме Кенти и Гуго, у него не было настоящих врагов; иные даже любили его; и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение двух‑трех дней Гуго, под присмотр которому был отдан король, исподтишка делал все что мог, чтобы отравить мальчику жизнь; а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями, – всегда будто случайно. Два раза он наступил королю на ногу, – тоже случайно, – и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно бы не заметив; но когда Гуго в третий раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуго, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривали их окриками, бились об заклад, кто победит. Но бедному Гуго не везло – его яростные, неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника и отражая сыпавшийся на него град ударов так легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения; и всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника и молниеносный удар обрушивался на голову Гуго, рев и гогот кругом превращались в бурю.

Через четверть часа Гуго, избитый, весь в синяках, безжалостно осыпаемый насмешками, с позором покинул поле битвы, а оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место, рядом с атаманом, где он с подобающими церемониями был возведен в сан «короля боевых петухов»; его прежний, унизительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки.
Все попытки заставить короля приносить пользу шайке окончились неудачей: он упорно отказывался от всякого поручения; мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втолкнули в пустую кухню, – он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали меднику помогать в работе, – он не стал работать; мало того, он грозился прибить медника его же паяльным прутом. В конце концов и медник и Гуго только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стеснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуго просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком, – но ничего не вышло: он не хотел просить милостыни ни для себя, ни для других.
Так прошло несколько дней; невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее мало‑помалу становилась невыносимыми маленькому пленнику, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа отшельника было лишь временной отсрочкой смерти.
Но по ночам, во сне, он забывал обо всем и снова восседал на троне властелином. Зато как ужасно бывало его пробуждение! Начиная с того времени, как его захватили, и до поединка с Гуго тяготы его унизительной жизни росли с каждым днем и переносить их становилось все трудней и трудней.
На другое утро после поединка Гуго проснулся, пылая местью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело два плана. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость и «воображаемое» королевское достоинство мальчика; а если этот план не удастся – взвалить на короля какое‑нибудь преступление и потом предать его в руки неумолимого закона.
Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унизит его сверх всякой меры; а когда язва будет готова, он с помощью Кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее прохожим и просить подаяния. Для того чтобы сделать такую искусственную язву, приготовляли тесто из негашеной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен; затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно‑бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих.[30]
Гуго сговорился с медником – тем самым, которого король припугнул паяльным прутом; они повели мальчика будто бы на работу, но как только вышли в поле, повалили его наземь; медник держал его, а Гуго крепко‑накрепко привязывал к его ноге припарку.

Король пришел в бешенство, он бушевал, грозился повесить обоих, как только вернет себе свою корону, но они крепко держали его, забавляясь его бессильными попытками вырваться, и хохотали над его угрозами. Между тем мазь начала быстро разъедать кожу; еще немного, и негодяи сделали бы свое дело, если бы им не помешали.
Но им помешали; появился «раб», тот самый бродяга, который с таким жаром проклинал английские законы. Он разом положил конец мерзкой затее, сорвав припарку с ноги короля.
Король хотел взять у своего спасителя дубину и тут же на месте проучить своих недругов; но тот не позволил, чтобы не поднимать шума, а посоветовал отложить дело до ночи, когда вся шайка будет в сборе и никто из посторонних не помешает. Они все вместе вернулись в лагерь, и о случившемся было донесено атаману. Атаман выслушал, подумал и заявил, что короля не следует заставлять просить милостыню, потому что он, очевидно, предназначен к чему‑то высшему и лучшему, – и тут же на месте произвел его из нищих в воры!
Гуго был вне себя от радости. Он уже пробовал заставить короля воровать, но потерпел неудачу; теперь, конечно, никаких затруднений не будет: ведь не посмеет же король ослушаться самого атамана. Он задумал в тот же день совершить кражу, рассчитывая предать короля во власть закона; притом сделать это так искусно, чтобы все вышло как бы случайно, – «король боевых петухов» был теперь общим любимцем, и бродяги, не питавшие особых симпатий к Гуго, обошлись бы с ним не слишком ласково, если бы тот вероломно предал мальчика общему врагу их – закону.
И вот, выбрав подходящее время, Гуго привел свою жертву в соседний городок. Они медленно бродили по улицам; один из них зорко глядел по сторонам, выжидая удобной минуты, чтобы осуществить свой злобный замысел, другой так же внимательно всматривался во все закоулки, чтобы при первой же возможности пуститься наутек и навсегда спастись от своего постыдного рабства.
Обоим представлялись удобные случаи; но ни тот, ни другой не воспользовались ими, так как в глубине души оба решили на этот раз действовать наверняка; ни один не хотел рисковать, не убедившись заранее в удаче своего предприятия.
Гуго посчастливилось первому: навстречу шла женщина с тяжело нагруженной корзинкой. У Гуго злорадно сверкнули глаза, и он сказал себе: «Издохнуть мне на этом месте, если я не взвалю это дело на тебя! А тогда – храни тебя бог, „король боевых петухов“!
Он стоял с виду спокойный, но внутренне страшно волнуясь, и ждал, чтобы женщина поравнялась с ними; тогда он тихонько сказал:
– Погоди здесь, я сейчас вернусь! – и украдкой пустился следом за женщиной.
Сердце короля наполнилось радостью. Теперь, если только Гуго отойдет достаточно далеко, можно будет убежать.
Но надежде его не суждено было сбыться. Гуго незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из корзины узел и побежал назад, обмотав узел обрывком старого одеяла, висевшего у него на руке. Женщина подняла страшный крик: она не видела, как исчез узел, но тотчас же заметила кражу, потому что ее ноша вдруг стала легче.
Гуго, не останавливаясь, сунул узел в руки королю.
– Теперь беги за мной, – сказал он, – и кричи: «Держи вора!» Да смотри, старайся сбить их с толку!
Через мгновение Гуго уже скрылся за углом и помчался что есть духу по извилистой улице, а еще через минуту он опять вынырнул на глазах у всех с самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет.
Оскорбленный король швырнул узел на землю; одеяло раскрылось как раз в ту минуту, когда прибежала женщина, за которой уже следовала целая толпа; женщина схватила одной рукой короля за руку, а другой рукой свой узел и, высоко подняв его кверху, начала длинную речь, осыпая мальчика ругательствами и не отпуская его, как он ни старался вырваться.
Больше Гуго ничего не было нужно: враг его пойман я на избежит кары. Он юркнул в переулок и побежал по направлению к лагерю, посмеиваясь, торжествуя, радуясь; он бежал и раздумывал, как бы правдоподобнее рассказать эту историю шайке.
Король между тем отчаянно бился в сильных руках, крепко державших его, и раздраженно кричал:
– Пусти меня, глупая женщина! Говорят тебе: это не я воровал. Очень нужна мне твоя жалкая рухлядь!
Толпа окружила их, осыпая короля бранью и угрозами; здоровенный кузнец в кожаном фартуке, с засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его, – но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца, а диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал:
– Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. Выпусти мальчика, добрая женщина!
Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая ушибленную руку; женщина неохотно выпустила маленького короля; зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали. Король с горящими щеками и сверкающим взором бросился к своему избавителю.
– Ты долго медлил, сэр Майлс, но теперь пришел во‑время. Повелеваю тебе, изруби эту толпу негодяев в куски!
ГЛАВА XXIII
ПРИНЦ АРЕСТОВАН
Гендон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо:
– Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше – совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо.
И подумал: «Сэр Майлс!.. Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь! Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные фантазии!.. И хоть этот мой титул один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его; пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве Снов и Теней, чем добиться ценой унижений графского титула в каком‑нибудь настоящем царстве мира сего».
Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского; полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гендон сказал ему:
– Тише, приятель, прими руку! Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою.
Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку; Майлс и король шли сзади, а за ними по пятам – толпа народа. Король стал было упираться, но Гендон шепнул ему:
– Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть; если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие. По‑видимому, один из этих законов нарушен; когда король снова взойдет на трон, ему, без сомнения, будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан, поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам.
– Ты прав, ни слова более; ты увидишь, что если король Англии налагает ярмо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ярмо.
У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал; никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и задрожал; только король в своем неведении остался спокойным.

Судья зловеще медлил, потом обратился к женщине с вопросом:
– Во сколько ты оцениваешь твою собственность?
– В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость! Это самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни.
Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал:
– Очисти помещение и запри двери!
Приказ был исполнен.
В суде остались только два служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлс Гендон. Майлс был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатились по лицу.
Судья опять обратился к женщине и сказал ласково:
– Это бедный, невежественный мальчик, может быть голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков; посмотри на него: у него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают… Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше тринадцати с половиной пенсов виновный, по закону, должен быть повешен?[31]
Маленький король широко открыл глаза от удивления, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая:
– Что же я наделала!.. Милосердный боже, да я вовсе не хочу, чтобы этот бедняк шел из‑за меня на виселицу! Ах, избавьте меня от этого, ваша милость! Скажите, что мне делать!..
Судья, храня подобающее судье спокойствие, просто ответил:
– Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол…
– Ради бога, считайте, что поросенок стоит всего восемь пенсов! Слава тебе, господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех!
Майлс Гендон на радостях совершенно забыл об этикете; он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка; полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сени. Судья записывал все происшедшее в протокол. А Гендону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной; он потихоньку прокрался в темные сени и услыхал следующий разговор:
– Поросенок жирный и, верно, очень вкусный; покупаю его у тебя; вот тебе восемь пенсов.
– Восемь пенсов! Вот чего захотел! Да он мне самой стоил три шиллинга и восемь пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно,[32] не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои восемь пенсов!
– А, ты вот как заговорила!.. Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит восемь пенсов. Значит, ты дала ложную клятву. Иди со мной держать ответ за свое преступление! А мальчишку повесят.
– Ну, ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда восемь пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай.
Женщина ушла вся в слезах. Гендон проскользнул назад, в комнату судьи, туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судья еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме, а затем к публичной порке плетьми. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гендон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гендон взял его за руку, поклонился судье, и оба, под охраной полицейского, отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул:
– Глупец, неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму живым?
Гендон наклонился к нему и сказал довольно резко:
– Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудшай дела опасными речами! Что богу угодно, то и случится; ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить; жди терпеливо – еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено.
ГЛАВА XXIV
ПОБЕГ
Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих возможно скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево; они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их. Эдуард Шестой спрашивал себя, случалось ли когда‑нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему:
– Погоди минутку, добрый сэр! Нас никто не слышит. Мне нужно сказать тебе два слова.
– Мой долг запрещает мне разговаривать, сэр! Пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь.
– А все‑таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь: дай бедному мальчику убежать.
– Как ты смеешь предлагать мне это? Арестую тебя именем…
– Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру. – Гендон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому: – Поросенок, купленный тобою за восемь пенсов, может стоить тебе головы!

Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться. Но Гендон спокойно и терпеливо ждал, пока он угомонится, затем сказал:
– Ты мне понравился, приятель, мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это, – и он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в сенях и прибавил: – Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?
В первую минуту полицейский онемел от страха и досады; потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил:
– Ты делаешь из мухи слона; мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы.
– И поросенка ты оставил у себя ради забавы?
Полицейский ответил торопливо:
– Конечно, добрый господин. Говорят тебе, что это была шутка.
– Я начинаю тебе верить, – сказал Гендон не то всерьез, не то в насмешку. – Так ты постой здесь немного, а я сбегаю спрошу его милость судью, – он ведь человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и в…
Он повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу. Полицейский помедлил немного, потоптался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку:
– Постой, добрый сэр, погоди минутку! Ты говоришь, судью спросишь? Да он на шутки туп, как чурбан! Пойди‑ка лучше сюда, давай поговорим! Странное дело! Я, кажется, попал в историю, и все из‑за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети… Рассуди же здраво, твоя милость, чего ты хочешь от меня?
– Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до ста тысяч, – сказал Гендон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге.
– Да ведь я тогда пропащий человек! – с отчаянием вскричал полицейский. – Будь же рассудителен, мой добрый сэр; ведь ты же сам понимаешь, что то была шутка и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи: он сделает мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел.
– Это шутка? – с ледяной торжественностью возразил Гендон. – Эта твоя шутка носит в законе название, ты знаешь какое?
– Я этого не знал! Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название… Я думал, что я первый изобрел такую шутку.
– Да, она имеет название. В законах она называется Non compos mentis lex talionis sic transit gloria imundi.[33]
– Ах, господи!
– И наказание – смертная казнь!
– Господи, помилуй меня, грешного!
– Воспользовавшись преимуществом своего положения, злоупотребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше тринадцати пенсов с половиной; а это в глазах закона есть умышленная недобросовестность, вероломство, превышение власти, ad hominem expurgatis in status quo, и наказание за это – смерть на виселице, без выкупа, пощады, покаяния и утешения религии.
– Поддержи меня, ради бога, мой добрый сэр, ноги не держат меня! Сжалься, избавь меня от погибели, и я стану к вам спиной и ничего не увижу и не услышу.
– Ладно! Наконец‑то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине?
– Отдам, непременно отдам! И никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес! Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи.
– Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет бедного мальчика; он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из‑за того, что мальчик убежит.
ГЛАВА XXV
ГЕНДОН‑ХОЛЛ
Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту.
Гендон не хотел переутомлять мальчика; он полагал, что дорожная усталость, еда не во‑время и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь.
Проехав миль десять, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения: во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло.
На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя Друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля; рассказал, как «архангел» водил его, словно дурака, по всему лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так‑то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда шатаясь, с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски.
– А старый святоша действительно был очень огорчен, что ваше величество не вернулись к нему, – сказал Гендон, – это было видно по его лицу.
– В этом я не сомневаюсь, – сказал король и в свою очередь рассказал, что было с ним; выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил «архангела».
В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже о Гью говорил по‑братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет.
Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов; дорога шла через широкие пастбища; отлогие подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой‑нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул:
– Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом! Отсюда видны башни; а вон тот лес – это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь! В доме семьдесят комнат – подумай только! – и двадцать семь слуг. Не дурной дом для таких, как мы с тобой, а? Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение!
Но как они ни торопились, было уже больше трех часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту:
– Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по‑прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый Красный Лев», вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка, – ничего не изменилось, кроме людей конечно; за десять лет люди должны измениться; некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто.
Так он болтал не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородями, быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание.
– Приветствую тебя в Гендон‑холле, король! – воскликнул Майлс. – О, сегодня великий день! Мой отец, и мой брат, и леди Эдит, наверное, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания, – это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и, ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлса Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме и в своем сердце!
Гендон соскочил наземь у подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам подбежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь.
– Обними меня, Гью, – воскликнул он, – и скажи, что ты рад моему возвращению! Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса.
В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на пришельце долгий, пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой‑то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес:
– У тебя, по‑видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец; ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно и по лицу твоему и по платью. За кого ты меня принимаешь?
– За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гью Гендона, – резко сказал Майлс.
Тот продолжал так же мягко:
– А себя ты кем воображаешь?
– Воображение тут ни при чем! Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлса Гендона?
Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул:
– Как, ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки! Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною! Скорее идем к свету – дай мне рассмотреть тебя хорошенько.
Он схватил Майлса за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон; а возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая:
– Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью! Я в самом деле прежний Майлс, твой Майлс, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости.
Он собирался обнять брата; но Гью отстранил его рукой, уныло опустил голову на грудь и с волнением сказал:
– Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование!
Майлс от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова; затем воскликнул:
– Какое разочарование? Разве я не брат твой?
Гью печально покачал головой и сказал:
– Молю небо, чтобы это было так и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы! Боюсь, что письмо говорило жестокую правду.
– Какое письмо?
– Полученное из заморских краев лет шесть или семь тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении.
– Это ложь! Позови отца, он узнает меня.
– Нельзя позвать того, кто умер.
– Умер? – Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали. – Мой отец умер! О, горькая весть! Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру, – он узнает меня; узнает и утешит.
– Он тоже умер.
– Боже, будь милостив ко мне, несчастному! Умерли, оба умерли! Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить! Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит…
– Умерла? Нет, она жива.
– Ну, слава богу! Теперь я снова счастлив! Поспеши же, брат, позови ее сюда ко мне! Если и она скажет, что я не я… Но она этого не скажет; нет, нет, она узнает меня. Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позови ее, позови и старых слуг; они тоже узнают меня.
– Все они умерли, кроме пятерых: Питера, Гэлси, Дэвида, Бернарда и Маргарэт.
С этими словами Гью вышел из комнаты. Майлс подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя:
– Странное дело: пятеро мерзавцев живы, а двадцать два честных человека умерли!
Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя; он совершенно забыл о короле. Наконец его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку:
– Не огорчайся своей неудачей, бедный человек: есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью.
– Ах, государь, – воскликнул Гендон, слегка покраснев, – не осуждай меня хоть ты! Подожди – и ты увидишь. Я не обманщик – она сама это скажет; ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал, эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду, я не стал бы обманывать тебя; и если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты: я этого не вынесу.
– Я не сомневаюсь в тебе, – сказал король с детской простотой и доверчивостью.
– Благодарю тебя от всей души! – с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган. А король прибавил так же просто:
– Ведь ты не сомневаешься во мне?
Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить.
Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлс Гендон бросился к ней, восклицая:
– О моя Эдит, дорогая моя!..
Но Гью спокойно отстранил его и сказал даме:
– Посмотрите на него. Вы его знаете?
При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели; теперь она дрожала всем телом.

Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим взглядом; капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она сказала:
– Я не знаю его.
Затем она повернулась, подавив стоя, и нетвердой поступью вышла из комнаты.
Майлс Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам:
– Вот этот человек. Он вам известен?
Они покачали головами. Тогда их господин сказал:
– Слуги не узнают вас, сэр. Боюсь, что это какое‑то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас.
– Твоя жена! – В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. – Ах ты, раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю! Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследие и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не замарал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари.
Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам схватить и связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал:
– Он вооружен, сэр Гью, а мы безоружны.
– Вооружен? Так что же! Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его!
Но Майлс посоветовал им быть осторожнее.
– Вы меня знаете: я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти!
Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они попятились.
– Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйте все выходы, покуда я пошлю кого‑нибудь за стражей, – сказал Гью.
На пороге он обернулся к Майлсу и добавил:
– А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству.
– Бегство? Пусть это тебя не беспокоит. Майлс Гендон – хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся!
ГЛАВА XXVI
НЕ ПРИЗНАН
Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлса и сказал:
– Странно, чрезвычайно странно! Не понимаю, что это значит.
– Нисколько не странно, государь! Я его знаю, от него другого и ждать нельзя, – он был негодяем со дня рождения.
– О, я говорю не о нем, сэр Майлс!
– Не о нем? Так о чем же? Что тебе кажется странным?
– Что короля до сих пор не хватились…
– Как? Что такое? Я тебя не понимаю.
– Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы? Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно? Что я скрылся и исчез?
– Совершенно верно, мой король. Я позабыл об этом.
Гендон вздохнул и пробормотал про себя: «Бедный помешанный! Он все еще поглощен своей трогательной мечтой».
– Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на трех языках: по‑латыни, по‑гречески и по‑английски; а ты завтра утром скачи с ней в Лондон! Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гертфорда; когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною.
– Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее…
Король властно перебил его:
– Молчи! Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола! – И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости: – Повинуйся мне без боязни! Я восстановлю тебя в твоих правах. Я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги и вознагражу тебя. – С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гендон с любовью смотрел на него, говоря себе: «Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мною действительно говорит король; когда он разгневан, он мечет громы и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова! Если только мне не удастся придумать какую‑нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение».
Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что, когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман.
– Как она удивительно странно вела себя! – бормотал он. – Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому; я не могу примирить этих мыслей и в то же время не могу отогнать ни ту ни другую, и не могу дать одной из них перевес над другой. Казалось бы, все так просто: она должна была узнать мое лицо, мой голос, – могло ли быть иначе? А между тем она сказала, что не узнает меня, – значит, она в самом деле меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постой, я, кажется, начинаю понимать! Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой? Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она чуть не умерла от страха… Ну конечно, она действовала по его принуждению! Я ее отыщу, я найду ее: теперь, когда его нет, она ничего не утаит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми; это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить, она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне порукой: кого любят, того не обманывают.
Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась и вошла леди Эдит. Она была очень бледна, но шла твердой поступью; осанка ее была полна изящества и кроткого достоинства, а лицо по‑прежнему было печально.
Майлс кинулся к ней, полный доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя. Леди Эдит сказала:
– Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются; но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит – вы не преступник; но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно.
Она пристально посмотрела Майлсу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова:
– Это тем более опасно, что вы очень похожи на нашего бедного мальчика, которого уже нет в живых.
– Господи, сударыня, но ведь он и есть я!
– Я искренне верю, что вы это думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности, я только предостерегаю вас. Мой муж – полный хозяин во всей здешней местности, его власть почти безгранична, он может обогатить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого выдаете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой; но, верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает: он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему.
Она снова устремила на Майлса пристальный взгляд и прибавила:
– Если бы вы на самом деле были Майлсом Гендоном, и мой муж знал бы это, и знала бы вся округа – обдумайте мои слова и взвесьте их! – вы подверглись бы той же опасности и точно так же не ушли бы от наказания; он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку.
– Этому я вполне верю, – с горечью сказал Майлс. – Если он имеет власть приказать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба.
Щеки леди Эдит слегка порозовели, она потупила глаза; но голос ее по‑прежнему звучал твердо:
– Я вас предупредила и предупреждаю еще раз: уезжайте отсюда! Иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба, я это знаю. Бедный Майлс, и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него и спокойны, – лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания – посягательство на его титул и богатство; вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите! Не медлите! Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время.
Майлс отстранил рукою протянутый ему кошелек и встал.
– Исполните одну мою просьбу, – сказал он. – Посмотрите мне прямо в глаза, я хочу видеть, вынесете ли вы мой взгляд. Так. Теперь отвечайте мне: кто я? Майлс Гендон?
– Нет. Я вас не знаю.
– Поклянитесь!
Ответ прозвучал тихо, но отчетливо:
– Клянусь!
– Невероятно!
– Бегите! Зачем вы теряете драгоценное время? Бегите, спасайтесь!
В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба; но Гендона скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен; обоих связали и повели в тюрьму.
ГЛАВА XXVII
В ТЮРЬМЕ
Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обыкновенно мелкие преступники. Они были не одиноки: здесь же находилось еще около двадцати скованных узников – молодых и старых, мужчин и женщин, – буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского достоинства, но Гендон был угрюм и молчалив: он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его; и вдруг вместо радости – тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидания, что он растерялся; он не знал даже, как смотреть на свое положение: считать ли его трагическим, или просто забавным. Он чувствовал себя, как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией.
Но мало‑помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала? Этот трудный вопрос долго занимал его ум; в конце концов он пришел к убеждению, что она его узнала и отреклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями; но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее.
Закутавшись в тюремные одеяла, изорванные и грязные, Гендон и король провели тревожную ночь.
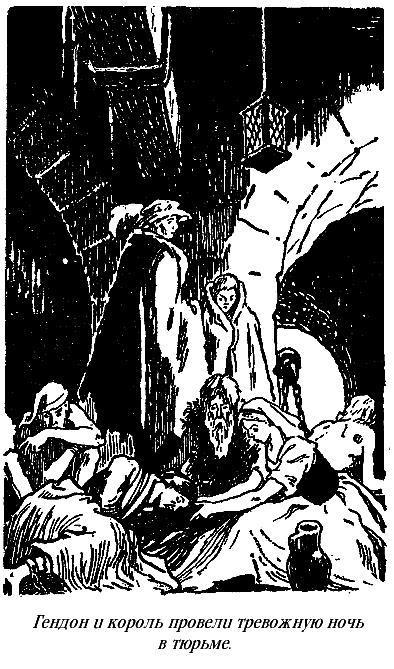
За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти: он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть.
В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием: днем появлялись люди (их лица были более или менее знакомы Гендону), чтобы взглянуть на «самозванца», отречься от него и надругаться над ним; а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое‑что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого‑то старика и сказал ему:
– Преступник в этой комнате. Осмотри всех своими старыми глазами. Быть может, ты узнаешь его.
Гендон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался.
Он сказал себе: «Это Блек Эндрюс. Он всю жизнь служил семье моего отца; он добрый, честный человек, сердце у него хорошее. Но теперь честных людей совсем не осталось, все стали лжецы. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные».
Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и, наконец, сказал:
– Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он?
Тюремщик засмеялся.
– Вот! – сказал он. – Вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь.
Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гендона, потом покачал головой и сказал:
– Нет, это не Гендон и никогда Гендоном не был!
– Правильно! Твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого паршивого пса и… – Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь.
Старик злобно проговорил:
– Пусть благодарит бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжарил его живьем!
Тюремщик захохотал злорадным смехом гиены и сказал:
– Поболтай‑ка с ним, старик! Все с ним болтают. Это тебя позабавит.
С этими словами он повернулся и ушел.
Старик упал на колени и зашептал:
– Слава богу, ты вернулся, наконец, мой добрый господин! Я думал, что ты уже семь лет тому назад умер, а ты жив! Я узнал тебя с первого взгляда; трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я стар и беден, сэр Майлс, но скажи одно слово – и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это.
– Нет, – сказал Гендон, – не надо. Ты только погубишь себя, а мне не поможешь. Но все‑таки благодарю тебя: ты хоть отчасти возвратил мне мою утраченную веру в род человеческий.
Старый слуга был очень полезен королю и Гендону: он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что‑нибудь вкусное, чтобы хоть немного скрасить убогую тюремную еду; кроме того, он сообщал текущие новости. Лакомства Гендон приберегал для короля: без них его величество, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщиком. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что‑нибудь новое – шепотом, чтобы его слышал только Гендон; вслух же он лишь ругался.
Так мало‑помалу Майлс узнал историю своей семьи. Артур умер шесть лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлсе сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит; но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлса. Тут‑то и пришло известие о том, что Майлс умер; этот удар уложил в постель сэра Ричарда; старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и, наконец, третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста; после смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько‑нибудь зависел от него.
Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля:
– Ходит слух, что король помешан. Но только, ради бога, не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни.
Его величество грозно взглянул на старика и сказал:
– Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи.
– Что он говорит, этот мальчик? – спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением.
Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ:
– Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через два дня, шестнадцатого, а двадцатого новый будет короноваться в Вестминстере.
– Мне кажется, надо сначала найти его… – пробормотал король; потом убежденно прибавил: – Ну, об этом они позаботятся, и я тоже.
– Объясни мне… – начал старик и запнулся, увидав знаки, которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать:
– Сэр Гью тоже едет на коронацию и много ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда‑протектора.
– Какого лорда‑протектора? – спросил король.
– Его милости герцога Сомерсетского.
– Какого герцога Сомерсетского?
– Как какого? У нас только один – Сеймур, граф Гертфорд.
Король сердито спросил:
– С каких это пор он герцог и лорд‑протектор?
– С последнего дня января.
– Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?
– Он сам и верховный совет с помощью короля.
Его величество вздрогнул, как ужаленный.
– Короля? – вскрикнул он. – Какого короля, добрый человек?
– Какого короля? (Господи помилуй, что это такое с мальчиком?) На этот вопрос ответить нетрудно: ведь король‑то у нас только один – его величество, августейший монарх, король Эдуард Шестой, храни его бог! Да! Молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый! Не знаю, сумасшедший он или нет, – говорят, он поправляется с каждым днем, – но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела – помиловал герцога Норфолка, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ.
Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя: неужели этот король – тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным: ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэльского, речь и манеры тотчас выдали бы его, он был бы изгнан из дворца и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого‑нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого, – он всемогущ и мог бы расстроить – и наверное расстроил бы – такой заговор. Размышления короля не привели ни к чему; чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала, чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым.
Гендон, как ни старался, не мог утешить короля; это лучше удалось двум женщинам, прикованным невдалеке от него. Их кроткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласковы с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили: за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил:
– Разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня: я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из‑за таких пустяков.
Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал:
– Вы не отвечаете? Будьте добры, скажите мне, – вам не грозит тяжелое наказание? Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит!
Женщины попытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать:
– Неужели вас будут бить плетьми? Нет, нет! Они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут! Ведь не тронут? Не тронут, правда?
Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения:
– О добрая душа, твое участие раздирает нам сердце! Помоги нам, боже, перенести наше…
– Это признание!.. – перебил ее король. – Значит, эти жестокосердые злодеи будут тебя бить плетьми! О, не плачь! Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества: я во‑время верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения, вот увидишь!
Когда король проснулся утром, женщин уже не было.
– Они спасены! – радостно воскликнул он и с грустью прибавил: – Но горе мне, они так утешали меня!
Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту.
Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести на тюремный двор. Король был в восторге: такое счастье, наконец, увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом! Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но, наконец, пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гендоном следовать за другими.
Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу, спиною к стене. Перед ними была протянута веревка; по бокам стояла стража.
Утро было холодное, пасмурное; ночью выпал снежок, огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взметал струйки снега.
Посредине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король с первого взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе:
«Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отведать кнута! В Англии! Не в языческой стране, а в христианской Англии! Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно! Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилен помочь им. Но берегитесь, злодеи! Настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по сто ударов».
Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из вида. Король услышал какие‑то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления. Стража забегала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь; толпа мало‑помалу смолкла, и водворилась глубокая тишина.
Вдруг, по команде, толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой‑то человек, стоя на коленях, разжигал костер!
Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками; сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась; она кричала, что хочет умереть вместе с матерью; и, прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее; пылающий край платья оторвали и бросили в сторону; а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук сторожей; но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым».
Гендон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе: «Он заметно поправляется; он изменился, стал мягче. Прежде он, наверное, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король, требовать, чтобы же
 2020-06-08
2020-06-08 106
106








