середине 60-х годов, В. Каверин. Теперь, в середине XX в., следовало бы добавить: «И из гоголевского "Носа"»230. Исследователь литературы 20-х годов Е. Б. Скороспелова обозначает данную тенденцию как «трагический гротеск» или «гофманиану». «Думается, — пишет она, — что об этой традиции можно говорить не только в связи с творчеством М. Булгакова, но и по отношению к ранним произведениям самого В. Каверина, первым опытам Л. Лунца, некоторым рассказам А. Грина и В. Катаева. Использование гротеска характерно и для раннего И. Эренбурга, хотя, если искать его предшественников, это, скорее, А. Франс.
Эти писатели никогда не объединялись организационно на какой-либо общей идейно-эстетической платформе. Несхожей была дальнейшая творческая судьба художников, большинство из которых сыграло выдающуюся роль в развитии советской литературы. Но в ряде произведений, написанных ими в начале 20-х годов, выражено сходное понимание действительности, создан своеобразный и обладающий известной целостностью художественный мир»231.
При всем различии творческой индивидуальности художников и проблематике произведений их объединяют общие черты экспрессионистической эстетики, которые И. Иоффе определил следующим образом: повышенная, сгущенная выразительность обостренных фраз, ритмов и линий; темы ударных моментов с резко вычерченными контурами; деформация внешнего мира как деформация представлений эмоциями. Исследователь выделяет еще один значимый момент, отличающий экспрессионизм от прочих модернистских эстетических систем: «В политематической композиции целого произведения экспрессионисты ради индивидуализации каждой темы применяют различные стилистические планы; каждая тема получает такую резко самостоятельную фактуру, которая исключает импрессионистическое мерцание, но сохраняет каждую плоскость независимой»^-.
Гротескность, фантастичность, невероятные преувеличения в экспрессионистической прозе вовсе не являются самоценными. За ними стоит стремление в метафоричной, а потому выразитель-
230 Каверин В. Здравствуй, брат. Писать очень трудно... М., 1965. С. 83.
231 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе
первой половины 20-х годов. М., 1979. С. 103-104.
232 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства.
С.323.
Модернизм
Экспрессионистические тенденции


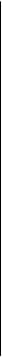
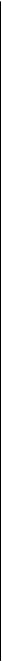
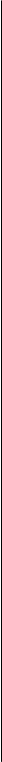

 ной, зримой, экспрессивной форме представить наиболее значимые, глубинные вопросы бытия: «Экспрессионистическая проза предпочитает проблемы общефилософские, проблемы человеческого сознания и интеллекта вообще, общие проблемы мировоззрения, морали, соотношения сознания и подсознания, культуры и варварства»233.
ной, зримой, экспрессивной форме представить наиболее значимые, глубинные вопросы бытия: «Экспрессионистическая проза предпочитает проблемы общефилософские, проблемы человеческого сознания и интеллекта вообще, общие проблемы мировоззрения, морали, соотношения сознания и подсознания, культуры и варварства»233.
Именно проблемы культуры и варварства ставит М. Булгаков, позволив профессору Преображенскому и доктору Борменталю превратить пса Шарика в Шарикова. Фантастический эксперимент нужен вовсе не сам по себе, но как наиболее зримое выражение тех социальных проблем пореволюционной действительности, которые волновали Булгакова. В повседневной обыденности он видел зловещие результаты деятельности антисистемы, когда буквально на глазах в течение нескольких лет превращались в ничто элементарные представления, составляющие даже самый поверхностный уровень повседневной бытовой культуры: он видел, как хамство, переходящее в бандитизм, возводится в доблесть и прикрывается демагогией о пролетарском социальном происхождении; как под напором этого хамства, поддерживаемого мандатами Швондеров, разрушается культура, быт, бытие. Фантастический сюжетный ход (превращение собаки в человека под скальпелем хирурга) давал возможность показать почти биологическую сущность осмысляемых писателем социальных процессов. Абсурдность происходящего выявляется Булгаковым с помощью фантастического гротеска и в «Роковых яйцах», и в «Дьяволиаде». Гротескный принцип типизации приходит в модернистской литературе на смену традиционным реалистическим средствам мотивации образа.
Принципы мотивации позволяют объединить столь различных художников, какими были, к примеру, В. Набоков, М. Булгаков, Е. Замятин, Ю. Олеша. Именно Олеша в своей знаменитой «Зависти» показывает самые разнообразные варианты модернистской детерминации характера.
Андрей Бабичев, о котором мы уже упоминали, мотивирован колбасой и Четвертаком: так снижается образ делового человека, инженера, «спеца», социальная роль которого характерна для нормативизма 20-х годов — вспомним образ Бадьина из «Цемента» Гладкова, отчасти пародируемый Олешей. Речь идет не о сознательной пародии, пародируется литературное клише, социальная
233 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства. С.324.
роль, ставшая социальной маской с заранее предопределенными перспективами развития.
Другой герой Олеши, Володя Макаров, приемный сын Андрея Бабичева, очарован автоматами, стремится превратиться в машинизированного человека, робота, ибо именно таким ему и Андрею Бабичеву видится человек будущего. Олеша использует форму письма, приоткрывая внутренний мир своего героя и обнажая сам механизм формирования явно ущербной личности. «Я — человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь — зверье! Породистые! Замечательно равнодушные, гордые машины... Я хочу быть машиной.. Чтобы быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа. Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась свирепее нас». В этой нарочитой, явно спародированной и сниженной детерминированности характера машины Олеша полемизирует с концепцияи А. Богданова, ЛЕФа, конструктивизма, футуризма, предельно упрощавшими человеческую личность. Гротескные образы Володи Макарова и Андрея Бабичева, в которых до апогея доведены требования отречения от своего «я», от сложного и многообразного мира личности, явились главными аргументами Олеши в полемике о концепции личности.
Для доказательства несостоятельности весьма распространенных тогда представлений о человеке — винтике, или, как говорили теоретики «левого фронта», «отчетливо функционирующем человеке», Олеша прибегает к гротескным образам: в каждом герое «Зависти» доводится до апогея какая-либо одна черта: Володя Макаров предстает функцией машины, Андрей Бабичев — функцией дела, Кавалеров воплощает в себе верх инфернальности, Иван Бабичев — пророк семейного счастья. Гротескные образы, характерные для экспрессионизма, оказываются подкреплены особыми принципами типизации, весьма далекими от реалистических. В художественном мире повести каждый из героев имеет лишь одно определяющее начало, которое и доводит до абсурда ту или иную черту характера. Для Ивана Бабичева в качестве такового выступает подушка, с которой он неразлучен, для его брата Андрея Бабичева — мечта о вкусной и дешевой колбасе (он любит колбасу так, как можно любить искусство, природу, женщину). Реальная картина мира искажается, характеры деформируются, нарушаются фабульные связи, мотивировки событий получают некий ирреальный смысл.
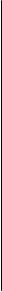
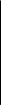
 Модернизм
Модернизм
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека

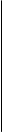
 Подобные принципы типизации проводят довольно четкую границу между импрессионистической и экспрессионистической эстетикой. Для импрессионизма характерен вообще отказ от объяснения фактов, фабульных связей чаще всего нет как таковых, художника интересует просто совокупность принципиально случайных, не связанных друг с другом эпизодов, в сложной вязи которых отражается прихотливый образ эпохи. Экспрессионистическая поэтика характеризуется строгой заданностью детерминант характеров и событий, логической основой сюжета, которые, правда, вовсе не носят правдоподобного, реалистического характера. Напротив, они фантастичны и ирреальны. Так, например, персонаж рассказа М. Горького «Рассказ об одном романе» порожден фантазией писателя, забывшего о нем, и поэтому он, погруженный в реальную жизнь, не имеет объема, существует лишь в плоскости, но не в пространстве, не имеет профиля. Жизнь и судьба подпоручика Киже, героя рассказа Ю. Тынянова (вроде бы «реальная», ибо на его похоронах за фобом шли жена и дети), определена опиской писаря и хитросплетением бумажных судеб бюрократической переписки, сложившихся весьма удачно для несуществующего героя. Но важнее всего то, что бумажная жизнь намного реальнее жизни живой: она повергает ниц человека во плоти и возносит бумажного подпоручика Киже, которого никогда никто не видел, но который живет вполне реальной жизнью, ибо не могут же официальные бумаги лгать: и живая жизнь подлаживается под циркуляр.
Подобные принципы типизации проводят довольно четкую границу между импрессионистической и экспрессионистической эстетикой. Для импрессионизма характерен вообще отказ от объяснения фактов, фабульных связей чаще всего нет как таковых, художника интересует просто совокупность принципиально случайных, не связанных друг с другом эпизодов, в сложной вязи которых отражается прихотливый образ эпохи. Экспрессионистическая поэтика характеризуется строгой заданностью детерминант характеров и событий, логической основой сюжета, которые, правда, вовсе не носят правдоподобного, реалистического характера. Напротив, они фантастичны и ирреальны. Так, например, персонаж рассказа М. Горького «Рассказ об одном романе» порожден фантазией писателя, забывшего о нем, и поэтому он, погруженный в реальную жизнь, не имеет объема, существует лишь в плоскости, но не в пространстве, не имеет профиля. Жизнь и судьба подпоручика Киже, героя рассказа Ю. Тынянова (вроде бы «реальная», ибо на его похоронах за фобом шли жена и дети), определена опиской писаря и хитросплетением бумажных судеб бюрократической переписки, сложившихся весьма удачно для несуществующего героя. Но важнее всего то, что бумажная жизнь намного реальнее жизни живой: она повергает ниц человека во плоти и возносит бумажного подпоручика Киже, которого никогда никто не видел, но который живет вполне реальной жизнью, ибо не могут же официальные бумаги лгать: и живая жизнь подлаживается под циркуляр.
Ирреальность, фантастичность героя (Шариков, подпоручик Киже, персонаж «Рассказа об одном романе») и сюжетных ходов, гротескность образов, обусловленная единственной детерминан-той характера, подчиняющей себе персонаж, являются важнейшим проявлением экспрессионистической поэтики. Следует подчеркнуть, чо экспрессионизм в прозе 20-х годов обнаружил большую «валентность» по тношению к альтернативным эстетическим системам, чем импрессионизм. Экспрессионистическое исследование действительности оказалось очень продуктивным, открывало перед художником возможность наиболее яркого, зримого постижения тех проблем, прежде всего социальных, которые были поставлены новой реальностю с ее подчас действительно невероятными смещениями общественных планов, социальных смылов, алогичными связями и сцеплениями событий. В экспрессионистическом контексте, подсказанном самой жизнью, естественным кажется и оживление литературного персонажа, недодуманного, недоделанного автором, и появление на улицах Москвы говоря-
щего черного кота, пытающегося заплатить кондуктору в трамвае, и наличие у бурого медведя-кузнеца из «Котлована» А. Платонова обостренного классового чутья. Характерным является то обстоятельство, что элементы экспрессионизма проникают в другие эстетические системы, обогащая их и активно взаимодействуя с ними. Явным примером такого взаимодействия является «Жизнь Клима Самгина» Горького, своего рода канон реалистической эстетики 20—30-х годов. Но элементы экспрессионистической поэтики, внедряясь в произведение, вовсе не разрушают его изнутри, но делают более зримой авторскую концепцию. Навязчивый мотив двойни-чества, характеризующий разорванность сознания Самгина и реализованный в самой фантастической картине его страшного сна из третьей части, когда два солнца освещают его путь и герой осознает, что не имеет тени, является важным средством выражения авторской позиции. Явно противореча реалистической поэтике жизнеподобия, характерной для нового реализма, элементы экспрессионизма, тем не менее, оказываются «валентны» ей и органично сочетаются с конструктивными элементами сугубо реалистической поэтики.
Экспрессионизм, взаимодействуя с альтернативными эстетическими системами, не растворялся в них, но развивался на протяжении 20—30-х годов вполне самостоятельно. Роман Е. Замятина представляет один из вариантов, притом наиболее плодотворных, этого развития.
«Мы» Е. Замятина:
полемика с химерической концепцией
мира и человека
Экспрессионистическая эстетика в литературе 20-х годов существует в резкой оппозиции к нормативной эстетике соцреализма. Как принципиально противоположные предстают реалистическая и экспрессионистическая концепции мира и человека. Химерическая, в сущности разрушительная и безнравственная в своей основе концепция, особенно характерная для литературы 20—30-х годов, вызвала и мощную ответную реакцию. В поисках антитезы утопическому роману соцреализма и в целом утопической идее литература обратилась к жанру романа-антиутопии.
1В - 4063
Модернизм
Мировая литература XX в. богата антиутопиями, произведениями, как бы предостерегающими человечество от бездумного вторжения в уязвимую плоть реальности, от безответственных и преступных в своей основе попыток насильственного преобразования бытия. Достаточно назвать здесь роман Дж. Оруэлла «1984», описывающий трагизм положения человека, живущего в тоталитарном обществе, показывающий, что было бы с Англией и англичанами, если бы там восторжествовал социализм. Но еще в большей степени антиутопия характерна для русской литературы XX в.: мы имели значительно больше материала для умозаключений на сей счет, чем многие другие. Даже В. Набоков в интервью А. Аппелю признался, что и он этому жанру отдал дань — при всем отсутствии интереса к социальной проблематике, при всем его нежелании делать литературу ареной политической борьбы.
— Есть ли у Вас, — спрашивает автор интервью у Набокова, — какое-либо мнение о русской, если к ней приложимо такое определение, антиутопической традиции, начиная с «Последнего самоубийства» и «Города без имени» в «Русских ночах Одоевского и до брюсовской «Республики Южного Креста» и «Мы» Замятина, — ограничусь лишь несколькими примерами?
— Мне эти вещи неинтересны.
— Справедливо ли сказать, что «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» — это своего рода пародийные антиутопии с переставленными идеологическими акцентами — тоталитарное государство здесь становится предельной и фантастической метафорой несвободы сознания — и что тема обоих романов — именно такая несвобода, а не политическая?
— Может быть, это так234.
Думается, что та же проблематика интересовала и Е. Замятина, автора романа «Мы», о котором со свойственной ему небрежностью отозвался Набоков — и вполне несправедливо.
«Мы» — одна из самых знаменитых антиутопий XX в. Роман Замятина показывает, что случится с обществом, если общество в своих членах будет уничтожать личностное, индивидуальное начало и превращать их в абсолютно идентичных человекоединиц, «нумеров». Сообщество, подвергшее своих индивидов полной, биологической идентификации, предстает в романе Замятина.
234 Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 165.
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
Этот роман критика 20-х годов трактовала как злобный памфлет, направленный против советской власти. В нем описаны события самого отдаленного будущего, отодвинутого от момента современности и «тысячелетней войной», и многими веками сооружения стеклянной стены, отделившей «цивилизованный мир» от мира, где царствует дикое состояние свободы и некоторые люди продолжают еще жить свободными — могут любить кого угодно и жить так, как, в общем-то, того хотят. Но жители чудного города, описанного в «Мы», мыслят личностную свободу чудовищным рудиментом, ибо жизнь, частная и общественная, должна основываться на строго логических, математически исчисленных законах — тогда все и смогут быть вполне счастливы.
Источником человеческих несчастий является неравенство — так пусть все будут равны! Но человек не может быть равен даже самому себе, и становление романного жанра как раз и связано с исследованием литературой того самого неразрешимого внутреннего тождества со множеством неизвестных, которое пытается решить для себя, наверное, каждый человек — и чем сложнее его внутренняя организация, тем безуспешнее эти попытки. Так возможно ли равенство всех со всеми? Возможно, отвечает главный герой романа, повествователь, ведущий дневник для неведомого ему читателя. Возможно, если будут упразднены причины не только социального или имущественного неравенства, но и обусловленного самой природой. Что делает человека несчастным? Зависть. Но все жители Единого Государства равны, завидовать нечему. Есть, правда, иная форма зависти — ревность, но и с ней тоже можно справиться. Оказывается, все равны и в любви, и каждый «нумер», мужской или женский, может получить розовый билетик, дающий право на обладание объектом своих желаний. В этом случае в комнате со стеклянными стенами, в которых живут «нумера», на час спускаются шторы... Нельзя только заводить детей без разрешения государства и создавать семью, ибо она — основа неравенства, зависти и ревности со стороны других «нумеров».
Жители Единого Государства лишены имени (главного героя зовут Д-503), досуга, права свободного выбора, права любого несанкционированного в «бюро хранителей» проявления личностного, индивидуального начала. «Нумера» маршируют мерными рядами по четыре, восторженно отбивая такт под звуки труб Музыкального Завода, поющих Марш Единого Государева; они строем ходят на лекции и в аудиториумы — и счастливы своим исчисленным рациональным счастьем, невзирая на то, что при исчис-
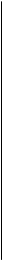
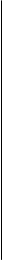 Модернизм
Модернизм
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
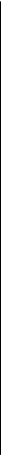
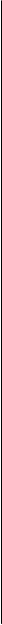
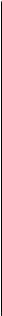
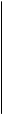
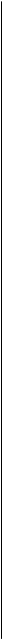 лении его начисто сокращен индивидуальный остаток. «Я» больше не существует — есть «Мы».
лении его начисто сокращен индивидуальный остаток. «Я» больше не существует — есть «Мы».
Гибельность для человека подобного жизнеустройства Замятин показывает, обращаясь к изображению не только форм общественного бытия, которые не примет ни один уравновешенный человек («нумер» вместо имени, общедоступный розовый билетик вместо естественных человеческих отношений, стеклянная стена дома, шествие строем на работу, публичные воспитательные казни инакомыслящих, всевластие бюро хранителей, невозможность семьи и т.д.). Его герой проходит еще и испытание любовью и не выдерживает его — совсем как герой тургеневского романа. Расцветшую в его душе любовь (пусть и к женщине, которая всего лишь использует его в борьбе с Единым Государством) убивают, подвергая Великой Операции, которую необходимо пройти всем «нумерам»: из мозга удаляются те участки, которые ведают эмоциональной сферой. В результате в романе мы видим кольцевую композицию: герой приходит к той же самодовольности математического счастья, с которым он брался за составление своих записок и сомнение в котором принесла ему столь незапланированная и неподдающаяся алгоритмам любовь к женскому «нумеру» 1-330. Наблюдая за пыткой своей бывшей избранницы в присутствии Благодетеля, верховного правителя, Д-503 недоумевает по поводу своих прошлых, совсем еще недавних метаний: «Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа)».
С кем или с чем спорил Замятин? С новой властью, стремящейся к насильственному упорядочению жизни и к полной нивелировке индивидуумов, к насильственной регламентации всех форм бытия? Да, безусловно. Но сами эти идеи были прямо выражены не в официальных государственных или партийных документах, а в творческих манифестах литературных организаций, проводящих и даже невольно пародирующих в стремлении отличиться официальные, только что формирующиеся концепции новой власти. Литературные манифесты той эпохи давали прекрасный материал для того, чтобы посмотреть, что будет с человеком, если новая власть продержится не семьдесят лет, а, скажем, тысячу. В сущности, Замятину не пришлось даже ничего выдумывать: достаточно было взять манифест Пролеткульта, одной из самых значительных литературных организаций первых лет революции.
Пролеткультовцы полагали, что класс, вставший у власти, обладает совершенно особым, новым и невиданным ранее типом сознания: «методическая, все растущая точность работы, воспитываю-228
щая мускулы и нервы пролетариата, придает психологии особую настороженную остроту, полную недоверия ко всякого рода человеческим ощущениям, доверяющуюся аппарату, машине, инструменту». Не напоминает ли сознание такого человека то, что случилось с героем Замятина после Великой Операции?
«Машинизирование не только жестов, не только рабоче-производ-ственных методов, но машинизирование обыденно-бытового мышления... поразительно нормализует психологию пролетариата.. Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии поразительную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, В, С, или 325, 0, 75 и т.п....» Эти отдельные абстрактные человекоединицы в концепциях Пролеткульта «настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движения этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные нормализированные шаги, есть лица без экспрессии, душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометрами и таксометрами». Все это писалось теоретиками Пролеткульта вполне серьезно и вовсе без ужаса перед подобной перспективой, напротив, с восторгом. Замятин приложил эту перспективу на ближайшее тысячелетие — и ужаснулся.
Экспрессионистическая эстетика, получившая столь сильное развитие в литературе 20-х годов, во многом основана на взаимодействии с социалистическим реализмом; мало того, это взаимодействие и явилось причиной столь сильного и бурного развития экспрессионистической эстетики. Суть в том, что экспрессионизм явился реакцией на ту концепцию мира и человека, которую предложил соцреализм и которая была так же выражена в пролеткультовских и лефоских концепциях — реакцией, основанной на резкой полемичности этих тенденций. Закрепощение героя идеей «золотого века» в литературе нормативизма, героя, столь свободного в своем развитии по первоначальному, собственно реалистическому проекту, но фатально обреченному на поиски и обретение официально признанного идеала уже в творчестве А. Толстого, как, скажем, фатально обречен Рощин прийти к большевикам и стать красным военспецом с самого начала трилогии «Хождение по мукам», дало в экспрессионизме концепцию личности прямо противоположного плана: отрицание рационализма личности, заранее предугаданные идеи всечеловеческого счастья и утверждение героя, способного сомневаться. Условно говоря, экспрессионизм
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
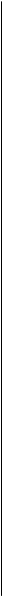

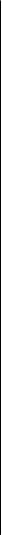
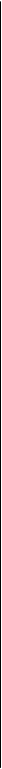
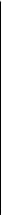
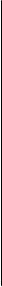
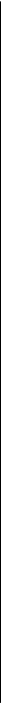 утверждает право человека на критическое восприятие информации, которую на него обрушивает пропаганда, утверждает право сомнения: вспомним усомнившегося Макара А. Платонова, задумавшегося на фоне всеобщего темпа труда Вощева из «Котлована». Напротив, подчинение себя коллективу, партии, некой всеобщей идее, пусть и несомненно гуманистической, приводит личность и общество, состоящее из таких личностей, к полному краху, как показал это Замятин в романе «Мы».
утверждает право человека на критическое восприятие информации, которую на него обрушивает пропаганда, утверждает право сомнения: вспомним усомнившегося Макара А. Платонова, задумавшегося на фоне всеобщего темпа труда Вощева из «Котлована». Напротив, подчинение себя коллективу, партии, некой всеобщей идее, пусть и несомненно гуманистической, приводит личность и общество, состоящее из таких личностей, к полному краху, как показал это Замятин в романе «Мы».
Экспрессионистическая эстетика в силу своей выразительности, заостренности на определенной проблеме, фантастичности и гротескности по самой природе своей полемична. Художники, ей принадлежащие и ощущающие себя ее проводниками, часто берут роль еретиков, критиков настоящего, оказываются в оппозиции к господствующим идеологическим концепциям. В доведении до абсурда этих концепций видится им своя миссия в литературе: предостережение общества от слепоты, от глухогоисполнительства, от массового психоза подчиненности власти большинства или аппарату партии — во имя этого берут они в руки перо. Неудивительно, что судьба экспрессионизма, столь мощного в 20-е годы, совершенно лишалась какой-либо перспективы в 30-е. Неудивительно и другое: подавляющее большинство произведений, принадлежащих экспрессионистической эстетике, оказались за пределами советской литературы и официальных ее историй.
Стилевая организация модернистского романа
Творческие задачи, которые ставили перед собой художники, работавшие в рамках модернистской эстетики, определяли и стилевую организацию произведения. Наиболее характерной для модернизма 20-х годов стала орнаментальная проза, художественным принципом которой является организация прозаического текста по законам поэтической речи.
Ю. Тынянов, теоретик и практик орнаментальной прозы 20-х годов, писал о том, что иногда, в особенности в периоды сближения прозы и поэзии, поэзия могла заимствовать у прозы те или иные звуковые приемы. Практика 20-х годов подтвердила, что влияние может идти, и весьма продуктивно, и в другую сторону: от поэзии к прозе. Собственно, русский орнаментализм первоначально 230
и возник как попытка эксперимента, как попытка построить прозаическую речь по поэтическим принципам.
Этот эксперимент был связан с мыслью Ю. Тынянова, высказанной им, в частности, в работе «Проблемы стихотворного языка», о том, что не все факторы слова равноценны, что динамическая форма произведения создается не их слиянием, а их взаимодействием.
В результате одна группа факторов выдвигается за счет другой. В самом деле, в произведениях, построенных по принципу орнаментальной поэтики, слово выступает не только как денотат, но и как самостоятельный элемент в художественной системе. «Речь в произведении "расстилается" над характерами и сюжетом», считает Н. Кожевникова235. Это оказывается возможным благодаря так называемому закону тесноты поэтического ряда, описанного Ю. Тыняновым. Суть его состоит в том, что слово, попадая в поэтический контекст, резко расширяет свое семантическое поле, вступает в метафорические отношения с другими словами и актуализирует такие значения, которые не могут быть учтены ни одним словарем. Поэтический контекст, таким образом, проявляет смысловую глубину и неисчерпаемость слова, делает его насыщенным множеством угадываемых художником и читателем смыслов. Феномен орнаментальной прозы построен именно на таком обращении со словом, когда прозаический контекст создается на принципах поэтического контекста. Он подчинен не логике сюжета, но логике метафор, обнажающих в слове «бездну пространства» их смыслов, делает произведение неисчерпаемым.
Исследователи выделяют целый ряд признаков, которые сближают орнаментальную прозу с поэзией: это специфический характер слова, которое стремится ко множественности смыслов и неисчерпаемости значения; это организация повествования, основанная не на сюжетных причинно-следственных связях, а на ритмических повторах, лейтмотивах образов, ассоциативных связях. Лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета.
Все эти качества оказываются следствием того, что орнаментальная проза построена не на эпических, а на лирических принципах типизации. Как и в лирике, здесь преобладает не столько ориентация на чужую речь, способную лишь замутишь метафору,
235 Кожевникова Н. Л. Из наблюдений над неклассической (орнаментальной) прозой//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 1.
■■
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
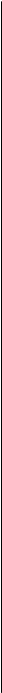
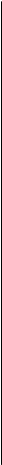
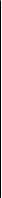
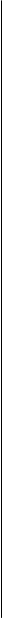 сколько на сознание поэта (хотя, разумеется, возможны и исключения, особенно в произведениях, принадлежащих импрессионистической эстетике). Предметом изображения здесь является не столько реальная действительность, сколько ее отражение в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Пропорция между выражением и изображением явно смещена в сторону выражения. Исследуется мир, основанный на метафорических соответствиях, переходах из одного в другое. Активно эксплуатируется принцип отстранения слова, разрабатываемый в это время на теоретическом уровне В. Шкловским («О теории прозы», 1929).
сколько на сознание поэта (хотя, разумеется, возможны и исключения, особенно в произведениях, принадлежащих импрессионистической эстетике). Предметом изображения здесь является не столько реальная действительность, сколько ее отражение в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Пропорция между выражением и изображением явно смещена в сторону выражения. Исследуется мир, основанный на метафорических соответствиях, переходах из одного в другое. Активно эксплуатируется принцип отстранения слова, разрабатываемый в это время на теоретическом уровне В. Шкловским («О теории прозы», 1929).
Еще раз подчеркнем: подобный принцип организации повествования делал орнаментализм весьма притягательным для нереалистических эстетических систем, прежде всего модернистских. Наиболее очевидно это проявляется в экспрессионистической и импрессионистической поэтике: орнаментальная проза является наибоее адекватным способом выражения того мироощущения, которое лежит в основе модернистской эстетики.
 2014-02-17
2014-02-17 480
480








