Это определяет концепцию художественного времени в литературе импрессионизма. Это время — припоминаемое, ориентированное в прошлое. Его реальные параметры сдвинуты, мгновение здесь может по законам субъективной памяти перерасти в вечность, сравняться с вечностью по значимости, может не кончиться, длиться постоянно. «Настоящее мгновение, — говорит О. Мандельштам в статье о Ф. Виллоне, — может выдержать напор столетий и сохранить свою целостность, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней — иначе оно завянет. Виллон умел это делать. Колокол Сорбонны, прервавший его работу над РеШ ТеМатепХ, звучит до сих
190 Пильняк Б. Отрывки из дневника//Писатели об искусстве и о себе. Сб. статей.
М.;Л., 1924. № 1.С. 85.
191 Никитин Н. Вредные мысли//Там же. С. 121.
192 Кузмин М. Условности. С. 152.
Цит. по:. Андреев Л. Г. Импрессионизм. С. 137. Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...
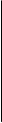
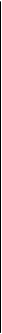
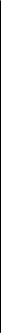
 пор»195. И это не просто образ, к которому прибегает Мандельштам. В модернистской концепции художественного времени отразились эйнштейновские представления о мире реальном, характерные для человека нового столетия. Поэтому субъективность импрессионистического сознания обрела опору в философских и научных идеях, получив право на существование в литературной реальности, отразившись, прежде всего, в поэтике произведения. В высказываниях участников литературного процесса в первую очередь звучит мысль о принципиальном отличии законов литературной реальности и жизненной. «Правдоподобие искусства совсем иное, нежели правдоподобие жизни, — утверждал Ник. Никитин. — Литература, как рампа, все извращает. Она изменяет законы пространства и времени. Из хроникерского петита делается трагедийный фарс, из версты делают Россию, из минуты — вечность»196.
пор»195. И это не просто образ, к которому прибегает Мандельштам. В модернистской концепции художественного времени отразились эйнштейновские представления о мире реальном, характерные для человека нового столетия. Поэтому субъективность импрессионистического сознания обрела опору в философских и научных идеях, получив право на существование в литературной реальности, отразившись, прежде всего, в поэтике произведения. В высказываниях участников литературного процесса в первую очередь звучит мысль о принципиальном отличии законов литературной реальности и жизненной. «Правдоподобие искусства совсем иное, нежели правдоподобие жизни, — утверждал Ник. Никитин. — Литература, как рампа, все извращает. Она изменяет законы пространства и времени. Из хроникерского петита делается трагедийный фарс, из версты делают Россию, из минуты — вечность»196.
Поэтике жизнеподобия была противопоставлена поэтика смещения планов, поэтика принципиальной ареальности. Многие из участников литературного процесса одним из основоположников такой эстетики считали А. Белого. Вл. Лидин, полагая, что новая поэтика обусловлена, в первую очередь, революционным мироощущением, так говорил о Белом: «Новая русская литература, возникшая после трех лет молчания, в 21-м году, силой своей природы, должна была принять и усвоить новый ритм эпохи. Литературным провозвестником (пророчески) этого нового ритма был, конечно, Андрей Белый. Он гениально разорвал фактуру повествования и пересек плоскостями мякину канонической формы. Это был тот литературный максимализм (не от формул и комнатных вычислений), который соответствовал ритму наших литературных лет»197. И в этом смысле Лидин, вероятно, прав: структура русского модернистского романа, созданная Белым в начале века, показала свою продуктивность в творчестве Б. Пильняка, Е. Замятина, Б. Пастернака, О. Мандельштама (роман «Египетская марка»).
Специфика модернистской поэтики с ее ареальностью и смещением планов, в том числе поэтика импрессионистическая, связана с особым типом мироощущения. Мандельштам назвал это мироощущение эллинизмом и связал его со стихией русского языка. Эллинизм для Мандельштама — особое чувствование бытия, в
котором на первый план выходит предмет, как бы одухотворенный авторским сознанием, согретый им. «Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим теологическим теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развивает вокруг себя как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «Я». В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом»198. Такое одушевление окружающего мира, превращение «предмета» в «утварь» характерно именно для импрессионистической идеологии. Начать с того, что творит эту эллинистическую — в бергсоновском смысле слова — систему человеческое «Я», сознание, воспринимающее мир, освобождающее предметы, явления, события от временной зависимости. Именно это сознание и одушевляет предметы, делая их достоянием своего внутреннего духовного опыта, достоянием не столько внешнего мира, сколько внутренней жизни. На эту важнейшую черту импрессионистической эстетики указывал, в частности, Л. Андреев, рассуждая об импрессионизме М. Пруста: «Писатель уверял, что консервация впечатлений происходит в таких объектах, в которых рассудок не в состоянии воплотиться»199, т.е. опредмеченный, одухотворенный реальный мир есть важнейшее условие импрессионистической эстетики. Ведь «импрессионизм есть двуединство, единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного. В этом двуедин-стве субъективное занимает позиции предпочтительные — отсюда и сам принцип «впечатления». Но впечатление всегда направлено, всегда исходит от чего-то, извне»200. Для Мандельштама таким источником впечатления и является «эллинистически» опредмеченный мир: его предметы становятся «утварью», преломившись в


 195 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 95.
195 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 95.
196 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 120-121.
197 Лидин Вл. Об искусстве и о себе//Писатели об искусстве и о себе. С. 130.
198 Мандельштам О. О поэзии. С. 40.
199 Андреев Л. Импрессионизм. С. 131.
200Там же. С. 65-66.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...
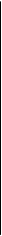
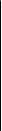
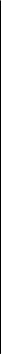 воспринимающем сознании, освещенные им. Вероятно, такое «вещное» восприятие мира было характерно для художников 20-х годов, тяготеющих к импрессионистической эстетике: Ник. Никитин, например, почти дословно повторяет мысль Мандельштама: «Я совсем не сторонник быта... я понимаю его совсем не так, как он понимается и «левыми», и «жизнестройцами»; их понимание быта для меня бытовщина, но я люблю мир видимый, я сторонник вещей, и не люблю поггшпси1и$'ов в колбе, а люблю человека, я люблю здания, где можно жить, где обжито, а не конструкции и чертежи»201.
воспринимающем сознании, освещенные им. Вероятно, такое «вещное» восприятие мира было характерно для художников 20-х годов, тяготеющих к импрессионистической эстетике: Ник. Никитин, например, почти дословно повторяет мысль Мандельштама: «Я совсем не сторонник быта... я понимаю его совсем не так, как он понимается и «левыми», и «жизнестройцами»; их понимание быта для меня бытовщина, но я люблю мир видимый, я сторонник вещей, и не люблю поггшпси1и$'ов в колбе, а люблю человека, я люблю здания, где можно жить, где обжито, а не конструкции и чертежи»201.
Импрессионистическое восприятие мира, будь оно выражено в художественном тексте или в частном письме, в воспоминании о самых обыденных мелочах жизни, всегда наполняет мир особым ощущением, одушевляет и оживляет все предметы и явления, которых касается взгляд художника-импрессиониста, — наполняет их особым, судьбоносным смыслом. Эпизод, которого обычный человек не заметит, обретает свой вес и значение, становится, преломленный сознанием писателя, фактом его художественной биографии. Б. Пильняк, например, так вспоминает о двух, казалось бы, совершенно незначительных эпизодах, из которых родились рассказы. Первый из них связан с возвращением от режиссера А. Д. Дикого: «Я слез на Страстной площади с трамвая — я помню это место на Страстной, я остановился выколотить трубку, набил ее английским табаком, закурил, вдохнул запах «вирджиниа», — и понял, что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха табака фабрики Кэпстэн. Через год рассказ был написан: «Старый сыр». Я поехал с Курда-сан в Крым к его соотечественникам, поднимавшим с Черного моря «Черного принца». В вагоне был синий свет, лицо Оттокичи Куродо было зеленым — я понял, что еду не по железной дороге, но по сюжету.Через полгода был написан рассказ «Синее море»202. Художник-импрессионист как бы формирует новую систему ценностей, в которой запах табака или отсвет вагонной лампы, запечатленный воспринимающим сознанием, значит не меньше, а то и больше, чем сюжет.
Для А. Белого таким началом творческого процесса был звук: «В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже предрешены в звуке. В нем переживается не форма, не содержа-
ние, а формосодержание». Самые разнообразные импрессионистические мазки действительности, которыми столь богата проза Белого — и «растирание красок, образы, и чудо с натуры — дерева, носа, стола, обоев, жестов» — все это может существовать лишь тогда, когда окрашено звуком, из которого потом родится музыкальная красочная симфония. «То, что я утверждаю о примате «звука» — мой выношенный тридцатилетний опыт», и если некоторый зримый образ не звучит, «если я не зарисую его в нескольких звуковых фразах, я его безвозвратно теряю»203. Даже в наборе цветных коктебельских камушков, «который я складывал в орнамент оттенков, звук темы искал связаться с краской и со звуком слов... коллекции камушков оказались пакетиками красочной инсценировки «Москвы». К коллекции психологических и сюжетных зарисовок на тему «старая, рассыпающаяся Москва»... присоединились: синтез воспоминаний, пережитых как звук музыкальной мелодии, и он же, собранный в красочных транскрипциях (коллекция моих камушков, которую одобрил художник Богаевс-кий). Фон фабулы стоял готовым; надо было из фона, так сказать, вывести фабулу, и она вынырнула неожиданно, ибо камушки, как мозаика, сложили мне давний образ 1909 года... Когда я говорю о синтезе материала, пережитом как звук, из которого рождается образ, я надеюсь, что меня поймут: речь идет не о бессмысленном верещании телеграфного провода, а о внутреннем вслушивании некоторой звучащей симфонии, подобной симфонии Бетховена; это ясность звука и определяет выбор программы; я в этом периоде работы уподобляю себя композитору, ищущему текст для превращения музыкальной темы в литературно-сюжетную»204. Приоткрывая свою творческую лабораторию, художник показывает импрессионистическую по сути своей картину мира, открытую им, создает целую концепцию подсознательного восприятия бытия, когда из пестрой мозаики цветов, звуков, красок, запахов складывается некая целостность, объемная картина, сотворенная заново сознанием художника. При этом открыто декларируется важнейший принцип импрессионистической эстетики: право писателя на предельную субъективизацию, право на смещение грани между субъективным и объективным в пользу субъективного, право на преобразование жизни по законам объективной
201 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 116.
^Пильняк Б. //Как мы пишем. Л., 1930 (М., 1989). С. 109.
203 Белый А. Там же. С. 15-19. 204Тамже. С. 13.
Модернизм
«Синтетизм» Е. Замятина

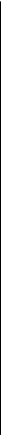
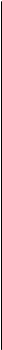
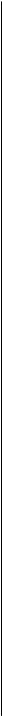
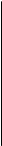 памяти, по законам воспринимающего сознания. Отсюда и резкие переходы во времени из 1924 г., когда собирается коллекция коктебельских камушков, к 1909 г., к музыкальной теме будущего романа «Москва».
памяти, по законам воспринимающего сознания. Отсюда и резкие переходы во времени из 1924 г., когда собирается коллекция коктебельских камушков, к 1909 г., к музыкальной теме будущего романа «Москва».
Нужно, конечно, помнить, насколько полемичным в отношении к реалистическим концепциям не только РАПП, но и «Перевала» выглядели эти программные заявления, как явно противоречили они господствующим представлениям о социальном заказе. Импрессионистическая эстетика стремилась к теоретическому самоопределению — пусть не в форме научных эссе, но в доверительном разговоре автора с читателем.
«Синтетизм» Е. Замятина
Две эстетические системы, родившиеся на европейской почве в резкой полемике друг с другом, когда экспрессионизм возникал как реакция на импрессионистическое творчество, на русской почве вовсе не были противопоставлены, а в размышлениях участников литературного процесса часто неотделимы друг от друга. То же и в литературе: грань между импрессионистическим и экспрессионистическим творчеством провести очень трудно, часто даже в одном произведении обнаруживаются черты и той и другой эстетики.
Даже Е. Замятин, один из немногих в литературе 20-х годов сумевший достаточно целостно и полно изложить эстетические принципы нового художественного мироощущения, которое он назвал «синтетическим», склонен, скорее, не к противопоставлению, а к объединению импрессионистической и экспрессионистической тенденции. Это имеет достаточно очевидные объяснения: элементы импрессионизма в современной литературе, по словам Ю. Айхенваль-да, обусловлены стремлением «заметить жизнь»; но сама действительность 20-х годов фантастична, нереальна — экспрессионистична. Взгляд художника-импрессиониста направлен на познание действительности, экспрессионистичной по самой своей сути.
Поэтому реализм осмысляется Замятиным как эстетика явно архаичная: «Очень удобен Вересаевский тупик — и все-таки это уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир и очень труден Эйнштейнов — и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду». Кризис реализма обусловлен кризисом позитивистского мировоззрения, характерного для предшествующих эпох. «Все реалистические фор-192
мы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не геаИа, а геаНога — в сдвиге, в искажении, в кривизне, необъективности»205. Поэтому новое искусство, «синтетизм», являясь по своей глубинной сути экспрессионистическим, направленным на борьбу с энтропией искусства, «наследственной сонной болезнью» русской реалистической литературы, все же неизбежно включает в себя и элементы импрессионистической эстетики, связанной с умением видеть, ощущать, чувствовать вещь, цвет, его оттенки, даже запах. И хотя в работах Замятина часто проявляется ирония в отношении к «импрессионизиро-ванному, раскрашенному фольклором реализму»206 многих современных писателей, он все же уверен, что для современного искусства, для которого характерен синтез фантастики с бытом, взгляд художника-импрессиониста тоже весьма полезен: «Каждую деталь — можно ощупать: все имеет меру и вес; запах; из всего — сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос и колбас — фантазм, сон»207, характерный как раз для импрессионистической прозы, принципиально отказывающейся от обобщения действительности, стремящейся не к синтезу, не к созданию целостной, пусть и далекой от «геаНа» картины, искаженной и фантастической, к которой всегда стремится экспрессионизм.
Импрессионистическую эстетику Е. Замятин рассматривает как своего рода предварительный этап для возникновения экспрессионистического «синтетизма». Импрессионизм, по мысли писателя, открыл мозаичность мира, смещение планов, фрагментарность картин бытия, резко сместил пространственные и смысловые, содержательные масштабы. Экспрессионизм же как бы доделал начатую ранее работу: открытия импрессионизма оказались подчинены строгой логике идеи, важнейшей и единственной мысли произведения. Фантастичность и алогизм действительности мотивировались уже не просто способностью художника видеть мир,
205 Замятин Е. О литературе, революции, энтропии и прочем//Е. Замятин. Мы.
Роман, повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, 1989. С. 515.
206 Замятин Е. Новая русская проза//Там же. С. 518.
207 Замятин Е. О синтетизме//Там же. С. 506.
1Л - 40ЙЗ
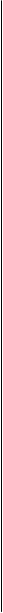 Модернизм
Модернизм
Импрессионистические тенденции

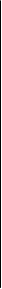
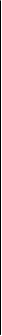
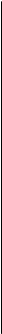
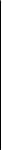 но способностью этот мир осмыслить, подчинить жесткой идее. «Смещение планов для изображения сегодняшней, фантастической реальности — такой же логически необходимый метод, как в классической начертательной геометрии — проектирование Х-ов, У-ов, 2-ов... Синтетизм пользуется интегральным смещением планов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму куски мира (разорванность и фрагментарность мира — наследство, доставшееся «синтетизму» от импрессионизма. — М. Г.) — никогда не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше — но лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кусков — всегда целое»208. Иными словами, открытия импрессионистов, по мысли Замятина, должны быть подчинены постижению новой действительности, которая, однако, может быть постигнута лишь экспрессионистом, способным свести фрагменты мозаики в точку, объединить их векторами лучей, подчинить определенному идеологическому центру.
но способностью этот мир осмыслить, подчинить жесткой идее. «Смещение планов для изображения сегодняшней, фантастической реальности — такой же логически необходимый метод, как в классической начертательной геометрии — проектирование Х-ов, У-ов, 2-ов... Синтетизм пользуется интегральным смещением планов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму куски мира (разорванность и фрагментарность мира — наследство, доставшееся «синтетизму» от импрессионизма. — М. Г.) — никогда не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше — но лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кусков — всегда целое»208. Иными словами, открытия импрессионистов, по мысли Замятина, должны быть подчинены постижению новой действительности, которая, однако, может быть постигнута лишь экспрессионистом, способным свести фрагменты мозаики в точку, объединить их векторами лучей, подчинить определенному идеологическому центру.
Как же мыслятся в работах Е. Замятина принципы нового искусства? Это искусство, включающее в себя прежний творческий опыт — и решительно переосмысляющее, преобразующее его, «синтезирующее», на чем настаивает художник. «Если искать какого-либо слова для определения той точки, к которой движется сейчас литература, — я выбрал бы слово синтетизм: синтетического характера формальные эксперименты, синтетический образ в символике, синтезированный быт, синтез фантастики и быта, опыт художественно-философского синтеза. И диалектически: реализм — тезис, символизм — антитезис, и сейчас — новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма»209.
При этом Е. Замятин рассматривает гротескность и фантастичность нового синтетического искусства как его неотъемлемое качество, обусловленное стремлением литературы осмыслить новую реальность, взломанную не только революцией, но и новейшими открытиями точных наук, переворотом в философии. Отсюда подчеркнутая антиреалистичность нового искусства: «Сегодня, когда точная наука взорвала самую реальность материи, — у реализма нет корней, он — удел старых и молодых старцев. В точной науке — анализ все более сменяется синтезом, задачи микроскопические — задачами Демокрита и Канта, задачами пространства, времени,
Замятин Е. О синтетизме/Дам же. С. 507. Замятин Е. Новая русская проза. С. 528.
вселенной. И, явно, эти новые маяки стоят перед новой литературой: от быта — к бытию, от физики — к философии, от анализа — к синтезу»210. Сама жизнь, продолжает Замятин, «сегодня перестала быть плоско реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции — сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда — так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или сплаву реальности и фантастики»211. Новая экспрессионистическая проекция, делающая мир фантастичным и алогичным и вскрывающая тем самым его истинную логику, становится, по мысли Замятина, наиболее значительной перспективой литературного развития.
Импрессионистические тенденции
Закономерность появления в литературе 20-х годов ярко выраженных модернистских эстетических систем осознавалась современниками как вполне естественная и связывалась с предшествующим этапом литературного развития. На это указывал, в частности, В. Гофман в статье «Место Пильняка». «Следующая, уже революционная, эпоха была поставлена перед необходимостью считаться так или иначе, с переворотом в прозе, произведенным книгами и журналами символистов. Кое-кто из прозаиков пошел в обход прозы символистов (М. Зощенко, А. Слонимский, В. Каверин, И. Эренбург). Другие же — их большинство — пошли по линии использования различных элементов предыдущей культуры. Синтаксис, ритмика, диалектизмы, стилизация, физиологический натурализм и снижающие подробности в описаниях, «высокая» декламация, негибкий депсихологизированный герой, цитация, даже графические приемы — все это в том или ином соотношении легло в основу современной прозы. Влияние А. Белого и А. Ремизова оказалось для современной прозы решающим. Это было влияние не их системы, а отдельных элементов системы, по-разному вошедших в современную прозу и по-разному гипертрофированных»212.
210Тамже. С. 527.
211 Там же.
212 Гофман В. Место Пильняка//Борис Пильняк. Л., 1928. С. 30-31.
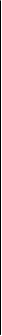
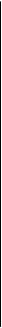 ^^^^^ШШШ^ШШШШШ^
^^^^^ШШШ^ШШШШШ^
Модернизм
Импрессионистические тенденции
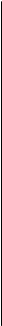 Размышляя о стилистической какофонии прозы 20-х годов, В. Гофман, по сути дела, говорит о начавшемся процессе формирования химерической культуры. Влияние «не системы, а отдельных элементов системы» и есть значимый знак разрушения прежних эстетических систем в результате начавшейся работы антисистемы. Все перечисленные черты оказываются заимствованы из прежних эстетических систем — но хаотически, вне логической связи друг с другом. Это был первый этап формирования химерической культурной конструкции, затронувший все ветви литературного процесса, в том числе и модернистскую. Но если в реализме сложилась строгая, логичная, жестко нормативная и по-своему обаятельная эстетическая система соцреализма, основанная на мощной художественной, пусть и антигуманистической, идее, то литература модернизма демонстрирует иную картину. Разумеется, художественное пространство пореволюционной эпохи было буквально наполнено осколками прежних художественных миров, где хаотически перемешались те самые «различные элементы предыдущей культуры», о которых размышляет В.Гофман: физиологический натурализм и высокая декламация, сказ и негибкий депси-хологизированный герой с графическими приемами, совсем уж не характерными для литературы. Но эти осколки совсем по-разному повели себя, попав с равной степенью разброса в модернистскую и реалистическую систему. Если соцреализм воспринял, к примеру, этику традиционного реализма и переиначил ее, сделав антигуманное проявлением социалистического гуманизма и назвав естественные человеческие проявления гуманизмом буржуазным и классово чуждым, то в модернистской эстетике отразился, скорее, внешний хаос мира.
Размышляя о стилистической какофонии прозы 20-х годов, В. Гофман, по сути дела, говорит о начавшемся процессе формирования химерической культуры. Влияние «не системы, а отдельных элементов системы» и есть значимый знак разрушения прежних эстетических систем в результате начавшейся работы антисистемы. Все перечисленные черты оказываются заимствованы из прежних эстетических систем — но хаотически, вне логической связи друг с другом. Это был первый этап формирования химерической культурной конструкции, затронувший все ветви литературного процесса, в том числе и модернистскую. Но если в реализме сложилась строгая, логичная, жестко нормативная и по-своему обаятельная эстетическая система соцреализма, основанная на мощной художественной, пусть и антигуманистической, идее, то литература модернизма демонстрирует иную картину. Разумеется, художественное пространство пореволюционной эпохи было буквально наполнено осколками прежних художественных миров, где хаотически перемешались те самые «различные элементы предыдущей культуры», о которых размышляет В.Гофман: физиологический натурализм и высокая декламация, сказ и негибкий депси-хологизированный герой с графическими приемами, совсем уж не характерными для литературы. Но эти осколки совсем по-разному повели себя, попав с равной степенью разброса в модернистскую и реалистическую систему. Если соцреализм воспринял, к примеру, этику традиционного реализма и переиначил ее, сделав антигуманное проявлением социалистического гуманизма и назвав естественные человеческие проявления гуманизмом буржуазным и классово чуждым, то в модернистской эстетике отразился, скорее, внешний хаос мира.
Наиболее наглядно процесс творчества новой художественной формы из обломков прежней литературной традиции, несущей в себе мощный культурный потенциал, проявился в романе Б. Пильняка «Голый год».
В «Голом годе» Пильняк демонстративно отрекается и от реализма как творческого метода, и от феноменальной поэтики, характерной для реализма и основанной на четкой причинно-следственной связи явлений и характеров. В результате сюжет утрачивает свою традиционную организующую роль, его функцию выполняют лейтмотивы, фрагменты повествования скрепляются ассоциативными связями, что характерно для орнаментальной прозы. Перед читателем проходит серия разрозненных фрагментов действительности. Жизнь фрагментарна и калейдоскопична, смена фрагментов пове-
ствования, казалось бы, не обусловлена логически. Нарочитая незаконченность, неслаженность и невыстроенность композиции обнажается и подчеркивается писателем даже в названии глав, носящих как бы черновой характер: «Глава VII (последняя, без названия)», или же «Триптих последний (Материал, в сущности)». Разрозненные картины действительности, не сложенные, случайные в калейдоскопе бесконечного чередования, призваны передать несложившееся еще бытие, взломанное революцией, но не устоявшееся, не обретшее внутренней логики, а потому хаотическое, бессмысленное, абсурдное и случайное.
Думается, что импрессионистическая эстетика, способная включить в себя и органически преобразовать в себе обломки прежних культурных пластов, в наибольшей степени соответствовала творческим задачам тех художников, которые стремились воссоздать картину, выражающую атмосферу переходной эпохи, ее ауру, наиболее зримое воплощение общего состояния мира. Импрессионизм, совершенно пренебрегающий деталями формы, чтобы добиться наибольшей силы выражения, «изображает форму только светом и тенью, в то время как глаз рисовальщика ищет контура предметов»213. В этом противопоставлении контура свету и тени, мазку, на котором настаивает немецкий историк и теоретик искусства Кон-Винер, скрывается конструктивная основа поэтики импрессионизма, стремящегося «выразить форму не абстрактным рисунком, а передачей красочного мироощущения», предлагающего «технику широко наложенных красок, в совершенстве передающую жизнь»214.
В 1930 г. издательство «Акадегша» выпустило книгу Г. Вельфли-на «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве», в которой значительное место отводилось анализу импрессионистической поэтики. Сам факт выхода ее на рубеже 20—30-х годов не является, вероятно, случайностью и не служит всего лишь доказательством интереса советского общества той эпохи к работам немецких искусствоведов. Думается, в этом факте есть определенная закономерность.
Вельфлин вовсе не сводил возникновение импрессионизма лишь к искусству XX в., с возникновением школы, с теоретическим самоосознанием данной эстетической системы. Он рассматри-
213 Кон-Винер. История стилей изящных искусств. М., 1916. С. 20-21.
214 Там же. С. 63-64.
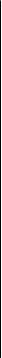 | 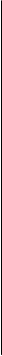 | 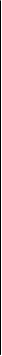 | |||
Модернизм
Импрессионистические тенденции

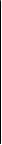
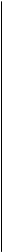
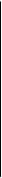 вал элементы импрессионистического стиля как проявляющиеся в искусстве самых разных эпох. «Картина оживленной улицы, как она написана хотя бы Моне, — писал Вельфлин, — картина, в рисунке которой ничто, решительно ничто,не соответствует тому, что мы привыкли считать формой, известной нам из природы, — картина с таким явным несоответствим знака и вещи, конечно, еще невозможна во времена Рембрандта, однако в своей основе импрессионизм существовал уже тогда... Знаки изображения совершенно отделились от реальной формы... Видимость торжествует над бытием»215. Пафос слов немецкого исследователя состоял в утверждении универсальности импрессионистического стиля, перспективности его творческих потенций: «Где контур покоящегося шара перестал быть геометрически чистой формой круга и изображается посредством ломаной линии, где моделировка шаровой поверхности распалась на отдельные комья света и тени вместо того, чтобы равномерно изменяться посредством незаметных оттенков, — всюду в таких случаях мы стоим уже на импрессионистической почве»216.
вал элементы импрессионистического стиля как проявляющиеся в искусстве самых разных эпох. «Картина оживленной улицы, как она написана хотя бы Моне, — писал Вельфлин, — картина, в рисунке которой ничто, решительно ничто,не соответствует тому, что мы привыкли считать формой, известной нам из природы, — картина с таким явным несоответствим знака и вещи, конечно, еще невозможна во времена Рембрандта, однако в своей основе импрессионизм существовал уже тогда... Знаки изображения совершенно отделились от реальной формы... Видимость торжествует над бытием»215. Пафос слов немецкого исследователя состоял в утверждении универсальности импрессионистического стиля, перспективности его творческих потенций: «Где контур покоящегося шара перестал быть геометрически чистой формой круга и изображается посредством ломаной линии, где моделировка шаровой поверхности распалась на отдельные комья света и тени вместо того, чтобы равномерно изменяться посредством незаметных оттенков, — всюду в таких случаях мы стоим уже на импрессионистической почве»216.
В 1927 г. И. Иоффе писал о проявлении импрессионистической поэтики в литературе: «В прозе импрессионизм раздробляет толстый реалистический роман на мелкие эпизоды — новеллы... вместо события — впечатления от события незаинтересованного зрителя: общая линия и пара деталей, без подробного описания, без мотивировки сцеплений... Импрессионистические новеллы этюд-ны, эскизны, недоговорены. Здесь нет ни ясности однолинейного реалистического рассказа, ни энергического схематизма экспрессионистической новеллы. Характер, поступки отступают перед их сочетанием, перед стечением обстоятельств происшедшего. Колорит события преобладает над фабулой события... Личность интересна в пределах данного мгновенного события, и не более. Импрессионизм... дает человека не единой, спаянной волей, но текучих, изменчивых настроений, безвольного, разорванного на тысячи ощущений»217. Далее И. Иоффе предлагает основные черты импрессионистической техники в литературе: во-первых, фиксация впечатления через всплывшую, часто случайную деталь; во-вто-
 2014-02-17
2014-02-17 420
420








