Это происходит потому, что характеры модернистского рома-па мотивированы совершенно иначе, чем в реалистической литературе. Если драма Цинцинната Ц. мотивирована его непрозрачностью («Приглашение на казнь»), вся жизнь, все сознание и мироощущение Гумберта Гумберта — страстью к девочке-подростку («Лолита»), то характер гроссмейстера Лужина («Защита Лужина») сформирован логикой шахматной игры, которая заменила ему реальность. Первой и истинной действительностью для него является пространство шестидесяти четырех клеток.
В подобных принципах мотивации характера проявляется важнейшая черта концепции человека, предложенной русским модернистским романом XX в. Отношения между героем и действительностью оказываются искривленными и алогичными. Герой, вглядываясь в реальную жизнь, будь то жизнь социальная или сугубо частная, пытается постигнуть ее — и не может сделать этого. Возникает характерный мотив бегства от враждебного, чуждого, алогичного мира. Поэтому защита, которую пытается выработать Лужин, направлена не только на организацию противодействия а гаке белых фигур, но и на противодействие реальности, пугающей и отталкивающей, втягивающей в себя каждого человека без изъятия — даже вопреки его воле.
Здесь возникает закономерность, осмысленная литературой XX в. Если герой классической литературы мог уйти от взаимодействия 210
с историческим временем, как это с успехом делают, например, герои «Войны и мира» Берги, Курагины, Друбецкие, и лишь немногим удается совместить опыт своей частной жизни с большим временем истории, то для литературы XX в., начиная с Горького, вовлеченность каждого в круговорот исторических событий является фактом непреложным. В этом — отражение самого века, и у Набокова эта закономерность выявляется ни с чуть не меньшей остротой и драматизмом, чем в реалистическом романе Горького. Мало того, это становится своего рода эстетическим принципом романного жанра в русской литературе нашего века.
Вспомним еще раз, как, размышляя о композиции своего будущего романа, отец Лужина, посредственный писатель, формулирует, тем не менее, эстетический принцип жесткой и далеко не всегда желанной взаимосвязи личности и исторического процесса. «Теперь, почти через пятнадцать лет, — размышляет он в эмиграции, — эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения... С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя»225.
Однако именно к этому стремится шахматист Лужин: остаться вне действительности, не заметить ее, подменить гармонию жизни гармонией шахматных ходов. Реальность: мир, свет, жизнь, революция, война, эмиграция, любовь — перестает существовать, смятая, вытесненная, разрушенная атакой белых фигур. Мир обращается в мираж, в котором проступают тени подлинной шахматной жизни гроссмейстера Лужина: в гостиной на полу происходит легкое ему одному заметное сгущение шахматных фигур — недобрая дифференциация теней, а далеко от того места, где он сидит, возникает на полу новая комбинация. Происходит своего рода редукция действительности: гармония природы вытесняется гармонией неизбежных и оптимальных ходов, обеспечивающих великолепную защиту в игре с главным противником Лужина гроссмейстером Турати, и игра теряет свои очертания, превращается в
225 Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 43-44.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
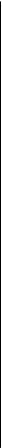

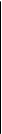
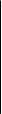
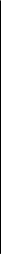
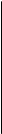
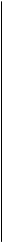

 саму жизнь, все более и более напоминающую сложнейший и исполненный драмами мир шестидесяти четырех клеток. Объясняясь СО своей любимой, «он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что ной липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот (елеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил»226.
саму жизнь, все более и более напоминающую сложнейший и исполненный драмами мир шестидесяти четырех клеток. Объясняясь СО своей любимой, «он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что ной липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот (елеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил»226.
«Защита Лужина» — сложный роман-метафора, насыщенный множеством смысловых оттенков. Это шахматная защита черных фигур перед сокрушительной атакой белых. Но это и защита, вернее, безуспешные поски этой защиты, от разрушительного натиска действительности, стремление отгородиться от непонятного и страшного мира шахматной доской, свести его законы к законам коней, королей, пешек. Увидеть в хитросплетениях жизни комбинации фигур, повтор разнообразнейших сочетаний.
И жизнь принимает законы шахмат, навязанные ей гроссмейстером Лужиным, — но тем страшнее месть действительности за попытку уйти, спрятаться в келье турнирного зала. Истерзанный и раздавленный схваткой с Турати, герой Набокова бросает шахматы, — но реальность, это некое мистическое для модерниста начало, уже не принимает правил игры иных, чем те, что были ей навязаны ранее, и Лужин вдруг с ужасом замечает в самых обычных, бытовых, казалось бы, вещах и событиях неудержимую атаку реальной жизни, с неумолимым повторением в ней шахматных \одов, с неумолимой математической логикой игры, которая, являясь суррогатом мира, не прекращалась ни на минуту. И против •той атаки защита Лужина оказалась бессильной! «Игра? 1-Аы будем играть?» — с испугом и ласково спрашивает жена за несколько минут до самоубийства Лужина, не подозревая об этой нескончаемой, изматывающей игре своего мужа, затеянной им против самой действительности. И положение человека, вступившего в эту игру, трагично: Набоков находит великолепный образ, чтобы показать эту трагедию: в жизни, во сне и наяву «простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался а неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных». Так выглядит у писателя человек, который не в силах всту-пи 11. в диалог с действительностью, понять и принять ее, запутанную как никогда. Набоков таким образом подходит к той пробле-
матике, что была осмыслена Горьким в четырехтомной эпопее «Жизнь Клима Самгина», самом сложном и загадочном его романе. В обоих случаях в центре оказывается герой, страшащийся жизни, бегущий от нее, стремящийся спрятаться от тлетворных влияний действительности — за «системой фраз», как Самгин, за шахматной доской, как Лужин...
Разумеется, Лужин не Самгин, он по-детски откровенен и беспомощен, он по-детски предан игре. Эти герои сталкиваются с совершенно разными жизненными историческими ситуациями и на совершенно различных основаниях приходят к отторжению действительности. Но в типологическом, отвлеченном плане совпадения есть.
Композиция модернистского романа: «Египетская марка» О. Мандельштама
Объясняя исторические и эстетические закономерности организации прозаического текста по законам импрессионистической эстетики, Мандельштам писал: «Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся — ткань, морфология»227. В этой статье, опубликованной в 1922 г., Мандельштам иронизирует над такими складывающимися чертами импрессионистической прозы, как эклектизм, отсутствие сюжетной организации текста, а главное — непроявленность авторской поэзии: «Проза ничья. В сущности, она безымянна». В поэтике романа Б. Пильняка, которая осознавалась как наиболее характерная для новой русской прозы, претендующая на господство, Мандельштам не принимает прежде всего особого, чисто «пильняковского» типа взаимоотношений автора и действительности: «редукцию» образа автора, затушевывание повествователя, лишение его активной роли в сюжете, права на вторжение в текст, отсутствие прямого, а то и косвенного выражения
''" Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 56.
227 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы//0. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987. С. 199.
■■■
Модернизм
Композиция модернистского романа...


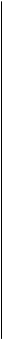

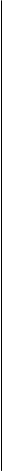

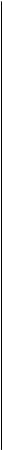
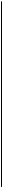

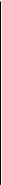
 в шорской позиции. Мандельштама не устраивает, в первую очередь, то, что Пильняк отказывается от введения в повествование единого идеологического центра — четко выраженной в образе повествователя авторской позиции (в импрессионистическом романе дистанцированность позиции автора от позиции повествователя маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т.е. собиратеями... Всякий настоящий прозаик — именно жлектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. — Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе...
в шорской позиции. Мандельштама не устраивает, в первую очередь, то, что Пильняк отказывается от введения в повествование единого идеологического центра — четко выраженной в образе повествователя авторской позиции (в импрессионистическом романе дистанцированность позиции автора от позиции повествователя маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т.е. собиратеями... Всякий настоящий прозаик — именно жлектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. — Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе...
Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип бе илмянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид»228.
Такая роль — роль скромного фараонова надсмотрщика за возведением гигантских социальных пирамид — никак не устраивала Мандельштама. В романе «Египетская марка» он создает такой вариант импрессионистической эстетики. В ней сознание повествователя оказывается не только способом организации повествования, единственным стержнем которого являются причудливые ассоциативные связи, но и идеологическим центром, с активно выраженной этической и нравственной позицией художника.
Жанровое определение «роман» с трудом подходит к «Египетской марке»: разорванность композиции, чередование ярких цветовых мазков, мелькание эпизодов петербургской улицы и домашней жизни, хаоса иудейства и гармонии европейской столицы, подчиненное ассоциативным связям воспринимающего сознания, — все эти непременные элементы импрессионистической по-этики, скорее, затрудняют проявление романического аспекта жанрового содержания, связанного с изображением частной судьбы личности, развернутой во временном потоке. И все же есть основания говорить о «Египетской марке» как о романе: предметом изображения здесь является воспринимающее сознание, что объясняет близость композиционной структуры романического текста к поэтическим принципам организации повествования: судьба личности, ее частная жизнь раскрывается не в сюжете, но в ассоциа-гивных сцеплениях субъективной памяти повествователя — автора — главного героя.
Говорить о дистанции между позицией автора и повествователя не приходится (повествователь прямо, декларативно выражает авторские взгляды), дистанция же между автором и героем, Пар-ноком, еврейским мальчиком в лакированных ботинках, которого не любят городовые, учителя, молоденькие девушки, товарищи по учебе, трудно уловима и для самого Мандельштама: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него»229. Такая неопределенность отношений между повествователем и героем (они все время как бы сливаются в тексте романа) определена схожестью их нравственных позиций, неприятием насилия и убийства (сцена самосуда, еврейского погрома, безрезультатная попытка спасти обреченного), отношением к Петербургу, к книжной культуре, театру.
Личностная субъективность как важнейший эстетический принцип организации как поэтического, так и прозаического текста открыто декларируется Мандельштамом, причем подробно обосновывается необязательность и случайность композиционных сочленений фрагментов текста, его лоскутность и мозаичность, обусловленная единственно прихотью воспринимающего сознания. Мировоззрение художника-импрессиониста, по мысли повествователя, основывается на принципиальном неразличении жизни и литературы, на их свободном перетекании друг в друга; между тем и другим нет четкой границы, а потому жизнь можно читать как книгу, а писать книгу так же просто и сложно, как жить. Категории литературы переносятся в повседневное бытие. «Страшно подумать, — размышляет герой, — что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнционного бреда.
Розовоперстая аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как прянчики, с пустыми, разинутыми клювами. Между тем, во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар; когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелу-шенье афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без вожака, рожденное для сонатных беспамятств, и кипяченой воды...
Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками... и летят в под-
.4 1
228 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы. С. 199-200.
229 Мандельштам О. Египетская марка. Л., 1928. С. 40. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
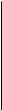
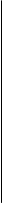

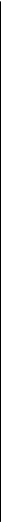

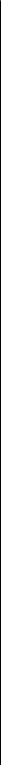

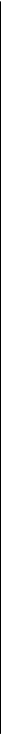
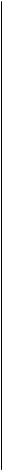 ставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста» (С. 65-66).
ставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста» (С. 65-66).
Эстетическая программа фрагментарной, разорванной поэтики, подчиненной прихоти индивидуального сознания, наносящего импрессионистические мазки на романное полотно, воспринимается как достаточно необычная своей обнаженностью в «Египетской марке». Это заставляет автора прямо декларировать свой прием, обнажать творческую лабораторию, подчеркивая, что за этим скрывается не только видение мира, характерное для взгляда импрессиониста, но и особые отношения между искусством и действительностью, миром художественным и реальным: их принципиальная не-разделенность, свободное перетекание одного в другое.
«Я не боюсь бессвязностей и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей» (С. 41).
После такого обнажения приема, почти лирического объяснения в любви к «бессвязностям и разрывам», совершенно логично — по логике импрессионистического романа — следует рассказ о том, как в доме боялись копоти керосиновых ламп, и в этом штрихе проявляется жизнь петербургской квартиры, ее особый запах, колорит, то, что сам поэт называл «хаосом иудейства».
Тот тип сознания, который является предметом изображения в романе, принципиально изменяет общепринятый масштаб событий, явлений, вещей. Хвойная веточка, вросшая в глыбу донного льда, разрезанного на кубы, замеченная мельком на подводе петербургского извозчика, чад керосиновых ламп, пропавшая жилетка, сцена самосуда толпы — все эти явления как бы уравнены в сознании повествователя, образуют для него общую картину бытия, и утрата одного из них была бы воспринята как утрата целостности. Такая субъективность обосновывается как эстетический принцип организации романного текста по принципам поэтическим и утверждается как единственно возможный способ наиболее достоверного выражения действительности:
«Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту.
Рыбий жир — смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга.
Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир» (С. 56).
Здесь и стремление выразить правду субъективного восприятия (такая-то правда как раз абсолютна), и обязательное для импрессиониста внимание к оттенкам красок, и аллитерация, столь характерная для Мандельштама-акмеиста.
Еще М. Пруст, основоположник импрессионистического романа, сделал законы субъективной памяти организующей основой романа, цементирующей его композиционную структуру, обеспечивающей композиционное единство импрессионистического произведения. Это привело к трансформации художественного времени в романе: повествователь как бы скользит по времени, свободно перемещается в художественном пространстве между прошлым и будущим; действительным, настоящим временем романа становится «утраченное время», время прошлого, пережитого. Конечно, в «Египетской марке» удельный вес «утраченного времени» несравнимо меньше, чем в прустовском романе, но его присутствие является, вероятно, характерным признаком импрессионистической эстетики. Мандельштам вводит прошедшее время в свой роман и переживает его почти в прустовской манере, любовно вглядываясь в оттенки цвета, осязая предметы, вдыхая запахи:
«Чтобы успокоиться, он обратился к одному неписанному словарику, вернее — реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:
— «Подкова» — так называлась булочка с маком.
— «Фрамуга» — так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля.
— «Не коверкай» — так говорили о жизни.
— «Не командуй» — так гласила одна из заповедей.
Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев» (С. 63).
Но помимо чисто прустовского внимания к «щепотке на заварку», когда высохший листочек чая, распрямляясь в горячей воде, может вызвать целую цепь ассоциаций, развернуть целый сюжет в сознании героя, прошедшее время в романе Мандельштама — это еще и время историческое. Этот аспект «утраченного времени» связан, в первую очередь, с темой Петербурга.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
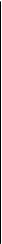

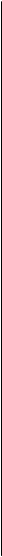

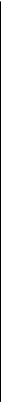

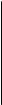
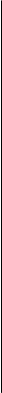
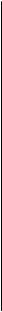

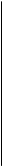 Образ Петербурга становится одним из лейтмотивов повествования, что вообще характерно для орнаментальной прозы: лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Этот образ создается по сугубо импрессионистическим принципам: воспринимающее сознание повествователя как бы аккумулирует грани предшествующей литературной традиции в трактовке Петербурга и накладывает его на современность, на живой образ города, при этом образ субъективен и подчинен только взгляду героя. Кроме того, именно взгляд художника-импрессиониста, для которого, кроме того, культурный и литературный, книжный мир не менее, а то и более реален, чем камни, мостовые, набережные, здания Петербурга, находит такой ракурс, при котором действительный и вымышленный города как бы сливаются, подчиненные воспринимающему сознанию — сознанию, способному соединить два образа — реальный и культурный, историко-литературный. На улицах Петербурга в «Египетской марке» появится и пушкинская пиковая дама, образ которой снижен «ботиками Петра Великого» и бессвязным бормотанием, и повествователь, совсем как пушкинский Евгений в «Медном всаднике», бросит в лицо не то царю, не то его творению:
Образ Петербурга становится одним из лейтмотивов повествования, что вообще характерно для орнаментальной прозы: лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Этот образ создается по сугубо импрессионистическим принципам: воспринимающее сознание повествователя как бы аккумулирует грани предшествующей литературной традиции в трактовке Петербурга и накладывает его на современность, на живой образ города, при этом образ субъективен и подчинен только взгляду героя. Кроме того, именно взгляд художника-импрессиониста, для которого, кроме того, культурный и литературный, книжный мир не менее, а то и более реален, чем камни, мостовые, набережные, здания Петербурга, находит такой ракурс, при котором действительный и вымышленный города как бы сливаются, подчиненные воспринимающему сознанию — сознанию, способному соединить два образа — реальный и культурный, историко-литературный. На улицах Петербурга в «Египетской марке» появится и пушкинская пиковая дама, образ которой снижен «ботиками Петра Великого» и бессвязным бормотанием, и повествователь, совсем как пушкинский Евгений в «Медном всаднике», бросит в лицо не то царю, не то его творению:
«Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына! За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку «драже» в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянского собрания ответишь ты, Петербург!» (С. 49).
Петербург — это и улицы, набережные, по которым ведут на самосуд случайного прохожего, и прочитанная в чертах реального пейзажа литературная традиция, и даже судьбы разночинцев-шестидесятников, от которых герой Мандельштама (да и сам автор) ведут свою родословную.
«Вот только одна беда — родословной у него нет, — размышляют вместе Парнок и повествователь. — И взять ее неоткуда — нет и все тут! Всех-то родственников у него одна тетя — тетя Иоганна.
Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной, позвольте, как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым «мог Господь прибавить ума и денег». Все это люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос. — Как же это? Без гроша, с высшим образованием?
Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачим, гагаринским пухом, под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под хрустальными замками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.
Но перо, снимающее эту пленку — как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться» (С. 61-62).
В сознании героя, в его восприятии Петербурга воплощается психология разночинца, человека 1840-1850-х годов, его неприятие и подспудный страх перед аристократией, «гагаринским пухом», «Тучковыми тучками», зеркалами барских квартир; он ощущает свое родство не только с Голядкиным, но и Евгением, которому «мог Господь прибавить ума и денег» — отсюда и вызов Петербургу, и такие крохотные детали, как драже в бумажном мешочке у курсистки на хорах, и бессвязный говор «каменной дамы». Все эти разномасштабные детали в импрессионистической прозе обретают один масштаб, уравниваются в сознании, становятся принципиально равноправными, скрепленные прихотливыми законами воспринимающего сознания.
Мандельштам предельно точно описывает принципы импрессионистической эстетики, исходя из которых строит свой роман. «На побегушках у моего сознания два-три словечка «и вот», «уже», «вдруг»; они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящие сковороды.
Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанию французского мужичка из Анны Карениной, железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столбе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности» (С. 67-68).
Так не заботится о красоте и округленности автор «Египетской марки», работая «бредовыми частичками», соединяя двумя-тремя словами, что на побегушках его сознания, разные эпизоды действительности, связывая «скобяными предлогами» цветовые мазки Петербурга, соединяя «инструментами сцепщика» несопоставимые, казалось бы, эпизоды. Это единственная возможность сохранить композиционную целостность романа: ведь четкого контура, противостоящего цветовым мазкам, художник-импрессионист не знает.
Модернизм
Экспрессионистические тенденции
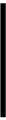
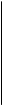


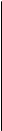
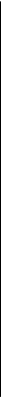

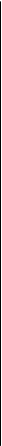



 Экспрессионистические тенденции
Экспрессионистические тенденции
Внутри модернизма в прозе 20-х годов рядом с импрессионизмом, активно взаимодействуя с ним, развиваются литературные тенденции, достаточно разнообразные по своим творческим и идеологическим устремлениям, определенная схожесть между которыми, тем не менее, позволяет условно объединить их под именем экспрессионистических.
О значении экспрессионистических тенденций в этот период свидетельствует их наличие в творчестве М. Горького («Рассказ об одном романе», «Карамора»), молодого В. Каверина («Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», рассказы первой половины 20-х годов), Ю. Тынянова («Восковая персона», «Подпоручик Киже»), А. Грина («Канат», «Крысолов», «Серый автомобиль», другие рассказы). Повести М. Булгакова «Дьяволиада», «Собачье сердце», «Роковые яйца» тоже представляют один из вариантов экспрессионистической эстетики, характеризующей литературную эпоху. Роман Ю. Олеши «Зависть» и его роль в литературном процессе тех лет показывают, сколь перспективна была подобная эстетическая система для решения важных, а подчас и трагических коллизий эпохи.
Что связывает этих художников, что позволяет поставить их произведения в один общий ряд? Прежде всего, наиболее общие принципы отображения действительности, приведшие к экспрессионистической эстетике или обусловившие появление ее черт в творчестве этих и многих других писателей.
Необходимо подчеркнуть, что экспрессионистическая эстетика или важнейшие ее элементы не были открытием художественной культуры XX в., подобно тому как элементы импрессионизма Вельфлин обнаружил в живописи Рембрандта и осмыслил как закономерное явление в развитии мирового искусства. Экспрессионизм тоже должен быть понят в более широком контексте, нежели оформившиеся теоретически течения в модернистском искусстве начала века. Наиболее близкой нам в хронологическом и духовном плане литературной традицией, несущей в себе элементы экспрессионистической эстетики, является творчество Н. Гоголя, автора «Носа» и «Портрета», В. Одоевского, А. Вельтмана, М. Салтыкова-Щедрина («Сказки», «История одного города»). Эту связь с классической традицией осознавали и писатели, о которых мы ведем речь: «Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"», — писал уже позднее, в
 2014-02-17
2014-02-17 430
430








