(вместо заключения)
Некоторые итоги
В основном предметом размышлений в этой книге были два десятилетия: 1920-1930-е годы. Конечно же, мы с неизбежностью обращались и к более раннему периоду (началу века) и к последующему — вплоть до 1940-1950-х годов, когда, с одной стороны, политическое давление на литературу и любые другие сферы гуманитарной мысли достигло своего апогея, с другой — советская партийно-государственная политика практически исчерпала себя, оставаясь целиком в рамках прежней историко-культурной парадигмы, созданной в 30-е годы. Именно на переломе века — и хронологическом, и историко-культурном — в недрах литературного процесса формируется идеология эстетического и философского противостояния соцреалистическому канону. В качестве примера подобного противостояния можно рассматривать роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».
А что же было потом? Какое развитие получили те социокультурные тенденции, воплощение которых на уровне литературного процесса мы попытались описать? Как сложилась историческая судьба массового человека? Как продолжалось (и продолжалось ли) эстетическое бытие химерической культурной конструкции соцреализма? Как складывались судьбы собственно реалистической и модернистской эстетики? Как все это отразилось в конкретном литературном творчестве?
Положение массового человека, ощущавшего себя гегемоном революции и хозяином национальной исторической жизни в 20-е годы (бытие его отражено М. Булгаковым в «Собачьем сердце»; пороки, легко поддающиеся манипуляции О. Бендеру, показаны в «Двенадцати стульях»; наивная философия вскрыта М. Зощенко в рассказах и повестях 20-х годов, а бытийный трагизм — А. Плато-
Преодоление раскола
Некоторые итоги

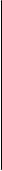
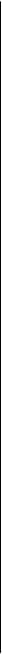
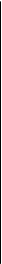
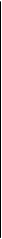
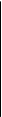
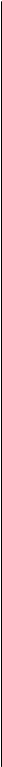 новым в романах «Котлован» и «Чевенгур»), к середине 30-х годов меняется. Мнимая власть, которой он якобы обладал над историей и культурой, концентрируется в руках партии, а затем и в руках ее лидера, И. В. Сталина. Он и становится главным «художником» советской эпохи, единым автором «монументального стиля», создающегося в рамках «Культуры Два». Но время от времени массовому человеку предоставляли возможность вновь испытать иллюзию сотворчества и сопричастности власти: главным образом в политических кампаниях травли писателей, где ему предоставлялась возможность выступить в жанре обличительного письма на газетной полосе. Классическим образчиком такого выступления стало «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.», опубликованное в газете «Социалистическая индустрия» в 1969 г. и направленное против либерального курса к тому времени оставшегося в полном одиночестве советского «оттепельного» журнала. Фразеологическим оборотом, вошедшим в современный русский язык, стала фраза массового человека «не читал, но осуждаю», произнесенная во время кампании травли Б. Пастернака и его романа «Доктор Живаго», удостоенного Нобелевской премии. Массовому человеку вообще удавалось говорить лапидарно. Вероятно, последним его афоризмом стала фраза «не могу поступиться принципами», произнесенная в начале горбачевской перестройки. Однако его роль в социокультурной ситуации последующего времени несопоставима с той, которую ему довелось сыграть в 20-е годы.
новым в романах «Котлован» и «Чевенгур»), к середине 30-х годов меняется. Мнимая власть, которой он якобы обладал над историей и культурой, концентрируется в руках партии, а затем и в руках ее лидера, И. В. Сталина. Он и становится главным «художником» советской эпохи, единым автором «монументального стиля», создающегося в рамках «Культуры Два». Но время от времени массовому человеку предоставляли возможность вновь испытать иллюзию сотворчества и сопричастности власти: главным образом в политических кампаниях травли писателей, где ему предоставлялась возможность выступить в жанре обличительного письма на газетной полосе. Классическим образчиком такого выступления стало «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.», опубликованное в газете «Социалистическая индустрия» в 1969 г. и направленное против либерального курса к тому времени оставшегося в полном одиночестве советского «оттепельного» журнала. Фразеологическим оборотом, вошедшим в современный русский язык, стала фраза массового человека «не читал, но осуждаю», произнесенная во время кампании травли Б. Пастернака и его романа «Доктор Живаго», удостоенного Нобелевской премии. Массовому человеку вообще удавалось говорить лапидарно. Вероятно, последним его афоризмом стала фраза «не могу поступиться принципами», произнесенная в начале горбачевской перестройки. Однако его роль в социокультурной ситуации последующего времени несопоставима с той, которую ему довелось сыграть в 20-е годы.
Иначе сложилась судьба социалистического реализма. За два десятилетия (середина 1930-х — середина 1950-х) сформировался соцреалистический канон, «Культура Два», монументальный стиль, реализовавшийся не только в литературе, но и в кинематографе, музыке, архитектуре. Рассмотрение его с идеологической точки зрения явно недостаточно, ибо идеология, вызвавшая его к жизни, уже принадлежит истории и возрождение ее в прошлом варианте, как кажется, вряд ли возможно. Его омертвение началось в середине 50-х годов, а завершилось в 80-е. Поэтому сейчас актуально обращение к нему с точки зрения эстетической, чем и занимаются исследователи соцреалистического канона — в основном зарубежные или же наши, работающие в западных университетах. Думается, что это величественное, мрачное и в то же время оптимистическое, изощренное и одновременно наивное явление ждет своего отечественного исследователя.
Своей неимоверной тяжестью оно придавило все остальное. Лишь во второй половине прошлого века художественное и фило-238
софское сознание стало воскресать после анабиоза, вспоминая, что было раньше: демократическую идею («Новый мир» 1960-х годов), русскую национальную идею («Наш современник» 1970— 1980-х годов). Оба направления при своей трагической для литературы этого периода оппозиционности были устремлены, в итоге, к общей цели: они воссоздавали в новых, постсталинских условиях забытые и утраченные стороны русской культуры и русского сознания. Оба направления, представляемые этими журналами, стояли на реалистических позициях. С их деятельностью связано появление и эстетико-философское осмысление таких явлений русской литературы второй половины XX столетия, как деревенская проза, а также военная, городская, лагерная проза. Разногласия, политико-идеологические, эстетические, личные, существовавшие между интеллигенцией, приверженной тому или иному направлению, сейчас, из исторической перспективы, кажутся малозначительными. Виднее сходство: огромна их роль в возрождении русской литературы и русского сознания, пусть и разных его сторон, которые тогда писателями и журналистами мыслились как взаимоисключающие.
Становление послесталинской литературы вполне естественно шло по реалистическому пути: А. Солженицын, Ю. Трифонов, В. Распутин, В. Астафьев, Ю. Бондарев, С. Залыгин... Однако реалистическая литература, сконцентрированная на социально значимом, не могла уловить те стороны жизни человека, которые были обусловлены не социальными, а какими-то иными сторонами бытия, часто подсознательными, неосознаваемыми или непознанными, иррациональными, мистически предопределенными, которые нуждались в своем воплощении с точки зрения опыта второй половины XX столетия. Ведь этот опыт показал и ограниченность научного знания, его неокончательность и, возможно, неподлинность; он показал, что мистическое и иррациональное пронизывают нашу жизнь и наука бессильна утвердить или опровергнуть сам факт их существования. На смену реалистическому взгляду, обращенному к рационально постижимым процессам, в последней трети XX в. пришел взгляд иной, часто утверждающий отказ от рациональной постижимое™ человеческого бытия. Это был шаг русской литературы конца XX в. в сторону модернистской эстетики. Началом такого освоения мира стали 80-е годы, проза сорокалетних, творчество В. Маканина, утверждающего иррациональные основы бытия («Где сходилось небо с холмами») и неомифологический роман А. Кима («Белка», «Отец лес»).
Завершил же столетие постмодернизм, разрушивший все эсте-тико-идеологические каноны, созданные последними двумя сто-
Преодоление раскола
Некоторые итоги
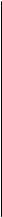
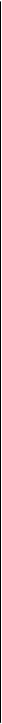

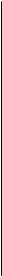
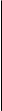
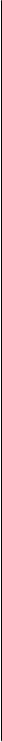
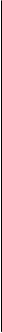 летиями (В. Сорокин), и осмысляющий современность сквозь призму сознания человека, дезориентированного в обломках прошлых эпох, среди которых и протекает жизнь современного человека (В. Пелевин). Реалистическая эстетика оказалась вытесненной.
летиями (В. Сорокин), и осмысляющий современность сквозь призму сознания человека, дезориентированного в обломках прошлых эпох, среди которых и протекает жизнь современного человека (В. Пелевин). Реалистическая эстетика оказалась вытесненной.
И это, думается, тоже неслучайно. На протяжении последней четверти века, а в последние десять лет — все более и более явно разрушались традиционные для русской литературы последних двух столетий отношения в системе «читатель — писатель». Современная русская культура на наших глазах резко меняет свои очертания. Изменился статус литературы: русская культура перестала быть «литературоцентричной».
Перед ныне живущими поколениями русских людей, привыкших видеть в литературе одну из самых важных форм общественного сознания, подобная ситуация может предстать как драматическая. Новый писатель, пришедший в литературу в 1990-е годы, часто не только не может, но и не хочет предстать реалистом, следовательно, мыслителем, всерьез озабоченным ролью человека в историческом процессе, философом, размышляющим о смысле человеческого бытия, историком и социологом, ищущим истоки сегодняшнего положения дел и нравственную опору в национальном прошлом. Если все эти темы и остаются, то в заниженном, комическом, переосмеянном варианте, как, к примеру, у В.Пелевина, в его романах «Жизнь насекомых» или «Чапаев и пустота». Роль писателя как учителя жизни на глазах оказалась поставлена под сомнение. В самом деле, чем писатель отличается от других? Почему он должен учительствовать? Поэтому читателями, традиционно рассматривавшими литературу как учебник жизни, а писателя — как «инженера человеческих душ», нынешнее положение осмысляется как ситуация пустоты, своего рода культурного вакуума.
Масштабы подобного можно себе представить особенно наглядно, если вспомнить, что два последних столетия, начиная с пушкинской эпохи, русская культура была именно литературо-центрична: словесность, а не религия, философия или наука, формировала национальный тип сознания, манеру мыслить и чувствовать.
В результате литература сакрализировалась, стала священным национальным достоянием. Формулы «Пушкин — наше все» или «Пушкин у нас — начало всех начал» определяли место литературы в национальной культуре и место писателя в обществе.
Но естественна ли была сакрализация литературы? Ее культ в сознании русской интеллигенции? Возможно, нет — ведь хотим
мы того или не хотим, русская литература XIX и XX вв. приняла на себя функции, вовсе не свойственные словесности. Она стала формой социально-политической мысли, что было, наверное, неизбежно в ситуации несвободного слова, стесненного цензурой — царской или советской. Вспомним мысль Герцена: народ, лишенный трибуны свободного слова, использует литературу в качестве такой триуны. Она стала формой выражения всех без исключения сфер общественного сознания — философии, политики, экономики, социологии. Писатель оказался важнейшей фигурой, формирующей общественное сознание и национальную ментальность. Он принял на себя право бичевать недостатки и просвещать сердца соотечественников, указывать путь к истине, быть «зрячим посохом» народа. Это означало, что литература стала особой формой религии, а писатель — проповедником. Литература подменила собой Церковь...
Подобная ситуация, сложившаяся в XIX в., стала особенно трагичной в XX столетии, в условиях гонения на Церковь. Литература оказалась храмом со своими святыми и еретиками, тексты классиков стали священными, а слово писателя могло восприниматься как слово проповедника. Литература как бы стремилась заполнить нравственный и религиозный вакуум, который ощущало общество и его культура. Но беда в том, что слово художника — не слово пастыря. Ничто не может заменить обществу Церковь, а человеку — слово священника. Литература, взяв на свои плечи непосильную ношу, «надорвалась» к концу века. Фигура писателя — учителя жизни оказалась вытеснена еретиком — постмодернистом. Отсюда и трагическое для общества ощущение утраты последней веры и культурного вакуума, который раньше заполняла литература — в ней находили ответы на «проклятые вопросы», она формировала общественное сознание, давала ориентиры движения в историческом потоке, определяла перспективы и указывала на тупики, являла образцы подвижничества или нравственного падения. Именно в литературе XIX столетия сформировались национально значимые образы, своего рода архетипы национальной жизни, такие, как «Обломов и обломовщина», «тургеневские девушки», «лишние люди» Онегин и Печорин. В XX в. ситуация почти не изменилась. Достаточно вспомнить широкие образы-символы, пришедшие из литературы в нашу жизнь в 80—90-е годы: «Манкурт» Ч. Айтматова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Пожар» В. Распутина, «Покушение на миражи» и «Расплата» В. Тендрякова — и «Раковый корпус», «Красное колесо», «Шарашка»,
16-4063
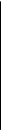 Преодоление раскола
Преодоление раскола
Творчество Л. И. Солженицына как итог столетия

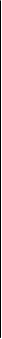
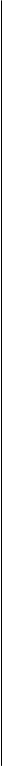
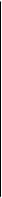

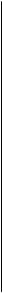

 «Архипелаг» А. Солженицына. Они сложились в своего рода «код» эпохи и стали категориями общественного сознания первой половины 90-х годов. И вдруг, внезапно, молниеносно, меньше чем за десятилетие, литература перестала быть религией, слово писателя — словом духовного пастыря.
«Архипелаг» А. Солженицына. Они сложились в своего рода «код» эпохи и стали категориями общественного сознания первой половины 90-х годов. И вдруг, внезапно, молниеносно, меньше чем за десятилетие, литература перестала быть религией, слово писателя — словом духовного пастыря.
Надолго ли? Думается, что нет. Исторический и культурный опыт XX столетия нуждается именно в реалистическом осмыслении — но с новых позиций. Такие позиции предложены тем типом реализма, который нашел свое воплощение в творчестве А. И. Солженицына.
Творчество А. И. Солженицына как итог столетия
В современной литературе Солженицын — единственная крупная фигура, чье воздействие на литературный процесс будущего века только лишь начинается. Он еще не понят и не осмыслен нами, его опыт не продолжен в современном литературном процессе. То, что это воздействие будет огромным, представляется совершенно несомненным. Во-первых, его творчество отразило важейшие исторические события русской жизни XX в., ив нем содержится глубокое их объяснение с самых разных точек зрения — социально-исторической, политической, социокультурной, национально-психологической. Возможно, что русские люди наступившего века будут изучать национальную историю по его произведениям. Во-вторых (и это самое главное), судьбу России ушедшего столетия Солженицын воспринимает как проявление Божественного промысла, и взгляд на русскую судьбу с мистической точки зрения тоже близок ему. Онтологическая символика в его рассказах, в эпопее «Красное колесо» трактуется как проявление Высшей воли. При этом писатель скрупулезно документален, и сама действительность, воспроизведенная с точностью до мельчайших деталей, обретает глубоко символический смысл, трактуется метафизически240. Это важнейший смысловой аспект его произведе-
240 Некоторые аспекты онтологической проблематики рассказов Солженицына и эпоса «Красное колесо» проанализированы в работе П. Е. Спиваковского «Феномен А. И. Солженицына: новый взгляд» (М., 1999).
ний, что открывает для него путь к синтезу реалистического и модернистского взгляда на мир.
Солженицын начал свой литературный путь в эпоху хрущевской «оттепели». Это был, как сейчас можно предположить, последний этап в развитии русской культуры, когда голос писателя, если воспользоваться лермонтовской строкой, «звучал как колокол на башне вечевой/во дни торжеств и бед народных». Толпы людей собирались у памятника В. Маяковскому слушать молодых поэтов — А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, что трудно представить себе теперь, а имена Вихрова и Грацианского, героев романа «Русский лес» Л. Леонова, были нарицательными. Воздействие писателя на общественное сознание оказалось почти столь же огромно, как во времена некрасовского «Современника». Такая ситуация характеризуется совершенно особыми отношениями в системе «читатель — писатель»: между этими двумя важнейшими фигурами литературного процесса происходит интенсивный взаимообмен идей и настроений. Такие моменты, вероятно, являются наиболее плодотворными для литературы и для общества: обмен мыслительной и эмоциональной энергией, когда появление нового романа или цикла стихов рождает моментальный ответ в виде читательского письма или журнальной рецензии, выводит литературу за рамки явления сугубо эстетического и превращает ее в сферу общественно-политической мысли. На рубеже 50-60-х годов решение собственно художественных задач было подчинено целям иным. Разрушение соцреалистического канона началось с того, что перед обществом и литературой встала проблема самоориентации в потоке исторического времени и художник оказался самой важной фигурой, приступившей к ее решению. Литература перестала быть средством эстетизации действительности и вновь обретала присущие ей функции познания мира.
А. Солженицын был тогда и остался по сей день писателем, стремящимся реализовать возможности прямого воздействия на общество писательским словом. Думается, что и литературное поприще было избрано им как общественная трибуна, с которой можно обратиться к современникам и потомкам. Литературный дар открывал возможность, оставаясь художником, говорить о проблемах политических, как бы балансируя между политикой и художественностью и совмещая их. «Конечно, политическая страсть мне врождена, — размышлял Солженицын уже значительно позже о первых днях своего пребывания на Западе после департации
16*
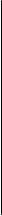
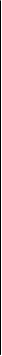 шшяш*
шшяш*
 Преодоление раскола
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
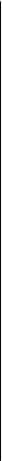

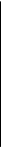
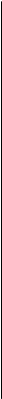
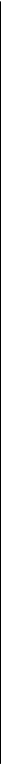 из СССР в 1974 г. — И все-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы»241. Тогда, в начале 60-х, он сумел реализовать возможности, данные короткой оттепелью писателю: заявил о себе, стал известен и заметен и не отступался от самого себя уже никогда. Мало того, сумел укрепить и сделать более значимой роль писателя-проповедника уже в брежневское время, когда и та незначительная свобода слова, что была дана хрущевской оттепелью, урезалась и урезалась с каждым годом.
из СССР в 1974 г. — И все-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы»241. Тогда, в начале 60-х, он сумел реализовать возможности, данные короткой оттепелью писателю: заявил о себе, стал известен и заметен и не отступался от самого себя уже никогда. Мало того, сумел укрепить и сделать более значимой роль писателя-проповедника уже в брежневское время, когда и та незначительная свобода слова, что была дана хрущевской оттепелью, урезалась и урезалась с каждым годом.
Отношения в системе «читатель — писатель», сложившиеся в литературе конца 50-60-х годов, давали Солженицыну возможность прямого обращения к самому широкому читателю и формирования общественного сознания. Это был тот момент, когда читательская аудитория видела (и не ошибалась!) в Солженицыне человека, способного отразить трагическую, запретную и неосмысленную ни в художественном, ни в социально-политическом аспекте правду национальной жизни — и не только лагерную. С самого начала писательского пути Солженицын смотрел шире, вынашивая в своем сознании не только «Архипелаг ГУЛАГ», но и замысел историософского романа о русской революции под условным названием «Р-17», воплотившегося десятилетия спустя в эпопее «Красное колесо». Однако его взгляд вовсе не исчерпывался лишь критикой «культа личности Сталина» или даже всей советской системы. Он смотрел еще шире и дальше: XX век интересовал его как переломный момент русской судьбы. Поэтому на первом месте в его творчестве была все же не проповедническая, а познавательная функция литературы.
Синкретизм как творческая доминанта определяет специфику художественности его произведений. Классический роман (нелюбимое жанровое определение писателя) или повесть не выдерживали чрезмерной смысловой нагрузки, поэтому после «В круге первом» и «Ракового корпуса» Солженицын создает новую крупную жанровую форму, с явным преобладанием документального материала — «Узлы» эпопеи «Красное Колесо». При этом включение в
повествовательную структуру авторской публицистики, прямое выражение авторской позиции по политическим и историософским проблемам, столь не характерное для реалистической русской прозы последних двух столетий, соседствует с традиционными для романиста формами психологического анализа, объектами которого выступают как реальные политические деятели, определявшие судьбы России, так и вполне заурядные граждане.
Русский характер в процессе деформаций
Предметом исследования А. Солженицына стал русский национальный характер в его разных личностно-индивидуальных проявлениях, охватывающих практически все слои русского общества в переломные моменты его бытия: политический Олимп, генералитет, дипломатический корпус, карательные аппараты, служащие разным режимам, советские заключенные, лагерные надсмотрщики, крестьяне антоновской армии, советский партаппарат разных десятилетий... Солженицын прослеживает изменения русской ментальности, показывает процесс мучительной ломки национального сознания. Можно сказать, что русский характер запечатлен им в процессе деформаций.
Эпос Солженицына дает материал для исследования конкретных форм этих деформаций и условий, приведших к ним. Принято считать, что это условия политические. Действительно, трудно найти писателя столь явно политизированного, сделавшего предметом художественного исследования документальное воспроизведение политических событий Августа Четырнадцатого или Апреля Семнадцатого. Но нам представляется, что энциклопедический по объему исторический материал нуждается не только в политическом осмыслении (оно, в частности, предложено самим Солженицыным, не желающим «переваливать работу исследования с автора на читателя»242), сколько в онтологическом и социокультурном. В конечном итоге, в реальных исторических лицах, ставших героями «Красного Колеса», таких как Ленин или Столыпин, и в характерах вымышленных, как Иван Денисович или дипломат Во-


 241 Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания (1974-1978)//Новый мир. 1998. № 9. С. 53-54.
241 Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания (1974-1978)//Новый мир. 1998. № 9. С. 53-54.
242 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: В 3 т. Вермонт; Париж, 1987. Т. 2. С. 607. Далее ссылки на «Архипелаг ГУЛАГ» с указанием тома и страницы даются по этому изданию.
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
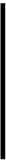
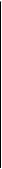
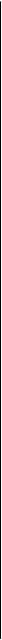

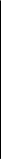

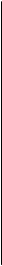
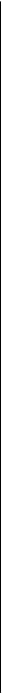 лодин («В круге первом»), Солженицын представляет грани национального характера, сформированного предшествующей историей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности, весь эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал по русской характерологии, требующий научного осмысления со стороны ученых, профессионально связанных с той областью знания, которая определяется как «русская идея».
лодин («В круге первом»), Солженицын представляет грани национального характера, сформированного предшествующей историей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности, весь эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал по русской характерологии, требующий научного осмысления со стороны ученых, профессионально связанных с той областью знания, которая определяется как «русская идея».
«Большевики перекипятили русскую кровь на огне», — приводит А. Солженицын слова Б. Лавренева, — и это ли не изменение, не полный пережог народного характера?!»243 Изменение, совершенное целенаправленно и вполне в прагматических целях: «А большевики-то быстро взяли русский характер в железо и направили работать на себя» («Россия в обвале». С. 170). Очевидно, что одной из самых чудовищных форм «перекипячения» русской крови стал архипелаг ГУЛАГ, выросший из страны и сделавший ее своей частью.
«Архипелаг ГУЛАГ» как опыт художественного исследования включает в себя и эту проблематику — показывает, как перекипала русская кровь. Писатель фиксирует оскудение народной нравственности, проявившееся в озлоблении и ожесточении людей, замкнутости и подозрительности, ставшей одной из доминант национального характера. И находит этому вполне естественные объяснения. Однако для читателя, индивидуальное становление которого пришлось уже на другую эпоху, существуют вещи, оказывающиеся выше разумения.
Одна из них — безусловное нравственное и интеллектуальное превосходство узников Архипелага над надсмотрщиками и тюремщиками. Его населяли лучшие — самые талантливые, самые думающие, не сумевшие или не успевшие усредниться или же в принципе неспособные к усреднению. В чем состояла необходимость селекции худшего и искоренения лучшего? Зачем власти нужна была отрицательная селекция национального характера: «легкое торжество низменных людей над благородными кипело черной вонючей мутью в столичной тесноте, — но и под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях <...> зловонило оно и там» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 596)? В чем истоки этого легкого торжества
243 Солженицын А. И. Россия в обвале. М., 1998. С. 171. Далее ссылки на это издание с указанием страницы даны в тексте.
низменных над благородными? Дает ли Солженицын ответ на этот вопрос?
Кроме того, вглядываясь в контуры Архипелага, очерченные Солженицыным, человек постсоветской эпохи не может не задуматься о бессмысленной изощренности его индустрии и не удивиться вместе с автором: зачем, скажем, нужна была столь многообразная система арестов с их избыточной выдумкой, сытой энергией, а жертва не сопротивлялась бы и без этого: «Ведь кажется достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 1. С. 22). Поражает и заставляет думать бессмысленная, казалось бы, изобретательность тюремщиков, создавших целую науку «тюрьмоведения»; безропотность арестантов 30-х годов. Не перестает удивлять и столь небольшой объем литературы о национальном сопротивлении режиму и почти полная неосмысленность современным литературно-критическим сознанием произведений о сопротивлении, таких как «Белые одежды» В. Дудинцева или «Последний бой майора Пугачева» В. Шаламова. Все факты бессмысленной растраты национальной энергии на создание индустрии ГУЛАГА (изощренность арестов, многообразие этапов, хитроумность «шмонов», садистская изобретательность пыточного следствия и все-все подобное, о чем свидетельствует автор «Архипелага»), существующей для еще более бессмысленной и нерачительной даже с экономической точки зрения растраты народных сил, свидетельствуют о некой национальной катастрофе, национальном поражении разума. Солженицын воспроизводит картину самоуничтожения нации, когда одна ее часть создала индустрию для уничтожения другой ее части, причем машина уничтожения оказалась сильнее ее создателей, захватывая в свои шестерни всех, и их самих в том числе.
Поиски ответа на эти вопросы заставляют обратиться к прошлому. Переживала ли Россия когда-либо нечто подобное? Думается, что да — вспомним Грозного, страшное помело опричнины, выметавшее целые деревни и города. Именно Иван Грозный воздвиг не только страшные застенки, где хозяйничал Малюта Скуратов, но и уничтожил Новгород, превратил палачество в атрибут государственной жизни, собрав вокруг себя целый класс таких же палачей — профессионалов и любителей. А Петр I, строящий на костях Петербург и превращающий в рабов литейных заводов рус-
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций


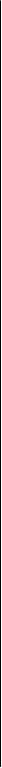
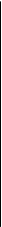
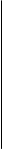

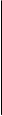
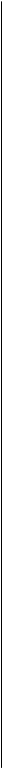 ских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность русской истории с мерцающими в ней эпизодами самоистребления нации — то в великой смуте XVII в. или в гражданской войне нашего столетия, то по прихоти тиранов — Ивана IV, Петра I, Ленина, Сталина. При этом периоды тирании находятся во внутренней связи между собой: их объединяет страшная жестокость, внешняя бессмысленность и мгновенное разделение нации на две группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых личностей из одной группы в другую). При этом периоды национального самоуничтожения сменяются периодами относительной стабилизации, когда народ как бы восстанавливает подорванные силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли опричнины? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха: «советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные потери, — они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство русского народа — может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, что — и навсегда» («Россия в обвале». С. 171).
ских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность русской истории с мерцающими в ней эпизодами самоистребления нации — то в великой смуте XVII в. или в гражданской войне нашего столетия, то по прихоти тиранов — Ивана IV, Петра I, Ленина, Сталина. При этом периоды тирании находятся во внутренней связи между собой: их объединяет страшная жестокость, внешняя бессмысленность и мгновенное разделение нации на две группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых личностей из одной группы в другую). При этом периоды национального самоуничтожения сменяются периодами относительной стабилизации, когда народ как бы восстанавливает подорванные силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли опричнины? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха: «советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные потери, — они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство русского народа — может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, что — и навсегда» («Россия в обвале». С. 171).
Кажется, что Солженицын, рассказывая об Архипелаге и о своем противостоянии Системе, просто воспроизводит один из ритмических тактов русской истории, показывая проявления общего в социальной конкретике нашего столетия. А общим этим оказывается, по словам Солженицына, «селективный противоот-бор, избирательное уничтожение всего яркого, отметного, что выше уровнем», «подъем и успех худших личностей» («Россия в обвале». С. 170—171). Иными словами, если вновь воспользоваться терминологией Л. Гумилева, предметом изображения у Солженицына становится проявление в русской истории «антисистемы — системной целостности людей с негативным мироощущением, выработавшей общее для своих членов мировоззрение», стремящейся к упрощению Бытия вплоть до его уничтожения, что создает «характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и неприкаянности». Формируется «система негативной экологии», стремящаяся к «аннигиляции культуры и природы».
Творчество Солженицына представляет собой антологию сложившейся в советское время антисистемы. «Архипелаг ГУЛАГ» являет опыт художественного исследования механизма этой антисистемы и ее эволюции.
Если принять подобную точку зрения, то она может объяснить сознание тех, кто властвовал Архипелагом, кто положил свою жизнь на то, чтобы быть надсмотрщиками над аборигенами
ГУЛАГа, выбравши добровольно «псовую службу» — лагерщиков. В результате целенаправленной селекции этого слоя и создавалось у них химерическое сознание, которое Гумилев мог анализировать в тех же условиях, что и Солженицын — в ГУЛАГе. «Пострадало от них# — пишет Солженицын, — миллионов людей куда больше, чем от фашистов, — да ведь не пленных, не покоренных, а — своих соотечественников, на родной земле. Кто нам это объяснит?» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 496).
Но вопрос в том, как был создан миллионный «кадр» палачей, портреты которых мы находим у Солженицына. В способности нации создать его и поставить на службу антисистеме, отлившейся в карательные формы тоталитарного государства, тоже, вероятно, проявляется некая историко-культурная закономерность, как бы свидетельствующая о готовности нации к самоистреблению.
Архипелаг, описанный Солженицыным, стал квинтэссенцией русского варианта господства массового человека, тотального унижения всего индивидуального и неравного массе. Описывая черты психологического склада людей, служащих ГУЛАГу, в их иерархии от полковника и ниже («может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? <...> вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь?» (Т. 2. С. 494), Солженицын воспроизводит характер массового человека, четко структурированный Ортегой. Его господство в лагере и в государстве обусловлено отрицательной селекцией (черта антисистемы): «у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умственный — у них сходство характеров разительное» (Т. 2. С. 497): спесь и самодовольство, тупость и необразованность, самовластие и самодурство, ощущение лагеря вотчиной, а заключенных — своими рабами, а себя — пролетарием. Формы государственного бытия и бытия ГУЛАГа (а это, как показывает Солженицын, явления вполне смежные) есть одно из проявлений химеры, возникшей в результате культурной аннигиляции.
Алогизм, беззаконие и бессмысленность (нравственная, экономическая — любая) геноцида против собственного народа были не только результатом злой воли Ленина и Сталина и не результатом деятельности партии, т.е. сравнительно небольшой группы людей, направленной против подавляющего большинства народа, а итогом не вполне осознанных пока закономерностей националь-
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций


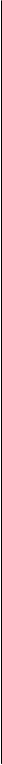
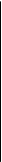


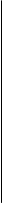
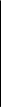

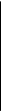
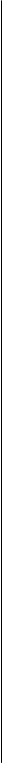 ного исторического развития, выразившегося в создании химерической культурной конструкции и конечном торжестве антисистемы. Мы попытались показать, что к ее возникновению привело трагическое столкновение двух русских субкультур.
ного исторического развития, выразившегося в создании химерической культурной конструкции и конечном торжестве антисистемы. Мы попытались показать, что к ее возникновению привело трагическое столкновение двух русских субкультур.
Однако в творчестве А. Солженицына содержится и другое объяснение тех явлений, о которых мы пытались размышлять. И ГУЛАГ, и господство массового человека как явление европейской (а не только русской) истории XX в. объясняется писателем гуманистическими идеями, пришедшими из эпохи Возрождения и исказившими представления о смысле человеческого бытия.
Как одно из самых больших заблуждений современной цивилизации писатель трактует гуманистические идеи, восходящие к ренессансной эпохе и высшей ценностью мира, центром мироздания, целью развития вселенной утверждающие человека. «Мерою всех вещей на земле оно (гуманистическое мировоззрение. — М. Г.) поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков»244. Такие идеи видятся Солженицыну как антирелигиозные, несовместимые с христианским мировоззрением, умножающие гордыню человека и человечества. Такое миросознание «может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической автономностью — провозглашенной и проводимой автономностью человека от всякой высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке как о центре существующего». Это привело к тому, что гуманистическое сознание «не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями. За пределами физического благополучия и накопления материальных благ все другие, более тонкие и высокие, особенности и потребности человека остались вне внимания, <...> как если бы человек не имел более высокого смысла жизни» (Публицистика. Т. 1. С. 324).
Современному человеку, русскому или же западноевропейцу, воспитанному на просвещенческих идеалах, определяющих систему его ценностей на протяжении последних трехсот лет, практически невозможно смириться с мыслью, что не его счастье и не счастье человечества является конечной целью существования Все-
244 Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995-1997. Т. 1. С. 327. Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы даны в тексте.
ленной. И в этом смысле неважно, где он рожден и воспитан: советская идеология мало чем отличалась от западной. «Не случайно все словесные клятвы коммунизма, — говорил Солженицын в Гарвардской речи, — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в миросознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма» (Публицистика. Т. 1. С. 326).
Но для чего же тогда рожден человек, если не для счастья? Такая постановка вопроса видится Солженицыным как глубоко порочная реализация просвещенческих идей. Многократно упрощенные в лозунгах советской литературы, эти идеи оборачиваются гибелью личности, обладающей «жалкой идеологией» «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына» («Архипелаг ГУЛАГ»).
Довод, которым Солженицын опровергает «жалкую идеологию», формулу «человек создан для счастья», прост и очевиден и уходит в бытийную, экзистенциальную сущность миропорядка: «Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рожден только для счастья, — он не был бы рожден и для смерти. Но оттого, что он телесно обречен смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлеб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом веселого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее» (Публицистика. Т. 1. С. 327).
Видит ли современный человек эту цель в конце своего жизненного пути? Если нет, то причиной тому, по Солженицыну, становится дезориентация современного человека в этом мире и забвение им основных, глубинных, бытийных ценностей, и как результат — утрата истинного смысла жизни.
С гуманистическими идеями связаны и многообразные мифологические представления, выработанные литературой XIX в. и способные лишь дезориентировать человека в историческом пространстве. Среди них — идеализация народного характера без сколько-нибудь глубинного знания народной жизни, представления о некой мистически предопределенной правоте народа на любых поворотах истории, уверенность в некой фатальной истинности народных представлений.
Вероятно, глубокая укорененность этих представлений, принесенных литературой XIX в., была следствием неудачной попыт-
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
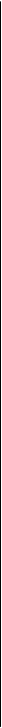
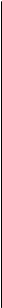
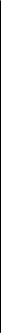
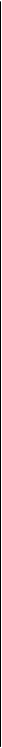 ки заполнить духовный вакуум, образовавшийся в результате забвения «морального наследства христианских веков» и воли Высшего Духа, стоящего над людской жизнью. Но в человеке, даже выделившемся, противопоставившем себя миру, роду, жива потребность ощущения этой воли, потребность понимания Божественного замысла, дающего высшую нравственную оценку деяний личности и нации и придающего смысл индивидуальному и национальному бытию. Общество, потерявшее ощущение Высшего Промысла, направляющего судьбу человека и историю нации, попыталось на это место поставить идеализированный образ Народа, который предстал как хранитель высшей мудрости и высшего знания о предназначении национальной судьбы. Истоки такого понимания — во второй половине XIX в. и, в первую очередь, в революционно-демократической идеологии.
ки заполнить духовный вакуум, образовавшийся в результате забвения «морального наследства христианских веков» и воли Высшего Духа, стоящего над людской жизнью. Но в человеке, даже выделившемся, противопоставившем себя миру, роду, жива потребность ощущения этой воли, потребность понимания Божественного замысла, дающего высшую нравственную оценку деяний личности и нации и придающего смысл индивидуальному и национальному бытию. Общество, потерявшее ощущение Высшего Промысла, направляющего судьбу человека и историю нации, попыталось на это место поставить идеализированный образ Народа, который предстал как хранитель высшей мудрости и высшего знания о предназначении национальной судьбы. Истоки такого понимания — во второй половине XIX в. и, в первую очередь, в революционно-демократической идеологии.
В сущности, взгляды Солженицына, прямо выраженные в Гарвардской лекции, дают ключ к пониманию той вековой распри между народом и интеллигенцией, о которой речь шла в предшествующих главах. Обращение писателя к историческим обстоятельствам начала XX в., в итоге разрешившимся гражданской войной, обнаруживает утопизм представлений русской интеллигенции о «народе-богоносце». Следование этому мифу сказывается катастрофически и на судьбах людей, воспитанных в этих представлениях книгами и средой, и на крестьянских судьбах. Трагедии подобного рода исследуются Солженицыным и в десятитомной эпопее «Красное Колесо», и в неболшом цикле «двучастных» рассказов.
В 1995 г. Солженицын опубликовал новые рассказы, которые он назвал «двучастными»245. Важнейший их композиционный принцип — противоположность двух частей, что дает возможность сопоставления двух человеческих судеб и характеров, проявивших себя по-разному в общем контексте исторических обстоятельств. Их герои — и люди, казалось бы, канувшие в безднах русской истории, и оставившие в ней яркий след, такие, например, как маршал Г. К. Жуков, — рассматриваются писателем с сугубо личной стороны, вне зависимости от официальных регалий, если таковые имеются. Проблематику этих рассказов формирует конф-
245 Солженицын А. И. Два рассказа («Эго», «На краях»)//Новый мир. 1995. № 5. С. 12-50; Двучастные рассказы («Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое варенье») //Новый мир. 1995. № 10. С. 3-34.
ликт между историей и частным, как бы «голым», человеком. Пути разрешения этого конфликта, сколь ни казались бы они различными, всегда приводят к одному результату: человек, утративший веру и дезориентированный в историческом пространстве гуманистическими представлениями, осужденными Солженицыным (например, в Гарвардской и Темплтоновской речах), человек, не умеющий жертвовать собой и идущий на компромисс, оказывается перемолот и раздавлен страшной эпохой, в которую ему выпало жить.
Павел Васильевич Эктов — сельский интеллигент, смысл своей жизни видевший в служении народу, уверенный, что «не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме». Во время гражданской войны Эктов не увидел для себя, народника и народолюбца, иного выхода, как примкнуть к крестьянскому повстанческому движению, возглавляемому атаманом Антоновым. Самый образованный человек среди сподвижников Антонова, Эктов стал начальником его штаба. Солженицын показывает трагический зигзаг в судьбе этого великодушного и честного человека, унаследовавшего от русской интеллигенции неизбывную нравственную потребность служить народу, разделять крестьянскую боль. Но выданный теми же крестьянами («на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы»), Эктов сломлен шантажом: он не может найти в себе сил пожертвовать женой и дочерью и идет на страшное преступление, по сути дела, «сдавая» весь антоновский штаб — тех людей, к которым он пришел сам, чтобы разделить их боль, с которыми ему необходимо было быть в лихую годину, чтобы не прятаться в своей норке в Тамбове и не презирать себя! Солженицын показывает судьбу раздавленного человека, оказавшегося перед неразрешимым жизненным уравнением и не готовым к его решению. Он может положить на алтарь свою жизнь, но жизнь дочери и жены? В силах ли вообще человек сделать подобное? «Великий рычаг применили большевики: брать в заложники семьи».
Условия таковы, что и добродетельные качества человека оборачиваются против него. Кровавая гражданская война зажимает частного человека между двух жерновов, перемалывая его жизнь, его судьбу, семью, нравственные убеждения. «Пожертвовать женой и Маринкой (дочерью. — М. Г.), переступить через них — разве он мог??
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
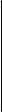
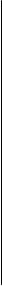

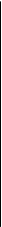


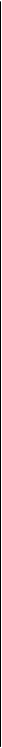 За кого еще на свете — или за что еще на свете? — он отвечает больше, чем за них?
За кого еще на свете — или за что еще на свете? — он отвечает больше, чем за них?
Да вся полнота жизни — и были они.
И самому — их сдать? Кто это может?!» (Новый мир. 1995. № 5. С. 24).
Ситуация предстает перед Эго как безысходная. Безрелигиозно-гуманистическая традиция, восходящая к ренессансной эпохе и прямо отрицаемая Солженицыным в его Гарвардской речи, мешает человеку ощутить свою ответственность шире, чем за семью. «В рассказе «Эго», — считает современный исследователь, — как раз и показано, как безрелигиозно-гуманистическое сознание главного героя оказывается источником предательства». Невнимание героя к проповедям сельских батюшек — очень характерная черта мироощущения русского интеллигента, на которую как бы вскользь обращает внимание Солженицын. Ведь Эктов — сторонник реальной, материальной, практической деятельности, которая, увы, ведет к забвению духовного смысла жизни. Быть может, церковная проповедь, от которой самонадеянно отказывается Эго, и могла быть источником «той самой реальной помощи, без которой герой попадает в капкан собственного мировоззрения»246, — того самого гуманистического, безрелигиозного, не дающего личности ощутить свою ответственность перед Богом, а свою собственную судьбу — как часть Божьего промысла. Ведь предательство антоновского штаба было не только бессмысленным, но обернулось и предательством жены и дочери, ради которых оно был совершено: антоновцы планировали вооруженное освобождение лагеря, где содержались самые близкие Эктову люди. Не обрек ли он себя и их на гибель, помогая уничтожить антоновцев?
Человек перед лицом нечеловеческих обстоятельств, измененный, размолотый ими, не способный отказаться от компромисса и лишенный христианского мировоззрения, беззащитный перед ними (можно ли судить за это Эго?) — еще одна типичная ситуация нашей истории.
К компромиссу Эго привели две черты русского интеллигента: принадлежность к безрелигиозному гуманизму и следование революционно-демократической традиции. Но, как это ни парадоксально, схожие коллизии увидел писатель и в жизни Жукова
246 Спиваковский П. История, душа и «эго»//Литературное обозрение. 1996. № 1 С. 48-49.
(рассказ «На краях», двучастной композицией сопряженный с «Эго»). Удивительна связь его судьбы с судьбой Эго — оба воевали на одном фронте, только по разные его стороны: Жуков — на стороне красных, Эго — восставших крестьян. И ранен был Жуков на этой войне с собственным народом, но, в отличие от идеалиста Эго, выжил. В его истории, исполненной взлетами и падениями, в победах над немцами и в мучительных поражениях в аппаратных играх с Хрущевым, в предательстве людей, которых сам некогда спасал (Хрущева — дважды, Конева от сталинского трибунала в 1941-м), в бесстрашии юности, в полководческой жестокости, в старческой беспомощности Солженицын пытается найти ключ к пониманию этой судьбы, судьбы маршала, одного из тех русских воинов, кто, по словам И. Бродского, «смело входили в чужие столицы,/но возвращались в страхе в свою» («На смерть Жукова», 1974). Во взлетах и падениях он видит за железной волей маршала слабость, которая проявилась во вполне человеческой склонности к компромиссам. И здесь — продолжение самой важной темы творчества Солженицына, начатой еще в «Одном дне Ивана Денисовича» и достигшей кульминации в «Архипелаге ГУЛАГе»: это тема связана с исследованием границы компромисса, которую должен знать человек, желающий не потерять себя. Раздавленный инфарктами и инсультами, старческой немощью, предстает в конце рассказа Жуков — но не в этом его беда, а в компромиссе (вставил в книгу воспоминаний две-три фразы о роли в победе политрука Брежнева), на который он пошел, дабы увидеть свою книгу опубликованной. Компромисс и нерешительность в поворотные периоды жизни, тот самый страх, который испытывал, возвращаясь в свою столицу, сломили и прикончили маршала — по-другому, чем Эго, но, по сути, так же. Как Эго беспомощен что-либо изменить, когда страшно и жестоко предает, Жуков тоже может лишь беспомощно оглянуться на краю жизни: «Может быть, еще тогда, еще тогда — надо было решиться? О-ох, кажется — дурака-а, дурака свалял?..» Герою не дано понять, что он ошибся не тогда, когда не решился на военный переворот и не стал русским Де Голем, а когда он, крестьянский сын, чуть ли не молясь на своего кумира Тухачевского, участвует в уничтожении породившего его мира русской деревни, когда крестьян выкуривали из лесов газами, а «пробандиченные» деревни сжигались нацело.
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
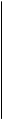
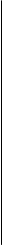
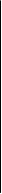
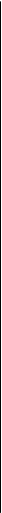

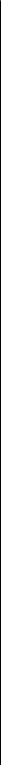 Рассказы об Эктове и Жукове обращены к судьбам, безусловно, честных и достойных людей, сломленных страшными историческими обстоятельствами советского времени. Но возможен и иной вариант компромисса с действительностью — полное и радостное подчинение ей и естественное забвение любых мук совести. Об этом рассказ «Абрикосовое варенье». Первая часть этого рассказа — страшное письмо, адресованное живому классику советской литературы. Его пишет полуграмотный человек, который вполне отчетливо осознает безвыходность советских жизненных тисков, из которых он, сын раскулаченных родителей, уже не выберется, сгинув в трудлагерях: «Я — невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуй-тесь». Продуктовая посылка — в ней, быть может, спасение этого человека, Федора Ивановича, ставшего всего лишь единицей принудительной советской трудармии, единицей, жизнь которой вообще не имеет сколько-нибудь значимой цены. Вторая часть рассказа — описание быта прекрасной дачи знаменитого Писателя, богатого, пригретого и обласканного на самой вершине — человека, счастливого от удачно найденного компромисса с властью, радостно лгущего и в журналистике, и литературе. Писатель и Критик, ведущие литературно-официозные разговоры за чаем, находятся в ином мире, чем вся советская страна. Голос письма со словами правды, долетевшими в этот мир богатых писательских дач, не может быть услышан глухими к голосу правды представителями литературной элиты: глухота является одним из условий заключенного компромисса с властью. Верхом цинизма выглядят восторги Писателя по поводу того, что «из современной читательской глуби выплывает письмо с первозданным языком. <...> какое своевольное, а вместе с тем, покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю!». Письмо, взывающее к совести русского писателя (по А. Солженицыну, героем его рассказа является не русский, а советский писатель), становится лишь материалом к изучению нестандартных речевых оборотов, помогающих стилизации народной речи, которая осмысляется как экзотическая и подлежащая воспроизведению «народным» Писателем, как бы знающим национальную жизнь изнутри. Высшая степень пренебрежения к звучащему в письме крику замученного человека звучит в реплике Писателя, когда его спрашивают о связи с корреспондентом: «Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело —
Рассказы об Эктове и Жукове обращены к судьбам, безусловно, честных и достойных людей, сломленных страшными историческими обстоятельствами советского времени. Но возможен и иной вариант компромисса с действительностью — полное и радостное подчинение ей и естественное забвение любых мук совести. Об этом рассказ «Абрикосовое варенье». Первая часть этого рассказа — страшное письмо, адресованное живому классику советской литературы. Его пишет полуграмотный человек, который вполне отчетливо осознает безвыходность советских жизненных тисков, из которых он, сын раскулаченных родителей, уже не выберется, сгинув в трудлагерях: «Я — невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуй-тесь». Продуктовая посылка — в ней, быть может, спасение этого человека, Федора Ивановича, ставшего всего лишь единицей принудительной советской трудармии, единицей, жизнь которой вообще не имеет сколько-нибудь значимой цены. Вторая часть рассказа — описание быта прекрасной дачи знаменитого Писателя, богатого, пригретого и обласканного на самой вершине — человека, счастливого от удачно найденного компромисса с властью, радостно лгущего и в журналистике, и литературе. Писатель и Критик, ведущие литературно-официозные разговоры за чаем, находятся в ином мире, чем вся советская страна. Голос письма со словами правды, долетевшими в этот мир богатых писательских дач, не может быть услышан глухими к голосу правды представителями литературной элиты: глухота является одним из условий заключенного компромисса с властью. Верхом цинизма выглядят восторги Писателя по поводу того, что «из современной читательской глуби выплывает письмо с первозданным языком. <...> какое своевольное, а вместе с тем, покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю!». Письмо, взывающее к совести русского писателя (по А. Солженицыну, героем его рассказа является не русский, а советский писатель), становится лишь материалом к изучению нестандартных речевых оборотов, помогающих стилизации народной речи, которая осмысляется как экзотическая и подлежащая воспроизведению «народным» Писателем, как бы знающим национальную жизнь изнутри. Высшая степень пренебрежения к звучащему в письме крику замученного человека звучит в реплике Писателя, когда его спрашивают о связи с корреспондентом: «Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело —
в языковой находке». Не правда ли, еще один интересный вариант несостоявшегося контакта между «черной» и «белой» костью?
По Солженицыну, драма человека XX в. состоит в слабости и искажении его миросозерцания антропоцентрическими идеями Ренессанса и Просвещения. Гуманистическому пониманию смысла жизни он противопоставляет иное, бытийное, религиозное понимание: «действительно ли превыше всего человек и нет ли над ним Высшего Духа?» (Публицистика. Т. 1. С. 328). Драма современного человека, по Солженицыну, в забвении «постоянной религиозной ответственности», в «окончательном освобождении от морального наследства христианских веков», в поблекшем сознании «ответственности человека перед Богом и обществом» (Публицистика. Т. 1. С. 325). В Темплтоновской лекции Солженицын определил главное мировоззренческое и бытийное заблуждение современного человека: «человек пытается не выявить Божий замысел, но заменить собою Бога» (Публицистика. Т. 1. С. 453).
Выявить Божий замысел — эту задачу видел Солженицын перед собой всегда, умел его разгадать и понять: «Я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко-рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего — и я только немел от удивления. <...> Это стало для меня так привычно, так надежно, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни»247. Ощущение направляющей руки, несущей свет Божественного замысла, касающегося всякой судьбы, дало силы преодолеть арест, тюрьму, ссылку, смертельную болезнь, борьбу с режимом, высылку, дало силы вернуться в Россию.
Потенциал внутреннего сопротивления человека может быть очень высок, сила духа, если личность обладает ею, способна менять саму ситуацию, в том случае, если человек, оказавшийся в ней, способен слышать Божественную волю и остается верен своим принципам. Идея жизни не по лжи, отвергающая каждодневные компромиссы, и может, по мысли Солженицына, перело-
247 Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Париж, 1975.С. 126.
17-4063
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
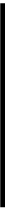

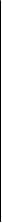
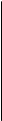
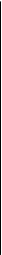
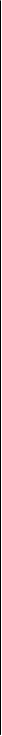

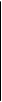 мить ситуацию не только в масштабе, доступном частному человеку, но в значительно более крупном.
мить ситуацию не только в масштабе, доступном частному человеку, но в значительно более крупном.
Перед силой духа оказываются беспомощны тюремщики, сама система. Способных на подвиг противостояния мало, но они есть — это патриарх Тихон, судимый Мосревтрибуналом, или мало кому известная Анна Петровна Скрипникова, портрет которой представлен в «Архипелаге ГУЛАГ» (4-я глава четвертой части). Они сохранили твердость и нашли силу противостояния.
Что дало им эту силу? Религиозное сознание и неспособность ко лжи, лишающая компромисс своего великого соблазна. Дело в том, что верующий человек истину, веру, духовное ставит выше материального, выше гуманистически понимаемого блага и счастья: «для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды, которую он кладет в желудок» (Публицистика. Т. 1. С. 175). В «Письме вождям Советского Союза» (1973) Солженицын писал, что не видит «сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России» (Публицистика. Т. 1. С. 184).
Верный этой идее, Солженицын всегда старался избегать компромисса — насколько это было возможно в той политической и литературной среде, которая известна нам, в частности, по его мемуаристике. Избегает он его и сейчас. Бескомпромиссность — это идеал, стремление к которому определяет и характер творческого дара, и специфику общественного поведения. Она дала возможность выиграть в безнадежном, казалось бы, противостоянии советской системе и принесла победу «теленку», бодавшемуся с «дубом». Плата за бескомпромиссность — литературное одиночество, осмыслямое как благо: трудно представить себе Солженицына в некой «партии», литературной или общественно-политической; внешнее отшельничество — трудно представить Солженицына, принимающего, подобно многим писателям советской поры, посетителей и делегации читателей или же ведущего депутатскую работу. Плата — в множественных личностных разрывах с близкими некогда людьми. Плата — в непонимании очень и очень многими.
Живя так, он и другим предлагает то же. Ответственность за национальные трагедии XX в. он возлагает не столько на «вождей Советского Союза», сколько на всех нас, втянутых в компромисс с властью, который, с его точки зрения, приводит к «жизни по лжи».
Но, отказываясь от компромисса, Солженицын знает его великий соблазн. Этот соблазн писатель изживает в своих героях, им передоверяя испытать его сладость и пережить обусловленную этим соблазном трагедию. В его эпосе предложена целая антология национального компромисса. Можно даже сказать, что одним из предметов изображения в творчестве Солженицына оказывается русский национальный характер в ситуации компромисса.
Компромисс совершается и отдельным человеком, и массой людей, единодушно одобряющих на каком-либо собрании очередную государственную истерию, травлю, аресты и т.п. В сущности, тотальный компромисс и стал для писателя зловещим знаком грандиозной деформации русского сознания. Деформации, грозящей катастрофой, делающей весьма туманной национальную перспективу XXI века («Россия в обвале»).
Способность к компромиссности обусловлена слишком уж глубоко вошедшими в национальное сознание идеями безбожного и безрелигиозного гуманизма и ослаблением ценностей, утверждаемых христианской цивилизацией. Мы полагаем, что именно здесь находит Солженицын ключ к русской трагедии XX в. «Все бы так отвечали! — пишет он о словах патриарха Тихона, произнесенных на суде. — Другая была б наша история!» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 1. С. 342). Эта мысль проходит лейтмотивом через все тома «Архипелага». «Если бы все были вчетверть такие непримиримые, — заканчивает писатель портрет Анны Скрипниковой, — другая была б история России» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 614).
Что же человек и нация могут противопоставить своему сегодняшнему состоянию? Исконные ценности русской национальной жизни, такие, как раскаяние и самоограничение («Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», 1973).
«Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собой обширную долю русской натуры, — полагает писатель. — Не случайно так высоко стоял в нашей годовой череде прощеный день. В дальнем прошлом (до XVII в.) Россия так была богата движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт» (Публицистика. Т. 1.С.59).
Покаяние Солженицын считает одним из высших проявлений патриотизма. В этом он видит национальное достоинство и отрицает угодливый патриотизм, называя его национал-большевизмом.
17*
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
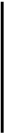
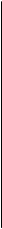
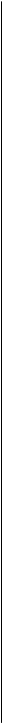
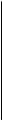
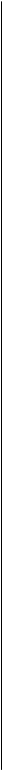 «Нкы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них» (Публицистика. Т. 1. С. 64). Писатель видит подлинное величие народа «не в громе труб», а в «высоте внутреннего развития; в душевной широте (к счастью, природненной нам); в безоружной нравственной твердости».
«Нкы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них» (Публицистика. Т. 1. С. 64). Писатель видит подлинное величие народа «не в громе труб», а в «высоте внутреннего развития; в душевной широте (к счастью, природненной нам); в безоружной нравственной твердости».
Цель человеческого пути, как определил ее А. Солженицын в Гарвардской речи — «Покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее». Способность противопоставить материальной экспансии ценности духа важна не только для отдельного человека, но и для национальной личности, и для современной цивилизации в целом. «Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над внешним, если он произойдет, будет великий поворот человечества, сравнимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не только направление интересов и деятельности людей, но и самый характер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности)», — говорил писатель в статье «Раскаяние и самоограничение» (Публицистика. Т. 1. С. 80). В заключении Гарвардской лекции этот путь осмысляется как восхождение человечества на следующую, более высокую антропологическую ступень. Путь к этому восхождению лежит через самоограничение — человека, нации, современной цивилизации.
Для того, чтобы это оказалось возможным, необходимо преодолеть великий соблазн пагубного компромисса. Компромисса, открывающего путь к мелким и крупным житейским благам, к незначительному или значимому житейскому успеху, но ведущему к еще большему отдалению от высших ценностей.
«Да быть ли нам русскими?» — этот вопрос из книги «Россия в обвале» носит отнюдь не риторический характер. Мы сможем остаться русскими, т.е. сохранить самих себя таковыми, лишь тогда и в том случае, если забудем о пагубной привычке к компромиссу, выработанной исторической действительностью XX в., исполненной множеством расколов, прошедшихся по национальному телу и воспитавших в нас взаимную непримиримость. Впрочем, не только XX в., как мы попытались показать.
Пафос А. Солженицына состоит в отказе от компромисса с властью и обстоятельствами; в отказе от взаимной непримиримости, обусловленной национальными расколами; в устремленности к преодолению этих расколов через национальное обращение к
 2014-02-17
2014-02-17 599
599








