«НРАВЫ», «НРАВСТВЕННОСТЬ» В РОССИИ И НЕОБХОДИМАЯ ЛОЖЬ
(ИСТОРИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ)
«Не учись как бы тебе людей обманывать,
ибо сие зло богу противно, и тяжкой имаши
за то дати ответ: не презирай старых
или увечных людей, буди правдив во всех делах.
Ибо нет злея порока в отроке, яко ложь,
а от лжи раждается кража,
а от кражы приходит веревка на шею».
Юности честное зерцало. СПб., 1717.
В своих недавних исследованиях, посвящённых проблеме правдивости и права на ложь в практической философии И. Канта, я намеренно отождествлял понятия нравственности и морали[1]. Тем самым следовал кантовской мыслительной традиции. При этом мне пришлось встретиться с рядом замечаний, в которых шла речь о недопустимости такого отождествления, или, по меньшей мере, о его сомнительности. В этих замечаниях ясно просматривалась гегелевская позиция, согласно которой мораль и нравственность выражают разные этапы развития объективного духа.
Как показывает время, я несколько забежал вперед, отвлекся от российского исторического опыта, социально-политических традиций и социо-культурных особенностей жизни в России.
Почему многие современники (причем именно из числа научной и творческой интеллигенции) настаивают на различении морали и нравственности? Не думаю, что авторитет Гегеля или Маркса для них остается незыблем. Скорее всего, речь идёт о внутренней потребности, о продуманной жизненной позиции, которая получила и получает проверку в ежедневном опыте российской жизни. Поэтому стоит углубиться в этот «опыт». А начнем мы с истории русских слов «нрав» и «нравственность».
О происхождении слова «нравственность»
Слово «нравственность» появляется в русском литературном языке в конце XVIII-начале XIX веков. Это слово представляет собой новообразование из уже имевшихся в русском языке морфем «нрав» и «ость»[2]. В этот период в России шёл активный процесс словообразования и усвоения европейской научной терминологии. Например, появляются такие новообразования, как «народность», «национальность», «образованность», «индивидуальность», «абсолютный», «относительный» и многие другие, составляющие основной понятийный корпус социальных и гуманитарных наук. Этот процесс был вызван интенсивным освоением опыта европейской общественно-политической жизни, новых философских и экономических теорий Просвещения и немецкого идеализма. Перечисленные лексические новообразования являются отвлеченными понятиями, с помощью которых происходило расширение интеллектуального горизонта и приобретение новых знаний.
Вместе с понятием «нравственность» появляются и понятия «мораль», «моральное». До XVIII века в русском языке этих понятий не было, а вместо них употреблялись слова «нравный», «нравообычный», «нравоучение», «добронравный». Понятие «нравственность» уходит своими корнями в церковно-славянский язык, появившийся в результате распространения православной религии на Руси. Именно в церковно-славянском языке имелось слово «нрав», которое дополнило, а точнее, потеснило старославянское слово «норов». Как отмечает известный отечественный лингвист В.Д. Бондалетов, слово «нрав» пришло от южных славян, от болгар. У восточных славян почти не было звуковых сочетаний, состоящих из двух согласных. Звукосочетание «эн-эр» затруднительно для произношения, так как подобное звукообразование требует дополнительных усилий языка. Восточные славяне-руссичи предпочитали более легкие звукообразования, одним из которых было слово «норов». Интересен тот факт, что в качестве переходной языковой формы от слова «норов» к «нраву» использовалось слово «ндрав».
Почему потребовалось вносить новое (сложное для произношения) слово «нрав»? Рассмотрим семантические особенности этих слов и выявим их существенные различия. Старославянское слово «норов» определяется в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» как «обычный образ действий», «поведение», «характер», «обычай», «буйный, упрямый нрав»[3]. Человек «с норовом» или лошадь «с норовом» нелегки в общении, в делах, так как у них свой характер, по большей части упрямый, неуступчивый, горделивый. Поэтому к таким людям следует «норовить», «приноровиться» т.е. угождать, делать послабление, приспособиться, чтобы получить от них желаемый результат. Иначе они проявят свою силу, упрямство, и в конце концов могут объявить войну или поднять мятеж.
Таким образом, старославянское слово «норов» выражает психо-физическую силу, самостоятельность человека или животного, его обычную реакцию на разные жизненные обстоятельства. Попробуй обидеть «норовистого» человека, сразу получишь в ответ. Быть «с норовом» значит быть «с характером». Такими людьми сложно управлять, а тем более господски подчинять себе, ведь они любят независимость и уважение.
Как отмечает Я. В. Чеснов в своих лекциях по исторической этнологии, норов-нрав − это безличное природное начало в личности, его проявления всегда опасны для общества, поэтому людей, которые не справлялись со своим нравом, изгоняли из общества[4]. По его словам, нрав («норов») − это зона ненормированных, нестереотипизированных проявлений темперамента и психических состояний настроения, любви, ненависти, ревности, храбрости и т.д. В ранней античности «этос» (нрав) означал первоначально нечто низменное, стоящее в оппозиции ко всему высокому. Такое понимание нрава вполне соответствует русскому слову «норов» и сниженному значению церковно-славянского «нрава», служит для выражения биологических, природных качеств личности, и в этом смысле метафорически равен крови. Когда говорят «кровь взыграла» − подразумевают сильное проявление нрава-норова.
Христианская религия не очень одобрительно относится к такому ненормированному «своенравию», природному буйству человека, так как оно граничит с непокорностью и гордыней, которые считаются одними из главных пороков. «Норов» нужно обуздать − по нашему мнению, эта христианская установка потребовала введения нового слова «нрав», которое получило возвышенное, религиозное, книжное значение, хотя и сохранило смысловую связь с «норовом» как склонностью, обычаем, привычкой.
Церковно-славянское слово «нрав» имеет целый ряд значений[5]:
1. Расположение, склонность, обыкновение, привычки. // воля, желание
По нраву (чьему-л.). − в соответствии с чьими-л. вкусами, склонностями.
2. Умонастроение, отношение, образ мыслей. // мысль.
3. Нравственный облик, образ жизни, поведение. // общественная нравственность, нравы.
4. Добродетель.
5. Облик, внешний вид, манера держаться.
6. Душевный склад, нрав, характер.
7. Характер, свойство. (твердость, устойчивость)
8. Обычай; обыкновение.
9. Способ.
«Нрав» важен тем, что он выражает в большей степени умонастроение человека, добродетельное поведение, его духовный облик, а не психо-физическую самость человека. Поэтому к животным это слово почти не имеет отношения. О «нраве» обычно говорят как о «кротком», «смиренном», «добром», «приветливом», т.е. богобоязненном характере человека. Христианское воспитание направлено на обуздание природного «норова» и формирование доброго, милосердного, послушного «нрава», т.е. такого обычая в поведении, которое соответствует православному вероучению. Кроме того, воспитательная функция русского православия была тесно связана с управленческой функцией. Формирование общезначимых норм поведения, культивирование идеальных образцов жизни являлось необходимой составной частью государственной политики. В крестьянской общине священник был и духовным воспитателем, наставником и судьей, представителем государственной власти. Церковное «проклятие» было страшнее сурового судебного приговора, ибо противопоставляло проклятого человека всей общине и лишало надежды на спасение души.
Итак, забота о нравах считалась делом государственным, и не только в России. Традиционные патерналистские системы управления и в России, и в европейских странах строились прежде всего на наивно-доверительном отношении к богоизбранной власти. «Царь есть помазанник Божий», а значит он призван заботиться о своих подданных как о любимых детях, воспитывать их нравы в соответствием с учением Христа. Полное послушание, смирение и покорность считались высшими образцами добродетели и служения Господу Богу, Государю и Родине-матушке.
Холопскому сознанию эти образцы поведения казались справедливыми, правильными, ведь они получали высшее, божественное благословение. И только мятежи, бунты, революционные волнения нарушали благочестивую гармонию и спокойствие, и конечно, свидетельствовали о «падении нравов».
Теперь мы можем обобщить сравнительный анализ понятий «норов» и «нрав» в следующей схеме:
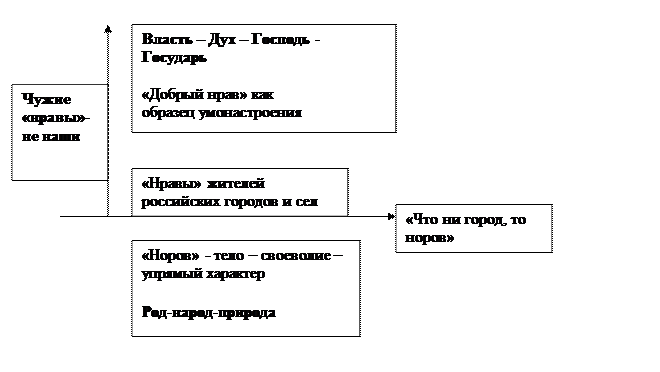
С помощью этой схемы мы наглядно показываем структуру отношений между понятиями «нрав» и «норов». В основе этой схемы лежит традиционная модель российского социума, которая складывается из «властной вертикали» и «родовой, народной, природной горизонтали». При этом «нрав» и «норов» относятся к противоположным сферам бытия человека − духовной и телесной. Согласно христианской традиции, «нравоучение» должно было регулировать отношения господства и подчинения, начиная с семейных отношений, а также половые отношения. Нарушение «нравных» норм, основанных на божеских заповедях, законных предписаниях, обычаях и обрядах считалось грехопадением, срамотой, развратом, злонравием.
Благодаря «добронравному» поведению русский человек мог возвыситься над своей животной природой, преодолеть врожденный «норов». Но уже сам народный, разговорный язык совершал «снижение» смысловой нагрузки «нрава» до бытовой привычки, склонности, обычного образа жизни, который зависел от природно-климатических условий, религиозных обрядов, народных предрассудков, личных качеств и характеров.
С развитием российских городов в XVII веке начали складываться городские или светские «нравы».
О повреждении и исправлении нравов в России
Радикальное изменение «старых добрых нравов» в России начинается с реформами Петра I и осознается как страшное потрясение всей общественной жизни, которое привело к «испорченности нравов», к общественному разврату, потери прежнего добронравия.
О порче нравов в России одной из первых начала говорить и писать российская императрица Екатерина II (немецкая принцесса Софья Анхальт-Цербстская) еще в 60-е годы XVIII века. Будучи хорошо знакомой с европейским Просвещением, с учениями Вольтера, Дидро, Руссо она стала обращать внимание на «пороки» в общественной жизни, требовала выставлять их на показ для публичного обозрения и осуждения. Для этого начала издавать первый в России публицистический журнал «Всякая всячина» (1769 г.). В полемику с ней сразу же вступил Николай Иванович Новиков на страницах журнала «Трутень»[6].
Сатирический журнал Новикова, выходивший со 2 мая 1763 года по 27 апреля 1770 года провозгласил главной задачей журналистики «сатиру на лицо», подразумевая, что действенность сатиры состоит в указании на конкретного носителя зла. Екатерина II хотела ограничиться критикой «нравов», т.е. вечных общечеловеческих пороков и недостатков, которых, с её точки зрения, было предостаточно в послепетровской России, надеясь на то, что под действием нравоучительных повествований и обличений образованные люди (дворяне, помещики, купцы) сами начнут исправляться. Особое значение она предавала просветительским сочинениям Вольтера, его едкой критике общественных предрассудков, суеверий, невежества, церковных злоупотреблений. Однако влияние Вольтера на российское общественное сознание оказалось слишком мощным и радикальным. Разрешив небольшой «глоток свободомыслия», Екатерина Великая «выпустила джина из бутылки», ибо пробудила неутолимую жажду свободы и познания.
Освободительно-раскрепощающие идеи Вольтера начали подрывать основы русского церковно-православного мировоззрения. Прежде всего в том, что Вольтер наделяет единичный разум человека способностью находить истину, а вместе с тем и то, что полезно, справедливо, приятно и т.д. Человек своим разумом может познать главное, необходимое для жизни. Эта просветительская установка явно противоречила авторитарно-догматическому церковному сознанию, которое видело истину только в лоне Церкви и в безусловном повиновении и послушании ее представителям. При этом любое инакомыслие, самостоятельное утверждение расценивалось как непозволительное своеволие, грех, отпадение от общепринятого образца поведения и служения Богу. Человек с собственным разумом оказывался почти антихристом, по крайней мере, в образе русского вольтерианца – безбожником и нигилистом.
С точки зрения церковно-православного сознания, Просвещение плодит только пороки, оно сеет смуту и грозит самым страшным − расколом единомыслия и единоверия.
Ярким примером такого умонастроения в русской публицистической литературе может служить политический памфлет М.М.Щербатова под названием «О повреждении нравов в России», написанный в 1787 году. Известный государственный деятель, публицист с удивлением обнаруживает − «в коль краткое время повредилиса повсюду нравы в России» − после того, как страна вступила на путь Просвещения[7].
Быстро изменились нормы, обычаи городской жизни, правила поведения правящей элиты, изменился привычный уклад жизни − «нравы испортились». Каковы признаки этой «порчи»? Щербатов тщательно указывает на них:
1) «Вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение впали»;
2) «Гражданские узаконении презираемы стали»;
3) «Несть ни почтения от чад к родителям, которые не стыдятся открытно их воли противуборствовать и осмеивать их старого века поступок. Несть ни родительской любви к их исчадию, которые, яко иго с плеч слагая, с радостию отдают воспитывать чуждым детей своих»;
4) «Несть искренней любви между супругов, которые часто друг другу, хладно терпя взаимственныя прелюбодеяния, или другия за малое что разрушают собою церковью заключенный брак, и не токмо стыдятся, но паче яко хвалятся сим поступком»;
5) «Несть родственнические связи, ибо имя родов своих ни за что почитают, но каждый живет для себя»;
6) «Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своя»;
7) «Несть верности к государю, ибо главное стремление почта всех обманывать своего государя, дабы от него получать чины и прибыточные награждения; несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества»;
8) «Несть твердости духу, дабы не токмо истину пред монархом сказать, но ниже временщику в беззаконном и зловредном его намерении попротивиться».
Итогом такого повреждения нравов стала «настоящая развратность», распространившаяся при царском дворе и его дворянском окружении.
Говоря современным языком, Щербатов пытается обличить новые социальные явления и понятия, такие как скептицизм и недоверие прежним устоям жизни, самостоятельность детей и их желание выйти из под родительской опеки, индивидуализм и эгоизм, основанные на прагматической расчётливости и личной пользе. Очевидно, что это необходимые условия и ценности становящегося буржуазно-демократического общества.
Русский публицист видит главную причину «падения нравов» в «сластолюбии», т.е. в пристрастии людей к чувственно-телесным удовольствиям и всевозможным хотениям, в потере помыслов о божественном законе и заботы о стране. Европейское Просвещение принесло культ индивидуализма и эгоизма. О чем мучительно вопрошает Щербатов: «Имея себя единого в виду, может ли он быть сострадателен к ближнему и сохранить нужную связь родства и дружбы?» Сладострастие нацелено на выгоды, награды, а потому никакой верности государю уже не может быть, также как и твёрдости духа. Воображение русского публициста рисует идеальный образ прошлого (очень похожий на спартанский идеал Ж.-Ж. Руссо), неиспорченное состояние непросвещённой, дикой России, когда ценились не внешние достижения и блага, а само умонастроение – героическое, доблестное, простое, цельное и т.д.
Идеальный масштаб задан в соответствии с традиционным родовым порядком, требующим мировоззренческого и житейского однообразия, абсолютного послушания и беззаветной преданности правителю, отечеству, своему роду, а следовательно, постоянной готовности к самопожертвованию. Героическая культура является идейным фундаментом традиционной родовой жизни, она воспевает тех, кто бескорыстно пожертвовал собой ради защиты государственных интересов и сохранения существующей системы господства и подчинения. Для феодально-крепостных порядков буржуазно-демократические ценности Просвещения оказываются поистине губительными.
Важно отметить то, что за «нравоучением» Щербатова явно видна политическая мотивация, так как «падение нравов» грозит «падением государству». Без «нерушимой подпоры совести и добродетели» государственное устройство, основанное на господстве одного (государя) и холопском подчинении всех остальных, действительно будет неустойчивым. Щербатов винит вольтеровы книги за то, что они разрушают христианский закон и сбивают с истинного пути, вносят смуту в простое сознание, т.е. заставляют самостоятельно размышлять о принципах и нормах долженствования, о справедливости и несправедливости законов. «Крепостному» традиционному сознанию это непозволительно, ибо от него требуется только послушание и героическое самопожертвование.
Таким образом, «повреждение нравов» с христианской точки зрения есть не что иное как грехопадение, падение с высоты идеала (должного поведения) до конкретного поступка, нарушающего давно принятый незыблемый закон поведения.
В литературно-публицистическом творчестве Екатерины II само понятие «нравы» приобретает ценностно-негативную окраску, которая была ярко выражена в одной из ее комедий под названием «О времена!». Прежняя церковно-славянская ценностно-смысловая оппозиция понятий «добронравие» − «злонравие» начинает заменяться классической античной оппозицией моральных понятий «добродетель»− «порок».
«Испортившиеся нравы» становятся объектом воздействия со стороны государства, церкви и общественного мнения. Екатерина мечтает об «искоренении пороков», об «исправлении» дурных нравов, и для этого инициирует создание институтов общественного мнения, т.е. первых публичных журналов, типографий, учебно-просветительских заведений. Большую роль в этом сыграл Н.И. Новиков.
Мы не случайно обращаем внимание на эту историческую персону, т.к. выдвигаем следующую гипотезу, которая еще нуждается в проверке и дополнительном обосновании: Слово «нравственное» впервые употребляется в русской публицистической литературе Н. И. Новиковым в июле 1780 года в статье «О добродетели», которая была опубликована в масонском просветительском журнале «Утренний свет».
Приведем фрагмент этой статьи: «Нравственное сочинение, которое не основывается над действиями человеческими, есть бесполезно, и которому подобны многие сочинения молодых или в уединении живущих нравоучителей, которые почерпнули познание нравов только в изучении самих себя или в школах у таких людей, которые по своему состоянию не могут знать светской науки»[8].
Обращаю внимание на то, что это гипотеза, которая появилась при анализе более ранних публикаций этого автора и многих его современников. В русской литературе до 1780 года я не обнаружил у Новикова употребления слов «нравственное», «нравственность», а уже в последующих сочинениях 1782, 1783-1784 годов эти понятия имеют важнейшее значение. Их важность отчетливо видна в педагогической теории, которая была изложена в цикле статей «О воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия». Он понимает особое значение искусства воспитания (педагогики − новое название и новая наука для того времени) в формировании личности ребенка, его убеждений и жизненных правил. Поэтому разворачивает настоящую борьбу с мнимыми «нравоучителями», порождающими новые предрассудки и суеверия. Так, о Руссо он пишет следующее: «Много было нравоучителей, да еще и ныне находятся между человеками пресмыкающиеся духи, которые человеческую природу столь страшно унижают, что, если бы возможно было им поверить, надлежало бы стыдиться быть человеком»[9].
Возникает закономерный вопрос: почему именно в 1780 году Новиков употребляет слово «нравственное», а затем уделяет этому понятию ключевое значение в последующих религиозно-философских и педагогических сочинениях? Для ответа на этот вопрос мы предлагаем очередную гипотезу об идейном влиянии Иоганна Георга Шварца − профессора немецкой словесности и философии, с которым познакомился Новиков в 1779 году уже будучи членом московской масонской ложи шведского типа[10].
Мы предполагаем, что именно И. Г. Шварц, получивший образование в Йенском университете, и хорошо знавший немецкую моральную философию, европейскую мистику мог употреблять немецкое понятие «Sittlichkeit», которое уже вошло в немецкий философский лексикон в начале века. В немецком языке это понятие означало «добрые нравы», по русски – «добронравие», но уже И. Кант в своих «Лекциях по этике» 1760-х годов трактует «Sittlichkeit» как внутреннее безусловное повеление морального закона в человеке, дающее ему самоценность[11].
Нам известны лишь отрывки из лекций профессора Шварца, прочитанные им в 1782 году, в которых он употребляет понятия «нравственное существо», «нравственное совершенство» в смысле внутренних, интеллектуально-волевых способностей человека и их реализации в поступках. Конечно, Шварц излагает понятие «нравственности» не по-кантовски, хотя есть мнение, что он читал философию в Московском университете «по Канту». Это утверждение явно противоречит мистическому умонастроению немецкого профессора воспитанного на сочинениях Я. Бёме. Тем более, что Кант был открытым критиком всякого рода мистицизма в философии и науке.
Итак, Новикова и Шварца объединяли масонские идеи, направленные на воспитание совершенного человека. После жестокого подавления пугачевского восстания 1773-1775 гг. масонство оказывалось неправительственной организацией, противостоящей догматизму официальной православной церкви и просветительскому нигилизму русского вольтерианства. Масоны заняли позицию между деспотическим государством, догматической церковью и русскими нигилистами. Эта позиция была вызывающей для всех, она раздражала своей самостоятельностью и бескорыстием. Об этом свидетельствует деятельность самого Новикова и его ложи «Гармония»[12].
Тот же Новиков выступает с резкой критикой вульгарного просвещенческого рационализма, обвиняющего науки и искусства в упадке нравов, и пытается противопоставить этой упрощённо-догматической установке собственную теорию воспитания, включающую «физическое воспитание», «нравственное воспитание» и «образование разума». Интересен и тот факт, что Новиков стал одним из первых в России писать о достоинстве человека как внутренней ценности.
Почему необходимая ложь и враньё не унижают традиционного русского «достоинства»?
Несколько скандальная постановка вопроса предполагает этимологический и исторический анализ слова «достоинство». В «Словаре древнерусского языка (XI-XIV вв.)» о достоинстве говорится следующее:
1. положительное качество;
2. заслуга;
3. чин, звание[13].
«Достойным» считался тот человек, который действовал «подобающим образом», «как следует», т.е. строго выполняя предписанные кем-то и когда-то правила и нормы. Почти тот же смысловой ряд слова «достоинство» сохраняется и в «Словаре русского языка XVIII века»:
1. чин, сан, звание (придворное, военное, духовное и т.п.);
2. степень, ранг, заслуга (воинская, гражданская);
3. свойство, качество, кого-либо, достойное уважения, одобрения;
4. чувство самоуважения, свойственное человеку, народу[14].
Сравнительный анализ значений этого слова в русском языке показывает, что оно имеет явно выраженный внешне оценочный характер. Человек оценивается обществом за свои проявленные качества, поступки, соответствующие или несоответствующие предписанным образцам и нормам поведения. В традиционном понятии «достоинства» фиксируется социальная значимость человека, его причастность к власти, богатству, материальному достатку. Обладать достоинством в условиях феодального общества, значит не быть холопом, смердом, при этом служить верой и правдой своему государю, богу и всему роду.
Чего стоит этот человек? − от этого во многом зависит его достоинство. Это общественная, социально-экономическая оценка. Уважаемый человек дорог всем, он достоин самого лучшего угощения, подарков, богатства; он заслужил это своим усилиями, подвигами, либо приобрел это по наследству, по достоянию предков достается и достоинство.
Следует отметить, что до XVIII века слово «достоинство» не включало «чувство самоуважения». Этот смысловой аспект появляется именно в XVIII веке под влиянием европейского Просвещения, которое принесло в Россию понятия о самоценности, самоуважении и самостоятельности человеческой личности. Упомянутый нами Н.И. Новиков одним из первых начинает писать о человеческом достоинстве как «почитании» и «любви» к человеческой природе, обладающей бессмертным духом и разумной душой независимо от социального происхождения и материального благосостояния. В статье «О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру» Новиков сравнивает просвещённого человека с правителем («властителем»), ибо и тот и другой достойны почтения потому, что должны служить отечеству и быть полезны[15].
Почтение, уважение нужно заслужить, ибо оно не даётся по наследству − эта просвещенческая мысль подрывает основы феодально-крепостного сознания, но остаётся укоренённой в религиозном христианском мировоззрении, которое представляет достоинство человека «не данностью», «тем, что должно быть приобретено», т.е. результатом личных волевых усилий.
Понятие о «данности» человеческого достоинства является морально-правовым и впервые появляется в практической философии И.Канта. Достоинство мыслится Кантом в качестве неотъемлемого свойства человека, принадлежащего ему независимо от того, как он сам и окружающие его люди воспринимают и оценивают его личность. Оно выражает самоценность человека как разумной личности. «Каждый человек обладает достоинством в силу своей разумности и принадлежности к человеческому роду, таким образом, достоинство − родовое качество разумных существ» − пишет современный этик Елена Золотухина-Аболина, ссылаясь на кантовскую моральную философию, и продолжает: «Каждый, считает Кант, обязан чувствовать, что он достоин именно человеческого отношения, должен обладать глубоким самоуважением, признавать в себе существо с особым статусом в бытии. При этом, утверждает великий моралист, каждый должен признавать и уважать достоинство других людей. Все люди равны в своем достоинстве, в этом смысле среди них нет ни «более значимых», ни «менее значимых»»[16].
Достоинство, понятое по-кантовски, т.е. с точки зрения всеобщего человеческого разума и права человечества в лице каждого разумного существа, не допускает ни унижения другого человека, ни самого себя до положения вещи, средства, простого орудия чьей-то воли, в том числе и воли Бога.
Тут-то и начинается интересная полемика между представителями автономной и религиозной морали, которая продолжается до сих пор. Ярким примером тому служат многочисленные выступления известного православного проповедника бывшего митрополита Кирилла (В. М. Гундяева), а ныне патриарха Русской православной Церкви по поводу соотношения прав человека и религиозного понимания достоинства. Его программное выступление прозвучало на X Всемирном русском народном соборе в апреле 2006 года. Главный вопрос, который он сформулировал в своем докладе «Права человека и нравственная ответственность», звучит так: являются ли международные права человека действительно универсальными принципами поведения? [17] Логика рассуждений известного отечественного проповедника явно славянофильская, согласно которой русская цивилизация в очередной раз противопоставляется западной. Камнем преткновения оказывается понятие «человеческого достоинства», которое рассматривалось о. Кириллом в качестве «главного мотива и оправдания существования прав и свобод». Он утверждает в своем докладе, что «именно для защиты человеческого достоинства формулируются те или иные права и свободы». В этом утверждении бывший митрополит Смоленский и Калининградский использовал терминологию великого кенигсбергского мыслителя – Иммануила Канта. Принципиальное различие состоит в толковании «человеческого достоинства» и в самом понимании права.
Для Канта право предназначено, прежде всего, защитить «моё», т.е. личную собственность в широком смысле от возможных посягательств со стороны других лиц и самого государства. При этом «собственность» является основой моего личного бытия в этом материальном мире, она включает в себя и уважение к моей личности со стороны других субъектов.
Для современного православного священника право имеет религиозно-нравственное основание, выражающееся в нравственном достоинстве человека, под которым он разумеет «ценность человека в глазах Божиих». Более туманную формулировку трудно вообразить. Сразу возникает ряд вопросов: как человек может узнать свою ценность «в глазах Божиих», даже если признавать, что Бог есть и он один для всех верующих? Каковы универсальные критерии этой оценки или самооценки? По типичному определению нравственного достоинства, речь может идти только о внутренней самооценке, и сам Кирилл говорит о совести, но тут же делает существенную поправку: «этот голос совести может быть заглушен грехом. Поэтому человеку в своем нравственном выборе необходимо руководствоваться также внешними критериями, и прежде всего заповедями, данными Богом»[18].
А так как заповеди получают специальную трактовку в той или иной церковной традиции, то именно представители церкви вместе с представителями государственной власти могут определить ценность человека в глазах Господа и степень его достоинства. От кантовского достоинства и международного права почти ничего не остается. Ибо государственные и церковные интересы, традиционная (холопская) мораль могут вносить существенные поправки в исполнение 10 библейских заповедей, и в том числе заповеди «не лги».
С точки зрения традиционного русского понимания достоинства заповедь «не лги» не имеет статуса абсолютного запрета, смертного греха или унижения человеческого достоинства. Всегда найдутся исключения, оправдания или смягчающие обстоятельства, которые вполне допускают необходимую и спасительную ложь. А следовательно, русское «достоинство» не исключает «права на ложь», и часто нуждается в нем[19].
Во-первых, достоинство в традиционном русском понимании представляет собой общественную оценку материального результата жизни и деятельности человека. Достижение поставленной цели будет заслугой, например, спасение отечества, обогащение государства за счет новых открытий или завоеваний, сохранение прежних традиций и др. Чтобы достичь этих материальных целей приходиться использовать самые разные средства, в том числе, насилие, хитрость, обман. Государственная или родовая целесообразность оправдывает любые средства, и более того, дает право на использование неморальных средств. Так, «ложь во спасение» до сих пор признается большинством россиян священной и необходимой.
Во-вторых, традиционное русское понимание достоинства должно рассматриваться в контексте православного вероучения, которое требует постоянного одобрения со стороны Бога, а точнее от Его наместников на земле. При этом простые верующие рассматриваются в качестве «несовершеннолетних», не способных пользоваться собственным разумом для понимания заповедей и своей греховности. Тотальный контроль за мышлением и поведением человека усиливает раболепство, подхалимство и показуху во всех сферах общественной жизни.
В-третьих, в российской культуре сформировался особый феномен «вранья», отличный от лжи и других видов обмана. В силу того, что «враньё» является отступлением от истины и правды, то оно относится к сфере неистинного и неправдивого. Феномен вранья обстоятельно изучен современным российским психологом Виктором Знаковым, который отмечает его особое значение: 1) враньё в отличие от лжи «не информационный феномен, а коммуникативный: это один из способов установить хорошие отношения с партнером, доставить своей выдумкой удовольствие себе и ему»; 2) оно «не рассчитано на то, что ему поверят, в нем отсутствует намерение обмануть слушателя»; 3) «вранье не предполагает унижения слушателя и получение за его счет какой-то личной пользы»[20].
Таким образом, подытоживает В. В. Знаков: «Классическое вранье характеризуется тем, что враль получает нескрываемое удовольствие, наслаждение от самого процесса изложения небылиц», вместе с тем он хочет обратить на себя внимание окружающих, почувствовать себя более значимым в глазах публики[21].
Почему возникает в России этот феномен «вранья», становится общепринятой формой обмана и укореняется в российских нравах? У Знакова мы находим следующее объяснение: «Одна из главных социальных причин вранья заключается в извечной безотрадности русской жизни и неинтересности, скучности правды, вызывающей желание расцветить, приукрасить ее. И поэтому мотивы этого коммуникативного феномена, интуитивно понятные любому русскому, остаются неведомы большинству иностранцев, проводящих с нами торговые, политические и иные переговоры»[22].
Враньё становится защитным механизмом личности, с помощью которого устраняется внутренняя тревога, вызванная неудовлетворённостью своей жизнью и жизнью общества. В этих условиях обманные средства создают видимость снятия внутреннего напряжения (например, через смех), но вместе с тем еще сильнее закрывают внутренний мир человека, после чего требуются более сильно действующие средства релаксации − например, алкоголь или азартные игры. Поэтому в России чрезмерное употребление крепких спиртных напитков оказывается одним из доступных способов психотерапии, а пьянство − средством ухода из невыносимой реальности.
О каком достоинстве здесь может идти речь, если большинство русских людей до последних столетий оставались крепостными холопами, «винтиками» тоталитарной системы, т.е. несвободными, несамостоятельными индивидами, о которых в Советское время была сложена замечательная «Песня про зайцев»:
«В темно-синем лесу, где трепещут осины,
Где с дубов-колдунов облетает листва,
На поляне траву зайцы в полночь косили,
И при этом напевали странные слова….»
Действительно, в нашем «темном царстве» люди подобны «зайцам», которые бояться белого света «истины», а потому довольствуются своей лесной, дремучей «правдой». В поисках ее они долго блуждают по лесным тропам, ищут свой путь, а по ходу развлекаются с помощью вранья и не теряют надежды на наступление «светлого» утра. Страх «зайцев» перед «волком» и «совой» позволяет использовать любые средства для спасения, в том числе умение путать следы, создавать видимость присутствия и видимость покорности.
− «Заяц» − не дурак! − говорит «сова» «волку», − ведь он хочет нас обмануть. Так пусть же обманывает! Ради Бога, дозволим ему эту маленькую шалость! Ведь найдутся самые трусливые, которые расскажут нам все как есть. Дадим им право на ложь, но только устно, чтобы они еще больше запутались в определениях, и потом просили нас их рассудить. А уж мы – то их рассудим.
Таким образом, представленные аргументы позволяют нам говорить о следующей гипотезе: «ложь во спасение» и враньё не унижают традиционного русского «достоинства», а потому мыслятся морально допустимыми средствами общения.
Своеобразие русского традиционного понимания достоинства человека и его избирательное отношение к различным видам обмана получает интересное обоснование в отечественной религиозной философии.
Русская религиозная философия: от индивидуальной к коллективной «лжи во спасение»
(Вл. Соловьёв, Дм. Мережковский, И. Ильин, Н. Бердяев) [23]
В русской христианской философии XIX-XX веков тема «лжи во спасение» стала серьезным испытанием для многих мыслителей. Начиная с Владимира Соловьёва, благонамеренный, человеколюбивый обман не признавался ложью, т.е. порочным, злым, а значит порицаемым поступком. Соловьёв рассматривает моральное требование «не лгать» только как «формальную» (возможную) правду и противопоставляет ей «идеальную», «чисто-нравственную», учитывающую все обстоятельства данной ситуации («всю полноту смысла происходящего»)[24]. Речь идет об оригинальной концепции правды, которую он изложил в своем главном сочинении «Оправдание добра».
По мнению Соловьёва, понятие правды объединяет в себе три основных нравственных требования – аскетического по отношению к низшей природе, альтруистического по отношению к нашим ближним и религиозного по отношению к высшему существу. В соответствии с этим тройственным характером нравственного отношения он вводит различие между правдой реальной, формальной и идеальной. По мнению отечественного психолога В. В. Знакова, выделение трехкомпонентной структуры обсуждаемого феномена позволило Соловьеву снять противоречие между кантовским пониманием лжи как безусловной противоположности правде и нравственным долгом человека помощь своему ближнему[25].
Согласно Вл. Соловьёву, любое высказывание о человеческих делах можно понимать как правдивое только тогда, когда оно отражает поступок в его действительной целостности и собственном, внутреннем смысле. Иначе говоря, глубокое понимание поступка возможно только в том случае, когда понимающий субъект может ответить на три вопроса: что? почему? в каких обстоятельствах? – что именно сделал человек, каков мотив действия и условия, в которых был совершен поступок.
Русский философ считает, что вынужденная неправда, имеющая человеколюбивые намерения не является ложью, так как моральное намерение оправдывает неправду, например по отношению к убийце и допускает её в качестве всеобщего правила: «… все и всегда должны скрывать таким образом от убийцы его жертву, и, ставя себя самого на место убийцы; я в качестве нравственного существа, могу только желать, чтобы и мне таким же средством помешали совершить убийство»[26].
Таким образом, с благонамеренного обманщика не только снимается любая вина, но ему даже вменяется долг – солгать ради любви, ради спасения жизни, ради высших нравственных ценностей. Для понимания этой позиции Соловьёва необходимо учитывать характерный для русской христианской философии субъективно-нравственный способ мышления. По мнению Знакова, этот способ мышления основан на том, что оставляет решающее слово за говорящим или слушающим человеком в определении того, «можно ли считать правдой истинное высказывание»[27]. Из этого следует, что у Соловьёва ответственность за высказывания не является общезначимым и правовым явлением, так как она корениться в субъективном понимании самого говорящего, в его личном решении того, что должно быть. Решение ситуации будет зависеть от самого человека, насколько он сумеет осознать и различить в своем высказывании сосуществование реальной, формальной и идеальной правды. В случае ошибочного решения он всегда сможет себя оправдать тем, что не понял сути происходящего. «Хотел как лучше, а получилось...».
Субъективно-нравственный способ мышления защищал русского человека от строгой ответственности за совершённые поступки в условиях социально-политической несправедливости и деспотизма власти. За многие века крепостничества, насилия и отсутствия политико-правовых свобод в России сформировался особый тип мышления, не доверяющий внешним обязательным нормам и правилам, и оставляющий за самим бесправным субъектом возможность произвольного решения. Такое решение лежит вне закона, оно является делом совести, а значит не наказуемо.
Субъективно-нравственный характер морального сознания находит опору в христианской этике любви и милосердия, которая усиливает недоверие к внешней законности и социальной справедливости. Перед лицом грядущей вечности и Божьего Суда все внешнее теряет смысл, а мысль концентрируется только на внутренних переживаниях и сильных эмоциях, возбуждаемых страхом смерти. Надежда на бессмертие в потустороннем мире усиливает мотивы прощения всех и вся, а также формирует жертвенно-героический настрой мысли.
Одним из последователей Владимира Соловьёва был Дмитрий Мережковский, наглядно выразивший свое отношение к проблеме спасительной лжи в поэме «Протопоп Аввакум». В Х главе поэмы есть эпизод спасения протопопом беглого каторжника в своем доме. Рискуя своей жизнью и жизнью жены с младенцем, он прячет каторжника под их кроватью и спасает его. Его мучают переживания, сомнения о правильности сделанного. Мережковский говорит от имени протопопа:
«Пусть же Бог меня накажет: как мне было не солгать?
Согрешил я против воли: я не мог его предать.
Этот грех мне был так сладок, дорога мне эта ложь:
Ты простишь мне, Милосердный, ты Христос, меня поймешь:
Не велел ли ты за брата душу в жертву принести.
Все смолкает пред любовью: чтобы гибнущих спасти,
Согрешил бы я, как прежде, без стыда солгал бы вновь:
Лучше правда пусть исчезнет, но останется любовь»[28]
В последних стихах Мережковский ясно выражает свою точку зрения, согласно которой любовь к ближнему подчиняет себе все другие морально-правовые требования разума и представляется единственной спасительной силой в этом мире. Любовь оправдывает всё. Как оправдал бы он смерть жены с младенцем, если бы каторжника нашли под их кроватью? Оправдательная риторика уместна и приятна при благополучном исходе дела, при успешности самого обмана.
В данном случае «ложь во спасение» приводит к мучительному выбору между христианской любовью к преступнику и естественной любовью к своей жене и грудному ребенку. Если Мережковский отдает предпочтение христианской сострадательной, возвышенной любви, то тем самым он не хочет знать «правды» о смертельной опасности для своих близких, родных людей, перед которыми он действительно ответственен, и перед совестью, и перед обществом. Почему беглый каторжник оказывается «дороже», «любимее», чем родная семья? Разум здесь бессилен, он уступает место нравственно-религиозным эмоциям, очень неопределенным по своему содержанию, и упованиям на божью милость. «Любовь» превращается у Мережковского в странную и даже страшную силу, которая не только подавляет разум, но и деформирует моральное сознание человека, приучая его к легкомыслию и безответственности.
Любовь выше истины и правды – эта мысль, сформированная в крепостной России, живет до сих пор. Так, известный российский кинорежиссер и политик Никита Михалков неоднократно повторял в своих интервью при вручении ему премии «Оскар», что «правда, сказанная без любви, есть ложь». Когда журналисты просили его объяснить эту мысль, то он отвечал: «Потому что отсутствие в России законов и желания их исполнять можно компенсировать только любовью»[29]. Эта позиция подтверждает то, что в России до сих пор живет убеждение, что правда, основанная на личных пристрастиях или любви, может быть равноценным заменителем любых законов. Поэтому можно легко превратить правду-истину в «ложь», сославшись на свое личное видение, чувствование, прозрение сложившейся ситуации.
Как захочет барин, так и будет – эта многовековая установка русского сознания делает всех невменяемыми, в том числе обязывает лгать и любить свою ложь почти как святую.
Христианское богословие не может открыто принять святость «лжи во спасение», так как это явно противоречит священному Писанию, поэтому предлагаются различные варианты различения понятий. Например, известный русский философ Иван Ильин предлагает видеть существенную разницу между понятиями «ложь» и «неправда». В сочинении «Аксиомы религиозного опыта» он пишет, что проблему лжи «можно разрешить только при религиозном понимании дела»[30].
Ильин исходит из того, что подлинная религиозность исключает всякую ложь. Под «ложью» он понимает не любое несоответствие слов действительному положению дел. Например, сказки или мифы, карикатуры или шутки искажают действительность, но не будут предосудительными, а также, по его словам, «можно «сказать неправду» или «скрыть правду» – и не солгать»[31]. Добросовестное заблуждение или вынужденный обман не будут считаться ложью.
Ильин поясняет это следующим образом: нет и не может быть такого морального правила – «говори всегда и всю правду». Во-первых, потому что «вся правда» вообще нам не дана, мы не можем всего знать, а во-вторых, нет и не может быть в жизни всегда уместного и все исчерпывающего морального образа действий. Поэтому необходимо отличать неправду от лжи.
Неправда, по его мнению,основана на эмпирических фактах и несоответствии им. Она не является проблемой морали и не подчиняется её строгим законам; она есть проблема художественного творчества, жизненного такта и любви к людям и повинуется высшим духовным целям человеческого существования.
Ложь коренится в духовных состояниях человека, она есть проблема духовного характера и религиозной центрированности лица. По словам И. Ильина, ложь касается не «обстоятельств», а «состояний»; не «внешнего», а «внутреннего»; не повседневного существования, а духовного бытия; не «слишком человеческого» и не «чисто человеческого», а Божественного в человеке. Её основную природу он предлагает искать не в расхождении между словом и фактом, или между словом и жизненным содержанием, а в отношении слова, веры и дела к духовно-религиозному центру личности.
Ильин часто прибегает к образно-метафорическому описанию религиозного опыта человека как особого духовного состояния «центрированности» – сосредоточенности на связи с Богом. «Центр личности» или «Купина» – это ключевой образ-понятие, выражающее нравственно-волевое начало, источник принципов поведения и самой предметной деятельности человека. Поэтому ложь очень опасна для этого «центра», так как она «искажает Божий луч и пресекает его благодатное действие», она изменяет и подменяет истину в Божием деле и «мешает Свету овладеть жизнью, переродить и освятить ее ткань»[32].
Философ настаивает на том, что религиозный человек не может быть лжецом, ибо ложь органически противна ему; он просто не способен к ней. Если же ему приходится говорить бытовую неправду, то он больше всего заботится о том, чтобы она не коснулась «Центра личности», не пресекла Божиих лучей и не превратилась в ложь, проникая с повседневной поверхности поступка в его духовную глубину. Из этого следует, что «ложь во спасение» не есть подлинная ложь, она будет лишь «ценностно-невинной неправдой», которая не затрагивает центральной «Купины» истинно религиозного человека. Остаётся только найти такого религиозного человека, который органически не способен солгать, духовный Центр которого подобен неприступной крепости.
К сожалению, Ильин не приводит исторических примеров таких людей. А это значит, что он говорит об идеале религиозной личности. В связи с этим возникает серьёзный вопрос: как узнать – проникает ли высказанная неправда в духовный Центр обычного человека или нет, т.е. становится ли она ложью или нет? Ведь сам философ приводит множество примеров и разновидностей лживого поведения человека и его разрушительного воздействия на частную и общественную жизнь. Ложь распространена повсеместно и привычна для многих людей. Тем более, что многие считают ее той самой неправдой, которой не нужно опасаться, порицать и наказывать.
Как же точно отличить ложь от неправды обычному (не идеальному) человеку? Ильин описывает страшные симптомы, которые нужно почувствовать и пережить: «Надо быть орлом, чтобы смотреть в солнце открытыми глазами; и вот, человек, лишенный "орляго зрака", спешит спрятать свою голову в плаще сатаны; и начинает лгать»[33]. «Она прерывает искренний ток между личными огнилищами. Искры не вылетают из личной купины и не долетают в другую; то, что исходит – не искренно, не предметно и не чисто. От этого гаснет взаимное доверие, а затем – и взаимное уважение. Души мутятся»[34]. «Дым лжи выедает духовные глаза и отравляет в душах предметное дыхание»[35].
Можно привести и другие ужасные симптомы, но уже этих достаточно, чтобы понять «духовную ядовитость лжи». Самое страшное в том, что и государство, и церковь могут вступить на путь организованной лжи и обмана, прикрывая их исторической необходимостью, благими целями и полезными задачами. И тогда общество приближается к своему распаду и гибели.
Как же отличить неправду от лжи? Нужно ли вообще считать неправду «ценностно-невинной», предварительно отделив ее от художественной игры и добросовестного заблуждения? С этими вопросами нас оставляет Иван Ильин, и мы попытаемся найти ответы у другого русского философа – Николая Бердяева.
Бердяев пытается более ясно и рационально объяснить причины распространенности лжи в человеческом мире. Если Ильину конечная причина лжи видится в «недостаточной религиозной центрированности души», то Бердяев указывает на страх, от которого человек защищается с помощью лжи. В статье «Парадокс лжи» Бердяев дает концептуальный анализ такого феномена общественной жизни ХХ века как «коллективная ложь»[36].
Основание коллективной лжи находится в сознании человека, деформированном под влиянием страха. Эта деформация приводит к понятию социальной лжи «как долга». Бердяев полагает, что если древние мифы возникали из коллективного бессознательного творчества, то современные государства заинтересованы в сознательно организованной лжи. «Нужно признать, – пишет Бердяев, – что ложь кладется в основание организации общества». Политические прагматики говорят о необходимости лжи, ибо истина приведёт к распаду общества. Ложь признаётся социально полезной и настолько деформирует сознание, что теряется сам критерий истины. Такие изменения Бердяев находит у Ницше, Маркса и в прагматизме. «Ницше уже говорил, что истина есть порождение воли к могуществу. Маркс учил, что познание истины связано неразрывно с революционной классовой борьбой и не может быть истина отрешенной от этой борьбы. Прагматическая философия утверждает, что истина есть полезное и плодотворное для процесса жизни. Таким образом, истина целиком подчиняется витальному процессу, ее критерием является возрастание могущества жизни. И это на практике приводит к тому, что перестают искать истины, ищут силы. Но для приобретения силы ложь может оказаться плодотворнее истины»[37].
Бердяев утверждает, что ложь является основой так называемых тоталитарных государств, без организованной лжи они никогда не могли бы быть созданы. Ложь внушается, как священный долг, долг в отношении к избранной расе, или в отношении к могуществу государства, или в отношении к избранному классу. Ложью не признаётся то, что усиливает динамизм, служит возрастанию жизни, что даёт силу в борьбе.
Ложь, которая практиковалась в советской России, Бердяев называет диалектической. Она оказывалась диалектическим моментом в осуществлении совершенного коммунистического общества. Каждый момент диалектического процесса релятивизируется для окончательного торжества воли господствующего класса. Ложь в фашизме и национал-социализме носит не диалектический, а витально-динамический характер. Проповедь истребляющей ненависти к евреям и марксистам нужна для усиления динамизма, для возрастания витальной силы. Отсюда образ врага «есть фикция, необходимая для взвинчивания энтузиазма, для оправдания насилия, для возрастания могущества» [38].
По мнению Бердяева, в ХХ веке происходит процесс «экстериоризации совести», когда совесть переносится из глубины личности на коллективы и на динамику коллективов в истории. В ходе такого процесса какая угодно ложь может оказаться оправданной. И в прошлые времена ложь оправдывалась по разному, но никогда еще не происходило в таких размерах «изъятие совести из глубины личности и перенесение ее на коллективные реальности, как в наше время» [39]. Личная совесть, личное нравственное суждение не только парализуются, но от них требуют паралича, а как следствие – индивидуальное сознание лишается права на собственное суждение о реальности, о подлинности или фиктивности происходящего в обществе. Коллективный (партийный) разум устанавливает «истины» и предписывает способы их освоения.
«Человек принуждается ко лжи во имя того или иного понимания коллективного блага» – это еще одна разновидность«лжи во спасение», которая сохраняет свое могущество и в ХХI веке. Бердяев видит в этом принуждении ко лжи одну из причин существования тоталитарных режимов, подавлявших права и свободы людей. Ложь в самых разных вариациях проникала во все сферы жизни авторитарного общества и постепенно разрушала структуру морального сознания. Многочисленные примеры мы можем найти в недавнем советском обществе, которое не выдержало накопившегося груза обмана и насилия.
Заключение
Современные российские «нравы» переживают период глубокой трансформации, в ходе которой происходит переосмысление основ общественной «нравственности». Этот процесс очень сложный и болезненный, т.к. для традиционного авторитарного государства «безнравственность» является угрозой национальной безопасности.
Если же рассматривать «падение нравов» как неизбежный «рост свободы», как процесс раскрепощения человека, то нужно учитывать, что он высвобождает огромную энергию, которую нужно цивилизованно и творчески направлять на созидательные цели. Кто определит эти цели? Сам человек или государственные учреждения, общественные институты, политические лидеры? Наверное, все вместе, в ходе открытого, публичного и правомерного диалога. По словам Канта, только «публичное применение собственного разума» может гарантировать свободное развитие каждого гражданина и общества в целом.
Итак, будет ли право на ложь способствовать свободному развитию граждан нашей страны? Нет, не будет. В системе современного российского законодательства право на ложь имеют только специальные субъекты, например, разведчики, представители спецслужб, дипломаты и некоторые другие, т.е. те лица, которые вынуждены обеспечивать безопасность страны и граждан. Обычные граждане такого права в строгом юридическом смысле иметь не могут, ибо оно будет разрушать договорные отношения и взаимную ответственность граждан. В свою очередь моральное право на ложь сильно укоренено в российских нравах и в личной нравственности многих сограждан, с помощью которой они противопоставляли себя официальной «коммунистической» или классовой морали.
Отказ от классовой морали в современном буржуазно-демократическом обществе неизбежно ведёт и к переосмыслению «нравственности», к её трансформации в личную, групповую, корпоративную и общечеловеческую этику. А из этого следует, что кантовский безусловный морально-правовой запрет на ложь становится направляющим вектором не только для преобразования традиционной российской «нравственности», но и для совершенствования всего международного коммуникативного пространства.
Гагаев А.А.(МГУ, Саранск)
Гагаев П.А. (ПИРО. Пенза)
 2015-01-30
2015-01-30 530
530








