Теренс Хокс
В моей статье внимание концентрируется на особенном моменте в высшей степени сложного текста: моменте, когда король Лир поднимается, чтобы приступить к делу — объявить о своем «заветном решении»:
Подайте карту мне. Узнайте все:
Мы разделили край наш на три части... (I, 1, 38—41). Поместив эти строки в контекст материальной истории начала XVII в., когда была написана пьеса, мы не можем не заметить эмблематическую силу этих строк. Угрожающие слова «Подайте карту мне» и дальнейшее развертывание программы жесткого раздела помогают увидеть пьесу в центре сложной панорамы, где возник призрак политического и социального распада несмотря на усилия со стороны короля Якова представить трон в качестве источника и гарантии социального единения.
Короче, этот момент связан с вопросами широкого культурного плана и помогает их уяснению. Два из этих вопросов представляются особенно важными. Во-первых, сама карта — предположительно окончательный текст, определяющий королевство, — говорит о редукционистских намерениях Лира, которые тогдашняя, по большей части неграмотная публика обязательно бы уловила и отреагировала бы на них. Во-вторых, предлагается решающий оксюморон, трагическая сущность которого становится основой содержания пьесы: король, которому надлежит быть воплощением социального, политического и духовного единства, здесь выступает как разъединитель.
Работа Глинна Уикема дает нам возможность иметь полную определенность по последнему вопросу К Наследование королем Шотландии английского трона в 1603 г. создало угрозу радикальных перемен в британской политике. Пропагандистская машина короля Якова ответила на это воскрешением легенды о пророчестве Мерлина, по которому второй Брут должен триумфально вернуться в новую британскую Трою, созданную его предшественником. Первый, троянский, Брут основал Тройновант (т. е. Лондон) на берегах Темзы, но затем, к несчастью, разделил свое королевство между тремя сыновьями, благодаря чему возникли Уэльс, Англия и Шотландия. Второй Брут снова объединит государство, которое будет в его честь называться Великобританией. Официальная история представляет Якова именно так. Говорится, что его восшествие на престол в 1603 г уберегло Британию от иноземного вторжения и гражданской войны. Своевременное раскрытие Порохового заговора 5 ноября 1605 г. подкрепило процесс, окончательно ратифицированный Союзом двух корон по парламентскому акту 1608 г. Эти события трактовались как «чудесные», а для этого использовались предсказания, легенды и предзнаменования, чтобы создать вокруг Якова и его семьи то, что Уикем называет «риторикой и литературой нового мессианского видения».
Яков создавал себе образ не только второго Брута, но и «отца» своей страны (Parens Patriae), взяв себе девиз «Блаженны миротворцы» (Beati Pacifici), и именно с этого момента название «Великобритания» впервые начинает употребляться в языке, когда речь идет о территории страны.
«Король Лир», не говоря уж о «Макбете», совершенно явно составляет часть этой концепции, поддерживает ее и находится в гармонии с ней. На этом уровне материальное воздействие самой карты — всей нелитературной культуры, сведенной к схеме и трактуемой как схема, — является значительным, и его последствия и составляют дальнейшее сложное содержание пьесы. Раздел Лиром королевства оказывается чем-то гораздо более значительным, нежели причуда или каприз старика. Он наглядно представляет политическую и социальную катастрофу, масштабы которой предвосхищают и объясняют современные тогдашним зрителям события. В результате он выступает как часть более широкой символики, выходящей за рамки театра и охватывающей сферу культуры в целом, и здесь значащим легко может быть какое-то действие, связанное с разделом самой карты как реального предмета. Значимым является то, что мужа Гонерильи зовут герцог Альбанский — от старого названия Шотландии, а мужа Реганы — герцог Корнуэльский — от старого названия Уэльса и западной части Англии. Возможно даже, что эти части отрывали от карты Лира (несомненно, карты Британии) и вручали тем, кто их получил, чтобы оставить Корделии третью часть, «обширнее, чем сестрины», — т. е. Англию, что должно было вызвать одобрение лондонской публики.
Давайте теперь перейдем к знаменитой постановке этой пьесы, которая состоялась спустя почти 300 лет после премьеры. Она тоже имела место в Лондоне. Я имею в виду спектакль, поставленный в театре «Олд Вик» Харли Гренвилл-Баркером с Джоном Гилгудом в главной роли; он шел с 15 апреля по 25 мая 1940 г.
Гренвилл-Баркер был, как известно, знаменит своим «новаторством» в постановках Шекспира. На деле же это были хитроумные приемы, рассчитанные на то, чтобы добиться большего психологического реализма, чтобы пьесы Шекспира выглядели более связными, более правдоподобными, а их структура больше гармонировала бы с тем, что он считал их целью, — исследованием трансцендентального, как бы «универсального» человеческого характера в действии.
В его «Предисловиях к Шекспиру», оказавших значительное воздействие на шекспироведение, значительно усилен акцент на универсальности, на моментах, которые связаны с желаемой детализацией индивидуального «характера», что представлено как нечто превосходящее непосредственные проблемы истории, экономики и политики.
Интересно обратиться именно к тому моменту пьесы, о котором уже шла речь. Интерес Гренвилл-Баркера в этой сцене связан, как представляется, целиком с характером Лира. В самом деле, в одном из откликов на постановку сказано, что в спектакле достигнута «более четкая обрисовка характера... не размытая эмоциями... Мы ясно видим старика, который все еще энергичен и властен...». В знаменитом «Предисловии к „Королю Лиру"» Гренвилл-Баркер уже высказывал мнение, что Шекспир показывает силу и гений Лира в начальных сценах не через какие-то значительные поступки, а «в мелочах, где проявляется то, что есть Лир». Кристин Дымковски поясняет: «В постановке такой эффект достигался различными приемами. Например, когда Лир требует: „Подайте карту мне", Гилгуд „не глядя... слегка протягивает руки к стоящему рядом с ним камергеру"; такой легкий жест передавал уверенность Лира в своей власти».
Мы должны отметить, до какой степени благодаря этому ослабляется присутствие и воздействие карты и возрастает ощущение силы «личности» Лира. Короче, «находки» такого порядка с их мелочной обрисовкой «характера» совершенно заслоняют политический смысл пьесы, который, несомненно, прочитывался в тексте в условиях 1940 г. в той же степени, что и 300 лет назад.
В конце концов, события этого времени (с 15 апреля по 25 мая) явно указывали на возможность политического и общественного кризиса, равного тому, что угрожал при короле Якове: распада Великобритании как национального государства под натиском внешних сил. События этого месяца были таковы, что его, пожалуй, можно назвать наиболее критическим в новой истории Британии: целостность государства оказалась в серьезной опасности.
15 апреля (в день, когда состоялась премьера) союзные войска высадились в оккупированной Германией Норвегии (в Нарвике). Это была одна из самых злополучных военных операций: ее провал был непосредственным поводом к отставке премьер-министра Невилла Чемберлена.
9 мая немцы вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург.
10 мая Чемберлен подал в отставку, и премьер-министром стал Уинстон Черчилль.
21 мая пали Аррас и Амьен.
23 мая пала Булонь, осажден Кале.
25 мая (когда состоялся последний спектакль) было уволено 15 французских генералов. Немцы стояли всего в 25 милях от побережья Кента. Первые германские бомбы упали на британскую землю, а журнал «Пикчер пост» объявил: «Германские парашютисты могут появиться в любую минуту».
Поразительно, но мало кто из рецензентов связал спектакль «Олд Вик» с этими событиями. Актеры проявили такую же способность отвлекаться от происходящего. Говоря о спектакле, Гилгуд писал: «Это, казалось, отвлекло нас от тех ужасных событий, которые происходили во Франции. Когда люди приходили к нам, я говорил: „Как вы можете спокойно смотреть эту душераздирающую пьесу, когда в мире происходят такие страшные вещи?", а они отвечали, что она придает им мужества... Великолепие этой пьесы и величие ее поэзии заставляют людей забыть о своих проблемах. Шекспир всегда имел такое удивительное воздействие на любую публику...» (курсив мой. — Т. X.).
 Однако данная конкретная публика испытала значительно большее, чем постоянная угроза нерушимости королевства, отставка премьер-министра и знаменитое обещание, данное 13 мая его преемником, что будущее не сулит ничего, кроме «крови, тяжкого труда, пота и слез» в стремлении к «победе любой ценой». 24 мая англичане были также свидетелями принятия парламентом (менее чем за три часа) Закона о чрезвычайных полномочиях.
Однако данная конкретная публика испытала значительно большее, чем постоянная угроза нерушимости королевства, отставка премьер-министра и знаменитое обещание, данное 13 мая его преемником, что будущее не сулит ничего, кроме «крови, тяжкого труда, пота и слез» в стремлении к «победе любой ценой». 24 мая англичане были также свидетелями принятия парламентом (менее чем за три часа) Закона о чрезвычайных полномочиях.
Эта драконовская мера дала правительству фактически неограниченную власть «контролировать всех людей и всю собственность». Банки и финансы перешли под прямой контроль правительства. В то же время был принят Закон о государственной измене, предусматривающий смертную казнь за подрывную деятельность.
Эти меры были объявлены Клементом Эттли по радио 22 мая. Он сказал: «Сегодня от вашего имени парламент предоставил правительству всю полноту власти, чтобы контролировать всех людей и всю собственность... Усилия и собственность всех должны быть в распоряжении правительства для решения общей задачи... Теперь правительство имеет право призвать любого гражданина выполнить работу, которая более всего необходима в данный момент в интересах нации» (курсив мой. — Г. X.). По поводу этих законодательных мер можно сделать много комментариев. Но достаточно сказать, что их немедленный эффект был поистине революционным: они мгновенно превратили «нас» в «них», демократию в тоталитаризм. Мы стали — каковы бы ни были причина и цель, — тем, против чего мы боролись.
Однако в театре «Олд Вик», где шел «Король Лир», в котором должны были отразиться все эти сложные парадоксы, казалось, ничего не произошло. Это что-то вроде случая из рассказов о Шерлоке Холмсе: собака, которая не лает. В чем же дело?
Давайте начнем с более тщательного рассмотрения вопроса. Закон о чрезвычайных полномочиях заключает в себе любопытный парадокс. Он устраняет малейшие признаки индивидуальных прав. И все же в контексте своего времени он казался законом, который (как тогда полагали) каким-то образом способствует развитию индивидуальности. Правительство даже считает возможным обращаться непосредственно к отдельной личности («Сегодня от вашего имени...»)! Как же удался этот трюк?
Я полагаю, что это частично сделано средствами Искусства. Искусство, особенно Искусство как понятие, внедряемое системой образования, особенно в форме литературы, и конкретно Драматургия Уильяма Шекспира каким-то образом участвует в этом процессе, служит ему и усиливает его. Иными словами, пьесы Шекспира помогают создать громадный социальный и политический парадокс: он почти так же велик, как трагический оксюморон короля Лира как разъединителя страны. Эти пьесы помогают стирать индивидуальность во имя индивидуальности. «Лир» Гилгуда—Баркера представляет собой мощный символ этого процесса.
В течение веков мы создавали монстра по имени «Шекспир» (это прозвище самой «Культуры», но этот монстр возник в определенный исторический момент, позднее приняв форму, отвечающую требованиям профессионализировавшейся литературной критики).
В рамках института, в который превращен академический предмет под названием «Английская Литература», этот монстр служит для создания и упрочения того парадоксального ощущения «универсальной» индивидуальности, которое, по мнению Мишеля Фуко, составляет неотъемлемую часть великого замысла, охарактеризованного так: «Способность государства создавать расширяющуюся всеобщую сеть контроля находится во взаимосвязи и взаимозависимости с его способностью порождать и усиливать детализацию индивидуальности».
«Король Лир» в постановке Гренвилл-Баркера — хороший пример этого процесса в действии. Усиленная забота о «детализации индивидуальности», т. е. о характере Лира, уводит в сторону от более широких вопросов, имевших место как во времена Шекспира, так и в 1940 г., которые побуждают зрителей вывести смысл из пьесы, а не пассивно ее прожевать. Карта, этот почти брехтовский текст, который красноречиво говорит в первой сцене и составляет немой, но иронический комментарий претензиям Лира, для Гренвилл-Баркера становится просто реквизитом, который выделяет один из аспектов «характера». В результате такой «Лир» вместо того, чтобы быть связанным с политикой, уводит от нее. Спектакль предлагает призрак индивидуальности в утешение своей публике, которая лишилась индивидуальности, стандартизирована, мобилизована, взвешена, измерена, посажена на карточки, одета в униформу, лишена гражданских прав, «покорена». В некотором смысле такая постановка не оспаривает Закон о чрезвычайных полномочиях, а определенно его узаконивает и могла бы эффективно использоваться для подавления всякой оппозиции. В конце концов мы воюем с немцами, чтобы защитить именно это («Короля Лира» в театре «Олд Вик»). Чрезвычайные полномочия необходимы для сохранения нашего наследия, наследия, канонизированного в академическом предмете «Английская Литература», краеугольным камнем которого является Бард.
Гренвилл-Баркер, конечно, был к этому времени трагической фигурой шекспировского масштаба. Его закат начался в 1916 г., когда отмечалось 300-летие со дня смерти Шекспира и когда стало ясно, что создание Национального театра, за который он столь усиленно ратовал, отодвинулось на еще более долгий срок, чем это казалось раньше. Вместо этого в августе 1916 г. состоялась премьера мюзикла «Чу-Чин-Чау», который шел пять лет.
Это произвело на Гренвилл-Баркера катастрофическое воздействие. Он пишет (в своем «Образцовом театре», 1922) о «горьком осознании... полной и позорной неспособности театра во время [первой мировой] войны подняться в сферу тонких чувств и красноречия». Вероятно, в поисках этих качеств он поступил на службу в британскую военную разведку в октябре 1916 г. и работал там до конца военных действий. (В феврале 1914 г. он побывал в Москве, где познакомился со Станиславским.) В 1918 г. он женился на Хелен Хантингдон и покинул свое театральное царство. Один биограф назвал его «героем, который отказался от борьбы, стряхнул с себя пыль сражений и стал просто профессором» s. Затем он обосновался в своем кабинете (его жена считала, что литературная работа — более респектабельное занятие, чем театр) и подготовил почву для публики, интересующейся только конкретной «детализацией индивидуальности», написав свой чрезвычайно влиятельный труд «Предисловия к Шекспиру», где, как мы видели, сосредоточил внимание на создании индивидуальных характеров и тем стимулировал массовое развитие предмета «Английская Литература», который, в свою очередь, поддержал и канонизировал такой подход.
Однако карусель времени приносит с собой превратности судьбы. К 1940 г. Гренвилл-Баркер переехал в Париж. Во время репетиций «Короля Лира» его жена слала ему в Лондон сообщения о том, что немцы наступают. Подобно Лиру, этот человек, отказавшийся от своего театрального царства, все еще искал возможности сохранить в нем хотя бы небольшой плацдарм, поэтому репетиции (которые он фактически проводил тайно) продолжались почти вплоть до дня премьеры. Однако эти «заветные решенья» потерпели неудачу. Ветер дул, пока не лопнули щеки. В июне 1940 г. Париж пал. В квартире Гренвилл-Баркера водворились гестаповцы. Он уехал в Америку (еще раз послужив британскому правительству в каком-то таинственном качестве). Но карта его Европы была решительно свернута и больше не понадобилась ни в течение его жизни, ни на нашей памяти.
Но это все еще не конец истории. В этой работе я представил Гренвилл-Баркера как нового короля Лира: человека, который, «разделив» свою собственную жизнь, отрезал себя от «настоящего» Шекспира (как Лир — от Корделии), являющегося выражением самоочевидной прозрачной Истины, и который, как следствие, вверился фальшивым Гонерилье и Регане «Английской Литературы». Мне могут сказать, что я заблуждаюсь, преувеличивая биографический момент или, во всяком случае, «персонифицируя» то, что на самом деле является широким и сложным культурно-историческим процессом. Мне могут даже сказать, что я «демонизирую» Гренвилл-Баркера и его постановку 1940 г. на том основании, что «общественно значимое» или «политическое» прочтение пьесы является более «верным», более близким к шекспировскому «оригиналу», чем «личные» или «психологические» версии Шекспира в XX в. Однако, я думаю, есть основания считать его показательной фигурой, а его биографию — «мифом», важным для понимания этой фигуры. В конце концов его деятельность (в особенности «Предисловия к Шекспиру») имела огромное влияние. Но, возможно, то фундаментальное противоречие, которое я построил:
| Шекспир правдивый (политический) общественный | VS | «Шекспир» фальшивый (психологический) индивидуальный, |
не выдерживает слишком серьезного анализа по следующим причинам.
1. Понятие самоочевидного, единого предмета «Шекспир», автора прозрачно «правдивых» текстов, является, конечно, глубоко сомнительным: ни один пример не мог бы быть более убедительным, чем пьеса «Король Лир». В конце концов существуют два «органически несхожих» текста пьесы, в кварто и в фолио, а не один: это недавно подтверждено Оксфордским изданием шекспировских пьес, где помещены оба варианта, что произвело впечатление шока. Если мы добавим сюда современные соединения этих двух текстов в один, то это означает, что в наше время всегда существовало по крайней мере три текста «Короля Лира». В том отношении, на котором я сосредоточиваю внимание, различия между вариантами кварто и фолио достаточно значительны.
Lear. Meane time we will expresse our darker purposes,
The шар there; know we have divided
In three, our kingdome; and tis our first intent
To shake all cares and busines of our state
Confirming them on yonger yeares... (Ql. 1608).
Lear. Meane time we shall express our darker purpose.
Give me the map there (F3, F4, «here»). Know that we have divided
In three our kingdom: and 'tis our fast intent
To shake all cares and business from our age
Conferring them on younger strengths... (Fl. 1623).
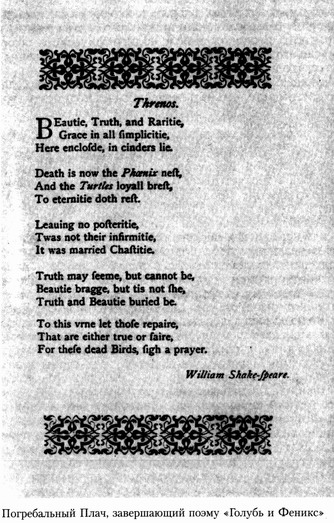
Короче говоря, о самом Шекспире можно сказать, что он, как Лир, разделил свое королевство, создал текстуальную «карту», ослабляющую и разбивающую то единство, которое я защищаю. Если Гренвилл-Баркера можно назвать Лиром, так же можно назвать и Шекспира.
2. Утверждение, что постановка «Короля Лира» Гренвилл-Баркера с ее «психологическим» уклоном не предлагает политической интерпретации пьесы, также шатко. На самом деле она представляет собой весьма политизированную интерпретацию текста: такую, которая является глубоко консервативной (даже сегодня) и, конечно, хорошо согласуется с официально пропагандируемой версией последней войны (как борьбы за права и свободы личности и проч.). В конце концов среди зрителей мы могли бы представить себе — а может быть, и увидеть — Э. М. Тилльярда, чья «Елизаветинская картина мира», имеющая ярко выраженную политическую направленность, должно быть, вызревала в это время, так как была издана в 1943 г.
3. Мой собственный анализ этой ситуации — сама эта статья — является, конечно, тоже картой раздела, с помощью которой я, как и Лир, разделил свое королевство между Корделией (Шекспиром) и Гонерильей / Реганой («Шекспиром»). Это ставит меня в один ряд с Гренвилл-Баркером и (что не так уж плохо) с самим Бардом. Все мы — составители карт. И из этого, конечно, вытекает заключительная мысль:
4. Противопоставление «реальный мир — мир на карте, действительная земля — мнимая земля», с чего я начал и что составляет смысл всей работы, также весьма сомнительно. Это на самом деле один из вариантов сомнительных противопоставлений типа Природа — Культура, Речь — Письмо. Но в конце концов Культура производит Природу. Письмо определяет наше восприятие Речи и, возможно, выражает ее сущность; карта скорее создает землю, чем просто ее описывает или представляет. Не существует «реальной», не отмеченной на карте, неисследованной земли, так же как нет, конечно, объективного ее изображения в виде карты — несмотря на (характерные) попытки, скажем, викторианцев с их «Военно-геодезическим обследованием» Великобритании. Составлять карты — значит жить, а жить — значит составлять карты (или тексты). Пожалуй, единственная правда состоит в том, что одни карты более прогрессивны, чем другие.

Юлий Цезарь, ты еще могуч!»
Почти за столетие до того, как Шекспир создал своего «Юлия Цезаря», Николо Макиавелли, один из самых блестящих политических умов Ренессанса, настойчивее других стремившийся к познанию внутренней связи между судьбами отдельных личностей и объективно существующими историческими законами, писал: «Утверждаю также, что счастлив тот, кто сообразует свой образ действий со свойствами времени, и столь же несчастлив тот, чьи действия со временем в разладе». «Всегда надо соображаться, особенно в важных поступках, с условиями времени... люди, отстающие от времени по глупости или по врожденной склонности, обыкновенно бывают несчастны и терпят неудачи во всех предприятиях. Наоборот бывает с теми, которые умеют согласоваться с современными требованиями»2.
После приведенных выше рассуждений Макиавелли нет нужды доказывать, что великий флорентиец отводил решающую роль не субъективным намерениям индивидуума, а закономерностям, присущим данной эпохе.
К аналогичному взгляду на ход исторического процесса и на судьбы участвующих в нем отдельных личностей склонялся и Шекспир. Мысль о примате «времени» или, говоря современным языком, исторической тенденции над замыслами индивидуумов неоднократно высказывают персонажи пьес, созданных Шекспиром еще в ранний период творчества. Особенно выразительны в этом плане слова Уэстморленда, обращенные во второй части «Генриха IV» к мятежному лорду Моубрею:
О my good Lord Mowbray,
Construe the times to their necessities,
And you shall say, indeed, it is the time.
And not the king, that doth you injuries. (IV. 1, 104—107)
(Добрейший лорд,
Постигнув роковую неизбежность
Событий наших дней, вы убедитесь,
Что ваш обидчик — время, не король.)
Здесь «время» совершенно отчетливо выступает как синоним исторической закономерности, проявляющейся на определенном этапе развития английского государства.
Однако еще более полно значение «времени» в исторической концепции Шекспира раскрывается не в афористических формулировках, принадлежащих отдельным персонажам, а в той грандиозной картине столкновения королевской власти и центробежных сил феодальной анархии, которая составляет основу обеих частей «Генриха IV» — хроники, созданной незадолго до «Юлия Цезаря». Поражение баронов в борьбе с королем Шекспир в конечном итоге объясняет не как результат субъективных слабостей, свойственных противникам Генриха. Очень важно отметить, что на всем протяжении первой части хроники нельзя найти ни одного эпизода, где поэт хотел бы принизить или дискредитировать в человеческом плане Хотспера — самую блестящую личность среди мятежных лордов. Трагическая гибель этого великолепного рыцаря, ставшего во главе феодального бунта, так же как и поражение его союзников, оказывается не результатом личных заблуждений, а следствием всемирно-исторического заблуждения, владевшего классом феодалов в период, когда этот класс, веря в незыблемость основ феодального общества, выступал против новой исторической тенденции, выражавшейся в борьбе монархии за установление абсолютной власти короля.
Несмотря на все глубочайшее различие между Хотспером и Брутом в идеалах и в средствах борьбы за них, оба героя попадают в весьма сходное положение. Роковая ошибка Брута, определившая его судьбу, состоит именно в том, что он не смог понять исторической закономерности, в результате которой единовластие должно было восторжествовать в Риме. Начиная борьбу против цезаризма, Брут уподоблял его змее, с которой он рассчитывал покончить, отрубив ей голову. Но на деле цезаризм уже стал гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастают две новые.
Брут не мог бы вывести отстаиваемые им идеалы из строгого анализа окружающей его римской действительности. Эти идеалы в значительной степени уходят своими корнями в предания о той борьбе за демократию и становление республики в Риме, которую вели некогда легендарные предки Марка Брута. И поэтому идеалы Брута оказываются абстракцией и анахронизмом.
Весьма показательно, что, избирая художественные способы для характеристики Брута в этическом плане, Шекспир прибегает к средствам, близким к тем, которыми он рисует образ другого анахронистичного героя — рыцаря Хотспера, сталкивающегося с миром политиков вроде Генриха IV или его сыновей. Одна из важнейших пружин, движущих Хотспером,— это честь, ради которой он готов идти на риск, граничащий с безумством:
By heaven, methinks it were an easy leap
To pluck bright honour from the pale-fac'd moon;
Or dive into the bottom of the deep,
Where fathom-line could never touch the ground,
And pluck up drowned honour by the locks.
(I, 3, 201—205)
(Клянусь душой, мне было б нипочем
До лика бледного Луны допрыгнуть,
Чтоб яркой чести там себе добыть,
Или нырнуть в морскую глубину,
Где лот не достигает дна,— и честь,
Утопленницу, вытащить за кудри.)
Но вспомним, что и Брут соглашается встать на защиту республики потому, что считает борьбу за общее благо делом своей чести; а забота о чести для него, как и для Хотспера, — важнее, чем жизнь или смерть:
If it be aught toward the general good,
Set honour in one eye and death i' th' other,
And I will look on both indifferently;
For let the gods so speed me as I love
The name of honour more than I fear death.
(I, 2, 85—89)
(Коль это благу общему полезно,
Поставь передо мной и честь и смерть,
И на обеих я взгляну спокойно.
Богам известен выбор мой: так сильно
Я честь люблю, что смерть мне не страшна.)
А в мире уже восторжествовало то отношение к чести, которое с циничной откровенностью сформулировал один из самых наблюдательных шекспировских героев, сэр Джон Фальстаф:
Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. (V, I, 131—133)
Поэтому у Брута нет и, собственно говоря, не может быть никакого плана относительно того, что нужно предпринять после убийства Цезаря. (Такой план есть у некоторых других заговорщиков, но об этом — речь впереди.) Плутарх довольно подробно описывает последовавшие сразу за покушением на Цезаря дипломатические обеды с участием Антония, Лепида, Кассия и Брута, на которых самые влиятельные люди Рима договаривались о разделе сфер влияния в государстве. Но Шекспир старательно избегает даже намека на эти деловые подробности. И если бы мы могли спросить шекспировского Брута: «А что следует делать после того, как провозглашена свобода?» — такой вопрос, видимо, застал бы героя врасплох.
 Но как раз в момент убийства Цезаря, когда наступательная активность Брута оказывается, по существу, исчерпанной, на первый план выдвигается новая сила. Это — сама историческая тенденция, «дух Цезаря», против которого поднял свое оружие Брут.
Но как раз в момент убийства Цезаря, когда наступательная активность Брута оказывается, по существу, исчерпанной, на первый план выдвигается новая сила. Это — сама историческая тенденция, «дух Цезаря», против которого поднял свое оружие Брут.
Разумеется, «дух Цезаря» и его влияние на развитие событий в трагедии нельзя свести к появлению призрака перед битвой при Филиппах; это появление лишь подводит символический итог деятельности «духа Цезаря». Все действие пьесы после убийства диктатора протекает как противоборство «духа Цезаря» и республиканцев. Интенсивность этого противоборства, придающая драматическое напряжение всей второй половине трагедии, служит основным объяснением того, почему конец третьего, четвертый и пятый акты трагедии не превращаются в растянутый эпилог пьесы.
Как образно заметил Д. Палмер, Цезарь «с самого начала показан человеком, который будет более могучим после смерти, чем он был при жизни». Для такого парадоксального по форме утверждения трагедия дает достаточно материала. Покуда Цезарь жив, он остается главным, по сути дела единственным носителем идеи самодержавия. Но одновременно он выступает как человек, слабости которого ограничивают и делают уязвимой защищаемую им идею. А после гибели диктатора идея единовластия начинает, если можно так выразиться, воздействовать на ход событий в чистом виде, не будучи обремененной слабостями отдельной личности. Сначала незаметно, а потом все более уверенно эта идея прокладывает себе путь через хитросплетения событий и борьбу устремлений живых людей.
Обращает на себя внимание, что самый термин «дух Цезаря» (Caesar's spirit), впервые использованный Брутом тогда, когда он излагал свой взгляд на цели заговора против Цезаря, аудитория слышит вновь сразу после убийства диктатора. Но на этот раз им пользуется не Брут, а наиболее энергичный противник республиканцев Антоний, предсказывающий ужасы, которые породит месть «духа Цезаря».
Последующие события незамедлительно начинают доказывать справедливость такого пророчества. Разрушительная энергия подожженного Антонием плебейского бунта, бессмысленная жестокость, с которой этот бунт готов сокрушить все, что попадается ему на пути, служат наглядной и красноречивой иллюстрацией политической дальновидности Антония.
Но «дух Цезаря» еще раньше в полный голос заявляет о своей жизненной силе. То, что Бруту не удалось победить этот дух, становится понятным, когда плебеи предлагают провозгласить Брута новым Цезарем. Люди, которых Брут мечтал избавить от тирании единодержавного властителя, уже не могут преодолеть политической инерции. Они готовы пойти за Брутом, но не за Брутом-тираноборцем, а за Брутом — популярным и известным своей честностью политическим деятелем, который достоин, по мнению плебеев, занять место убитого диктатора. Не устами призрака, обещающего Бруту встретить его при Филиппах, а устами римского плебса «дух Цезаря» произносит Бруту смертный приговор.
Своеобразно действует «дух Цезаря» и в сцене совещания триумвиров. Вспомним, как в предсмертных репликах тиран, считающий себя сверхчеловеком, демонстрирует свое презрение к судьбам и жизни отдельных людей. А торг триумвиров, составляющих проскрипционные списки и хладнокровно приговаривающих к смерти даже близких им людей, — это, по существу, крайнее воплощение на практике того завещанного диктатором безжалостного отношения к человеческой личности, которое составляет одну из идейных основ цезаризма.
Решающее воздействие «духа Цезаря» на ход истории все более полно ощущает и сам Брут по мере приближения финала трагедии. Об этом свидетельствует не только мотив обреченности, постепенно усиливающийся в репликах Брута, но и некоторые лексические средства, использованные для этой цели Шекспиром. До смерти Цезаря Брут ни разу не называл его ни великим, ни могучим. Такие эпитеты употребляли в обращении к Цезарю другие заговорщики (great, mighty; 11,2,69; 111,1,33,50,75); но каждый раз в подобных эпитетах звучала или ирония, или стремление заговорщиков замаскировать свои истинные планы подчеркнуто почтительным отношением к диктатору.
Но еще до того как Бруту явился призрак, вождь республиканцев тоже называет Цезаря великим:
Не ради ль справедливости убит был Великий Цезарь? (IV, 3, 19)
(Пер. О. Мандельштама.)
А в ходе боя при Филиппах, когда исход сражения еще не был ясен, Брут при виде покончившего с собой Кассия вынужден признать торжество «духа Цезаря». Совсем недавно республиканец Цинна с упоением провозглашал над трупом Цезаря:
Свобода! Вольность! Пала тирания!
(HI, 1, 78)
И теперь реплика Брута звучит как полный трагической иронии ответ на восторженные слова Цинны:
О Юлий Цезарь, ты еще могуч!
И дух твой бродит, обращая наши
Мечи нам прямо в грудь.
(V, 3, 94—96)
После такого признания самоубийство, о котором Брут думал перед боем, становится для него неизбежной необходимостью.
Было бы неправильно объяснять сравнительно легкий триумф идеи цезаризма, победу «духа Цезаря» только тем, что Антоний и Октавий, умело использовав тенденцию исторического развития Рима, предприняли правильные тактические шаги. Идея республики изжила самое себя и превратилась в анахронизм; а это должно было наложить свой отпечаток и на лагерь противников Цезаря.
 В трагедии Брут выступает во главе многочисленного объединения республиканцев, проникнутых ненавистью к тирании. Это — римские аристократы, люди одного круга и одного поколения. По отзыву Брута о
В трагедии Брут выступает во главе многочисленного объединения республиканцев, проникнутых ненавистью к тирании. Это — римские аристократы, люди одного круга и одного поколения. По отзыву Брута о
Каске:
Каким же простаком он стал теперь, А в школе был таким живым и быстрым. (I, 2, 294—295),—
можно понять, что многие из заговорщиков были знакомы друг с другом еще на школьной скамье. Нерушимость уз, связывающих республиканцев, позволила В. Кирнану с достаточным основанием утверждать: «Высшим достижением в этой пьесе является изображение группы заговорщиков, объединенных чисто римской чертой — чувством личной дружбы в сочетании с преданностью общему делу... Всякий человек может положиться на всех других, считая, что они, не дрогнув, «пойдут так же далеко, как и тот, кто идет дальше всех».
Однако окончательный вывод, к которому приходит тот же автор, звучит излишне категорично. «Брут и Кассий,—-пишет Кирнан, — зовут друг друга «братьями», и все заговорщики имеют гораздо больше оснований, чем Генрих V и его армия мародеров, называться «горсткой братьев»; они в гораздо большей степени, чем клан Перси, представляют собой одну семью»3. Такое обобщение не позволяет ощутить внутренней границы, разделяющей лагерь противников Цезаря.
Одно из важнейших художественных завоеваний Шекспира в изображении лагеря заговорщиков состоит в том, что все главные участники заговора против диктатора — независимо от того, сколько строк отведено характеристике каждого из них, — это ярко индивидуали зированные образы. Республиканцы в «Юлии Цезаре» отличаются друг от друга и по своему психологическому складу и по пониманию целей и средств борьбы против тирании. Но все многообразие картины, которую создает совокупность характеров заговорщиков, не затушевывает рубежа, отделяющего Брута от всех остальных его товарищей по заговору.
Образы Лигария, Метелла, Деция Брута, Каски и в первую очередь образ Кассия, представляющий большую и самодовлеющую художественную ценность, — все они в значительной мере служат контрастным фоном, на котором уникальность характера Марка Брута становится особенно выразительной. Выше уже говорилось о коренном отличии убежденного демократа Брута от его друзей-аристократов, полных презрения к римскому простонародью. Но противопоставление Брута другим заговорщикам на этом не исчерпывается.
Показывая Брута почти на всем протяжении пьесы в окружении его друзей, Шекспир сделал особенно ощутимым одиночество главного героя. В таком утверждении нет ничего парадоксального: подлинная трагедия одиночества вступает в свои права тогда, когда незримая стена взаимного непонимания вырастает между друзьями.
Возглавив лагерь противников Цезаря, Брут в единственном случае берет на себя миссию привлечения к заговору новых участников; он решает лично сообщить о готовящемся выступлении Каю Лигарию. Последний, даже не спросив Брута, куда и зачем тот зовет его, немедленно заявляет о своем согласии идти за Брутом:
Скажи; готов я
С любой неодолимой силой биться И победить. Так что же надо делать?
(II, 1.325—327)
Идейная нагрузка, возложенная на краткий разговор между Брутом и Лигарием, становится достаточно ясной, если учесть, что этот разговор происходит непосредственно вслед за беседой Брута и Порции. Дочь Катона со всей присущей ей страстностью доказывает, что настоящий союз между людьми, в том числе и союз супружеский, возможен лишь на основе идейной близости и полного взаимопонимания. А отношение Лигария к Бруту— это выражение слепой веры в руководителя, но никак не идейный союз единомышленников. Оно поразительно напоминает отношение к Цезарю со стороны Антония, готового не задумываясь выполнить все, что пожелает диктатор.
Беседа Лигария с Брутом понадобилась Шекспиру не только затем, чтобы лишний раз подчеркнуть непререкаемый авторитет Брута и полное доверие, которое испытывают к нему его друзья. Она служит как бы отдаленным предвестником трагической темы, которой суждено в полную силу прозвучать в кульминационный момент пьесы — в сцене выступления Брута перед народом.
Плебеи готовы провозгласить новым тираном человека, выступившего в защиту свободы. А реакция Кая Лигария на слова Брута выразительно показывает, как тип отношений, закономерно возникающий между диктатором и его ближайшим окружением, проникает и в среду республиканцев, что неизбежно ставит под сомнение самую возможность торжества истинной свободы и равноправия.
Одиночество Брута становится особенно заметным, когда между республиканцами заходит речь о тактике борьбы против Цезаря. Брут — человек идеи; а его друзья — реальные политики новой формации, деловые люди в не меньшей степени, чем Антоний или Октавий. Поэтому они считают естественным пользоваться в борьбе примерно теми же средствами, что и сторонники цезаризма.
 Так, Метелл из чисто демагогических соображений предлагает привлечь к заговору Цицерона и купить этим сочувствие граждан:
Так, Метелл из чисто демагогических соображений предлагает привлечь к заговору Цицерона и купить этим сочувствие граждан:
Вы правы. Серебро его волос Нам купит общее расположенье. (II, I, 143—145)
Деций Брут, чтобы рассеять опасения Цезаря и выманить его из дома, надевает на себя личину прямодушного человека и использует лесть, замаскированную словами о том, что Цезарь недоступен страху и лести; «прямота» Деция ничем, по существу, не отличается от «прямоты» Антония, которую тот демонстрирует при первой встрече с убийцами Цезаря.
Но основной художественный прием, использованный Шекспиром для того, чтобы показать одиночество Брута,— это последовательное противопоставление главного героя и Кассия, самого близкого ему человека.
Исходные элементы для характеристики Кассия Шекспир почерпнул у Плутарха. Античный биограф приводит примеры жгучей, непримиримой ненависти к деспотизму, с детских лет владевшей Кассием. В то же время Плутарх неоднократно упоминает о завистливости и своекорыстии Кассия, о личной антипатии, которую взаимно питали Цезарь и Кассий. Сплав этих черт сохранился и в образе Кассия у Шекспира; но под пером драматурга Кассий превратился в художественный образ, который по своей психологической сложности превосходит, пожалуй, все остальные образы пьесы.
Как и Брут, шекспировский Кассий одушевлен идеей борьбы против единовластия и тирании. Возвышение диктатора он считает позором своего века. Если бы между Кассием и Брутом не существовало этой идейной связи, их союз был бы просто немыслим. Но в самом отрицании тирании, характерном для обоих героев, кроется глубокое различие. Для Брута борьба против Цезаря — это защита общего дела. А Кассий видит цель борьбы прежде всего в уничтожении конкретной личности, возвысившейся над остальными согражданами. Вспоминая ситуации, в которых Цезарь вел себя как человек, подверженный слабостям и страхам, Кассий с негодованием говорит о том, что теперь Цезарь претендует на божественное величие:
And this man
... и вот
Теперь он бог, а с ним в сравненьи Кассий
Ничтожество, и должен он склоняться,
Когда ему кивнет небрежно Цезарь. (I, 2, 115—118)
Уже здесь в его речи совершенно явственно звучит сугубо индивидуалистический подтекст: «Я не хуже Цезаря; он не лучше меня». А заключительное рассуждение Кассия в той же сцене не оставляет сомнения в том, что главным фактором, определяющим его политическое поведение, служит не столько стремление выступить в защиту республики, сколько отношения, складывающиеся между личностями. Радуясь, что ему удалось «совратить» Брута, то есть вовлечь его в заговор против Цезаря, Кассий в кратком монологе с достаточно циничной откровенностью, свойственной шекспировским «макиавеллистам», объявляет:
Меня не терпит Цезарь. Брута ж любит.
Когда б я Брутом был, а он был Кассий,
Ему б я не поддался.
(I, 2, 312—314)
Кассий уверен, что совратить можно каждого; для себя он тоже не делает исключения. Если бы Цезарь любил его, Кассию, видимо, было бы нетрудно отказаться от республиканских идеалов и стать вторым Антонием.
 Такое внешне неожиданное предположение имеет под собой больше оснований, чем это может показаться на первый взгляд. Монархиста Антония и республиканца Кассия сближает то, что оба они — деловые люди новой формации.
Такое внешне неожиданное предположение имеет под собой больше оснований, чем это может показаться на первый взгляд. Монархиста Антония и республиканца Кассия сближает то, что оба они — деловые люди новой формации.
Характеристика Кассия как делового человека становится ощутимой уже в начале трагедии, где Кассий выступает в качестве основного организатора заговора против Цезаря. Он сам признается в том, что ему удалось вовлечь в этот заговор целый ряд благородных римлян (1,3,121 —124). Но еще более важно, что зритель на протяжении первых сцен воочию убеждается, насколько умело Кассий действует в роли конспиратора и агитатора. Особенно выразителен в этом плане разговор между Кассием и Каской в третьей сцене первого акта. Кассий начинает с осторожного зондажа, лишь намекая на то, что Цезарь не выше остальных римлян. Затем, ощутив сочувствие со стороны Каски, он более решительно говорит о ничтожестве диктатора. И, наконец, получив от Каски заверения в солидарности с противниками Цезаря, Кассий в общих чертах открывает ему план выступления против самодержавного правителя.
Но с наибольшей откровенностью жестокая и своекорыстная деловитость Кассия раскрывается в краткой реплике, которую он бросает Антонию над телом Цезаря:
В раздаче новых почестей и ты
С другими наравне получишь голос.
(III, 1, 178—179)
В этих словах нет и тени республиканской убежденности; они принадлежат политику, заинтересованному в быстрейшем дележе наследства, доставшегося от убитого диктатора. В устах Брута такие слова были бы немыслимы. Более того, практицизм Кассия выступает как нечто полностью противоположное благородному бескорыстию Брута. По точному замечанию Д. Палмера, «Кассий сразу переходит к делу и одним ударом, полным страшной, бессознательной иронии, разрушает высокие притязания его коллеги».
Поэтому вполне естественно, что трезвый практик Кассий в тактическом отношении оказывается значительно более проницательным, чем Брут. Он сильнее других опасается Антония; иными словами, он видит угрозу республиканскому заговору именно там, где она реально существует. Мысль об Антонии все время тревожит Кассия. Непосредственно перед покушением на Цезаря Кассий внимательно следит за Антонием и с удовлетворением замечает, что одному из заговорщиков удалось увести Антония с места решительных событий. Когда республиканцы ликуют, прославляя вновь обретенную свободу, Кассий с явным беспокойством справляется о том, где сейчас Антоний. Перед его приходом Кассий открыто говорит, что в лице Антония он предчувствует угрозу. Наконец, Кассий настойчиво пытается уберечь Брута от важнейшей тактической ошибки — от разрешения Антонию выступить на похоронах Цезаря.
Но наиболее полно характер Кассия-политика проявляется в его предложении умертвить Антония одновременно с Цезарем. Показательно, что у Плутарха нигде не говорится о том, что такое предложение исходило именно от Кассия. Позиция шекспировского Кассия в данном случае не только свидетельствует о его трезвой последовательности как политического деятеля. Он вы ступает здесь и как способный ученик Макиавелли, писавшего в своем «Государе»: «Хорошо примененными жестокостями (если только позволено сказать о дурном, что оно хорошо) можно назвать такие, которые совершаются только один раз из-за необходимости себя обезопасить, после чего в них не упорствуют, но извлекают из них всю возможную пользу для подданных... Поэтому надо хорошо помнить, что, овладевая государством, захватчик должен обдумать все неизбежные жестокости и совершить их.сразу, чтобы не пришлось каждый день повторять их и можно было, не прибегая к ним вновь, успокоить людей и привлечь к себе благодеяниями». Наверное, не будь Марка Брута, такие деловые люди, как Кассий и поддержавший его Деций Брут, не хуже триумвиров устроили бы торг по поводу проскрипционных списков.
«Макиавеллизм» Кассия окрашивает и его отношение к Бруту. Кассий понимает необходимость оправдать заговор в глазах римского народа; а для того чтобы выступление против Цезаря получило моральную санкцию, нужно, чтобы его возглавил Брут — человек, честность, бескорыстие и подлинный демократизм которого находятся вне подозрений.
О том, что заговорщики стремились привлечь к заговору Брута, «который сделал бы первый шаг и одним своим участием упрочил и оправдал все дело», Шекспиру было известно из Плутарха. Там же содержалось и описание того, как судейское возвышение Брута было завалено табличками с мятежными призывами, обращенными к Бруту. Но Шекспир, в отличие от античного источника, делает автором этих посланий именно Кассия, который тайно от Брута сочиняет анонимные подметные бумаги и даже пишет их различными почерками:
Нынче ж ночью
 Ему под окна я подброшу письма.
Ему под окна я подброшу письма.
Как будто бы они от разных граждан;
В них напишу, что имя Брута чтится
Высоко в Риме...
В данном случае Кассий поступает не как искренний друг; это — хитрая интрига, граничащая с провокацией. Как только Кассий убеждается в том, что попытка «совратить» Брута удалась, в его речи появляется самодовольно-презрительная интонация по отношению к своему другу:
Брут, благороден ты; но все ж я вижу,
Что благородный твой металл податлив.
Поэтому-то дух высокий должен
Общаться лишь с подобными себе.
Кто тверд настолько, чтоб не соблазниться?
Стилистическая окраска этих строк невольно воскрешает в памяти строй реплик Ричарда III, когда тот, оставаясь один на сцене, с чувством превосходства над окружающими констатирует воплощение в жизнь очередного злодейского замысла. А из обобщения Кассия относительно того, что благородным людям следует общаться лишь с благородными, со всей очевидностью следует, что самого себя Кассий в число благородных людей не включает. В том, что драматург, изображая Кассия в столь неприглядном свете, сознательно стремился усилить контрастное противопоставление руководимого высокими побуждениями Брута и завистливого, мстительного, способного на подлость Кассия, убеждает еще одно сопоставление текста трагедии с «Жизнеописаниями» Плутарха. Античный автор следующим образом характеризует отношения, сложившиеся между Брутом и Кассием после установления диктатуры Цезаря в связи с соперничеством обоих будущих участников республиканского заговора: «Некоторые писатели уверяют, будто они и прежде не питали друг к другу добрых чувств, а теперь разошлись еще сильнее, несмотря на свойство (сестра Брута, Юния, была замужем за Кассием), но другие говорят, что их соперничество было делом рук Цезаря, который тайно обнадеживал и обещал свою поддержку обоим, так что, в конце концов, распаленные этими посулами, они вступили в борьбу».
А Шекспир изображает взаимоотношения между своими героями в значительной мере по-иному. Брут у Шекспира — человек, для которого личное соперничество с кем бы то ни было полностью исключено, тогда как по поведению Кассия можно ощутить, что он завидует Бруту. Кассий не скрывает своего удовлетворения по поводу того, что его замысел увенчался успехом и ему удалось сделать Брута своим союзником; Кассию кажется, что он смог низвести Брута до собственного уровня.
Ясно, что Кассий в борьбе за поставленную им перед собой цель считает допустимыми любые средства. Поэтому было бы глубоко ошибочным преувеличивать искренность братских чувств, которые Кассий питает к Бруту. И тем не менее в образе Кассия есть черты, которые не позволяют ему превратиться в традиционного «злодея».
Глубокое внутреннее противоречие — столкновение преданности республике и эгоистической зависти — лишает Кассия той духовной монолитности, которая составляет основу образа Брута. При всей своей политической трезвости Кассий — порывистая и неуравновешенная личность, склонная к резким переходам от надежды к отчаянию.
В этом плане особенно показательно поведение Кассия в момент, непосредственно предшествующий убийству Цезаря. Заподозрив, что Попилий Лена может выдать заговорщиков, Кассий тут же говорит о своей готовности покончить жизнь самоубийством. Его растерянность вызывает строгое замечание Брута:
Cassius, be constant. (Ш, 1, 22) (Будь тверже, Кассий.)
Употребленный Брутом эпитет «постоянный» (constant), полностью приложимый к нему самому, не соответствует сущности характера Кассия. А добровольная смерть Кассия, не дождавшегося точных известий с поля боя и принявшего ликующие крики друзей за известие о поражении, служит последним кровавым доказательством его нетерпеливой порывистости.
Такая эмоциональная неуравновешенность Кассия помогает понять, почему он может вести себя по отношению к Бруту как сознательный интриган и в то же время испытывать к нему чувство горячей любви. А в том, что Кассий любит Брута, не оставляет никакого сомнения сцена ссоры Брута и Кассия (IV, 3).
Доведенный упреками Брута до исступленного бешенства, вспыльчивый Кассий готов с кинжалом броситься на обидчика. Но стоит в душу Кассия закрасться подозрению, что Брут его не любит, как эта мысль, повергая Кассия в глубочайшее отчаяние, морально обезоруживает его, лишает энергии и силы. А когда Брут уверяет Кассия в своей любви к нему, тот, подобно освободившемуся от подозрений ревнивцу, вновь обретает покой и бодрость духа.
И все же любовь Кассия не делает Брута менее одиноким. Упомянутая выше сцена не только раскрывает перед зрителем новые, неизвестные дотоле черты в характерах героев. Столкновение Брута и Кассия воочию убеждает в том, что один лишь Брут и на последнем этапе своей деятельности с сочувствием думает о простых людях и стремится сохранить в первозданной чистоте демократические идеалы, тогда как Кассия судьба народа заботит не больше, чем Антония или Октавия. Весьма примечательно, что ссора героев прекращается после того, как оба они признаются в искренней привязанности друг к другу и приносят взаимные извинения за проявленную горячность; таким образом, примирение происходит на почве чисто личных, субъективных отношений между Брутом и Кассием. А ведь их конфликт начался на куда более широкой основе: в нем были затронуты и вопрос об отношении к народу и вопрос об идеалах тираноборчества. Но эти проблемы отходят на задний план; Бруту так и не удается воодушевить Кассия своей высокой гражданственностью. Так находит свое логическое завершение тема противопоставленности Брута остальным заговорщикам.
 Для того чтобы еще более усилить ощущение одиночества Брута, Шекспир в той же сцене использует прием, преследующий своей целью непосредственное воздействие на эмоции зрителя: он показывает потрясающую по своему трагическому лаконизму реакцию Брута на известие о самоубийстве Порции. У Плутарха в заключительном параграфе жизнеописания Брута содержится лишь беглое упоминание о ее смерти, из которого нельзя с уверенностью заключить, что Порция покончила с собой еще при жизни мужа; изображение впечатления, произведенного на Брута вестью о гибели супруги, полностью принадлежит творческой фантазии Шекспира.
Для того чтобы еще более усилить ощущение одиночества Брута, Шекспир в той же сцене использует прием, преследующий своей целью непосредственное воздействие на эмоции зрителя: он показывает потрясающую по своему трагическому лаконизму реакцию Брута на известие о самоубийстве Порции. У Плутарха в заключительном параграфе жизнеописания Брута содержится лишь беглое упоминание о ее смерти, из которого нельзя с уверенностью заключить, что Порция покончила с собой еще при жизни мужа; изображение впечатления, произведенного на Брута вестью о гибели супруги, полностью принадлежит творческой фантазии Шекспира.
Утрата Порции для Брута — это не только потеря чуткого, тонкого, бесконечно любящего его человека. У Брута было много друзей; прощаясь с ними, он мог с полным правом гордиться тем, что все они остались до конца верными ему:
Сограждане,
Я рад сердечно, что ни разу в жизни
Людей мне изменивших не встречал.
Но никто из его близких не стремился так искренне, как дочь Катона, разделять с ним все горести и тревоги, понять его высокую душу, быть его поддержкой и опорой. Поэтому скорбь Брута о Порции так резко и внезапно оттеняет невидимую грань, отделяющую его от товарищей по оружию.
С темой одиночества Брута неразрывно связан мотив обреченности того дела, на защиту которого встали республиканцы. Этот мотив начинает отдаленно звучать уже в третьем акте, когда Брут вместе со своими единомышленниками вынужден покинуть Рим, покинуть народ, во имя которого он поднял руку на Цезаря и который отвернулся от тираноборцев. А по мере приближения финала, в то время как все более активно начинает действовать «дух Цезаря», звучание мотива обреченности нарастает с каждой последующей сценой.
Подробно излагая перипетии борьбы изгнанных из Рима республиканцев и их преследователей — Октавия и Антония, Плутарх отмечает, что до решающих сражений Брута и Кассия воодушевляла надежда на победу в этой борьбе. Так, например, описывая их встречу близ Смирны, Плутарх рассказывает, что они «оба ощутили живейшую радость и твердую надежду на успех при виде войска, которое собрал каждый из них». У Шекспира же подобная интонация полностью отсутствует. Вместо нее в речи Брута слышны ноты обреченности уже тогда, когда он вместе с Кассием вырабатывает план предстоящей кампании: он спешит с решительным сражением, ибо ощущает, что дело республиканцев уже перешагнуло высшую точку своего подъема:
Враг на подъеме, набирает силы; А нам с вершины под уклон идти.
А непосредственно перед битвой при Филиппах мотив обреченности приобретает резкое, фатальное звучание: в момент, когда Брут и Кассий должны отдать боевой приказ войскам, перед мысленным взором полководцев возникает видение самоубийства, которое должно спасти их от позора.
Дух Цезаря нанес поражение Бруту еще до того, как воины скрестили мечи.

«ЗМЕИНЫЙ ЗАРОДЫШ» ЧЕСТОЛЮБИЯ: ПОЛИТИКА И ЭТИКА В ТРАГЕДИИ «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
Метафоричность речей героев в трагедии «Юлий Цезарь» (1599) часто служит ключом к пониманию авторского замысла. Вместе с тем смысл метафор, особенно в речах Брута и Кассия, иногда трудно определить, и позиция Шекспира вызывает споры исследователей. Это особенно касается тех мест трагедии, где герои-республиканцы высказывают необычные, даже опасные мысли, которые Шекспир не мог выразить открыто в монархическом государстве.
Большинство метафор относится к теме политического заговора с целью спасения республики. Исторически верное изображение заговора в соответствии с повествованием Плутарха соединяется в этой трагедии с завуалированными откликами на современную Шекспиру политическую обстановку последних лет правления королевы Елизаветы.
Одно из самых спорных мест трагедии — суждение Кассия о характере и поведении Брута, высказанное вскоре после первой попытки вовлечь Брута в заговор. Кассий говорит о том, что Цезарь опасен для республики (I, 2). Он сравнивает Цезаря с Колоссом, который оседлал тесный для его духа мир и стремится к единоличной власти. Но все его речи вызвали только обещание Брута подумать над его словами — и Кассий не без оснований сожалеет, что смог высечь лишь слабую искру в душе Брута. Он определяет поведение друга с помощью метафоры: «Да, Брут, ты благороден, однако я вижу, что твой благородный металл может быть обработан так, что он изменит свои свойства» "Thy honourable metal may be wrought| From that it is disposed"). Эти слова иногда понимают ошибочно — как торжество Кассия по поводу того, что ему удалось «соблазнить» Брута принять участие в заговоре против Цезаря. Такое восприятие подсказано последующей фразой: «Если бы я был Брутом теперь, а он был Кассием, он на меня не повлиял бы». Поскольку в предшествующей строке упомянуто о любви Цезаря к Бруту и о враждебном отношении его к Кассию, то второе местоимение «он» некоторые комментаторы относят к Кассию. Тогда получается, что, по словам Кассия, он, Кассий, сейчас повлиял на Брута тем, что вовлек его в заговор и побудил нарушить верность любящему его Цезарю.
При таком ошибочном восприятии смысла метафоры получается, что для Кассия этическая оценка поведения Брута определяется человеческими отношениями — как будто для Брута было бы честнее сохранять верность Цезарю. Между тем и для Шекспира и для всех, кто читал Плутарха, Кассий прежде всего стойкий республиканец, который ненавидел всех, кто стремился к единоличной власти. Высшая доблесть в его глазах— верность республиканскому идеалу, ради которого необходимо жертвовать и личными привязанностями и жизнью.
Что означает метафора "honourable metal" в словах Кассия о Бруте? Нет сомнения, что Кассий имеет в виду республиканские принципы, гражданский долг и честность Брута. После этой метафоры следует пожелание, чтобы благородные люди ■ общались только друг с другом. «Кто так тверд, чтобы не поддаться соблазну?»—этот риторический вопрос выражает сомнение в твердости Брута, а дальнейшие рассуждения говорят о том, что в собственной твердости Кассий уверен, даже если бы Цезарь любил его, как Брута. Монолог Кассия порожден тем, что Брут не дал согласия на участие в заговоре, обещая все обдумать и дать ответ позже. Размышляя о причинах такого поведения друга, Кассий вспоминает о любви Цезаря к Бруту, опасаясь, что именно эта любовь и общение Брута с Цезарем поколебали республиканские воззрения Брута, исказили его гражданскую доблесть. Несмотря на все предшествующие усилия ему удалось высечь лишь «слабую искру», поэтому Кассий не без основания считает, что «благородный металл» Брута подвергся порче под влиянием любви Цезаря. И он собирается подбросить Бруту письма, призывающие к протесту против Цезаря.
Решение принять участие в заговоре и убить Цезаря Брут принимает позже, после глубоких и мучительных размышлений. Впоследствии он признается, что не мог спать с момента разговора с Кассием о заговоре. В начале второго акта Брут появляется в саду после бессонной ночи, будит слугу и просит зажечь свет в его комнате. Он начинает монолог с самой главной для него мысли, причем первые слова являются завершением предшествующих раздумий о заговоре: «Это должно быть достигнуто) его смертью»,— так впервые выражена мысль о необходимости убийства Цезаря ради спасения республики.
Эта фраза говорит о том, что Брут решал вопрос, можно ли спасти республику, не прибегая к убийству Цезаря. Позднее перед заговорщиками он упомянет о том, что хотел бы убить дух Цезаря, не повреждая тела, но это невозможно. В данном монологе Брут признается себе, что это убийство необходимо для общего блага, потому что Цезарь хочет короны — «Как это изменит его природу,— вот в чем вопрос!» (Стоит обратить внимание на словесную близость с первой фразой Гамлета в монологе «Быть или не быть — вот в чем вопрос!». Стиль монолога Брута и некоторые приемы в его аргументации напоминают особенности монолога Гамлета.)
 В нескольких метафорах Брут в завуалированной форме выражает мысль о том, что неограниченная единоличная власть опасна для всех: «Яркий день выманивает на свет змею». «Яркий день» в данной метафоре означает неограниченную власть, сверкающую корону. «Мы вручаем ему жало, которое по его воле может стать опасным». Что это за опасность, поясняют дальнейшие метафоры. Брут говорит о том, что величие становится злоупотреблением, когда оно расчленяет власть и совесть ("remorse" означает буквально «угрызения совести», но здесь речь идет о человечности). Вероятно, эта мысль подсказана рассуждениями Платона о том, что в идеальном государстве должны быть устранены от управления люди, лишенные представления о справедливостим. Сейчас у Цезаря его страсти, в том числе и его честолюбие, подчинены разуму, но, достигнув власти, он может стать иным. Шекспир вводит еще одну метафору, показывая, каким образом происходит превращение скромного честолюбца в деспота:
В нескольких метафорах Брут в завуалированной форме выражает мысль о том, что неограниченная единоличная власть опасна для всех: «Яркий день выманивает на свет змею». «Яркий день» в данной метафоре означает неограниченную власть, сверкающую корону. «Мы вручаем ему жало, которое по его воле может стать опасным». Что это за опасность, поясняют дальнейшие метафоры. Брут говорит о том, что величие становится злоупотреблением, когда оно расчленяет власть и совесть ("remorse" означает буквально «угрызения совести», но здесь речь идет о человечности). Вероятно, эта мысль подсказана рассуждениями Платона о том, что в идеальном государстве должны быть устранены от управления люди, лишенные представления о справедливостим. Сейчас у Цезаря его страсти, в том числе и его честолюбие, подчинены разуму, но, достигнув власти, он может стать иным. Шекспир вводит еще одну метафору, показывая, каким образом происходит превращение скромного честолюбца в деспота:
Но знают все, что лестницею служит
Для молодого честолюбья скромность.
К той лестнице оно обращено,
Пока по ней взбирается, ступив же
На верхнюю ступеньку, к облакам
Подъемлет взор, с презреньем забывая
О лестнице.
(II, 1, перевод М. П. Столярова)
Честолюбец склонен презирать «низкие» ("base") ступени. Этот эпитет передает неблагодарность, даже подлость того честолюбца, который на вершине славы презирает всех, кто ниже его, хотя они помогли ему подняться.
Вывод Брута: «Так может сделать Цезарь», — продиктован, таким образом, не субъективным умозрительным предположением, как утверждают многие критики, а анализом сходных ситуаций, закономерностей влияния неограниченной власти на человека. Метафорическим обобщением Шекспир выводит конкретный случай за пределы данной ситуации и ставит вопрос о влиянии славы, возвышения, любой власти на человека, поведение которого продиктовано честолюбием. Главную опасность Брут усматривает в неограниченной власти. С помощью метафор Шекспир ставит опасный для его времени вопрос: не таит ли всякая неограниченная власть опасность тирании, т. е. не является ли монархическая форма правления опасной по своей природе, независимо от личных качеств правителя? Вопрос этот мог возникнуть у Шекспира при изучении сочинений античных авторов, в частности Платона и Аристотеля.
Однако, по мнению Брута, народу нельзя говорить о том, что опасен не сам Цезарь, а монархическая форма правления. Этот аргумент не будет воспринят как оправдание его убийства, и заговор не будет «нести знамя» ("the quarrel will bear no colour for the thing he is"). Метафора в тексте имеет двойственный смысл — слово "colour" означало и «знамя» и «предлог для вражды». Поэтому нужно «подать» дело так, будто опасность заключена в характере Цезаря, в его честолюбии. Нужно убеждать народ, что Цезарь неизбежно придет «к крайностям» при единоличной власти. Шекспир вводит наиболее значительную метафору: «Поэтому будем считать его змеиным зародышем, который, вылупившись, станет вредоносным, как его порода». На слова "as his kind" — «как его род» или «порода» необходимо обратить внимание, поскольку они придают суждению Брута объективную основу. «Как его порода» в данной ситуации означает историческое обобщение самого Шекспира, который внимательно изучал не только античную историю, но и историю Англии: честолюбцы, которые разными путями захватывали единоличную власть, часто становились тиранами. Итак,_ монархия — «змеиный зародыш» тирании, честолюбие — «змеиный зародыш» злоупотреблений. Отсюда следует метафорическое заключение монолога: «...убьем его в скорлупе».
Тиранию следует задушить в зародыше, потом будет поздно— об этом говорит в дальнейшем метафора в обращении Брута к заговорщикам: если они трусливо откажутся от выполнения долга, то «тирания будет парить высоко, высматривая жертвы», и любой человек будет гибнуть по ее капризу (II, 1, 118—119).
Итак, можно говорить о двойном смысле метафоры «змеиный зародыш» в монологе Брута: первый, ясный для всех, состоит в идее опасности честолюбия, которое стремится к власти. Об этой опасности позднее идет речь в сцене на форуме. Там, выступая перед народом, Брут оправдывает убийство Цезаря тем, что Цезарь был честолюбив, и, напротив, Антоний с помощью искусной речи убеждает слушателей, что Цезарь не был честолюбив, а любил народ и заботился о бедняках. Шаткость аргументов Брута о личных недостатках Цезаря легко опровергнута, и народ, только что
 2015-05-06
2015-05-06 721
721








