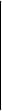
 268
268
приемлем, нет резона принимать последний. Ведь существуют другие приемлемые подходы, к примеру критический рационализм, который — и это очень важно — признает тот факт, что в своей основе рационалистический подход вытекает (по крайней мере, гипотетически) из акта веры — веры в разум. Поэтому мы можем сделать выбор. Скажем, предпочесть определенную разновидность иррационализма, даже радикальную или всеобъемлющую. Однако в нашей воле также избрать критическую форму рационализма, которая искренне признается, что ее источником является иррациональное решение (и которая в этом отношении признает определенное первенство иррационализма).
III
Итак, выбор, о котором мы говорили и который мы должны сделать, не является ни чисто интеллектуальным решением, ни делом вкуса. Он представляет собой моральное решение10 (как мы его определили в главе 5). Действительно, наш ответ на вопрос о том, должны ли мы признать более или менее радикальные формы иррационализма или нам стоит сделать ту минимальную уступку иррационализму, которую я назвал «критическим рационализмом», оказывает глубокое воздействие на наше отношение к другим людям и к проблемам социальной жизни. Ранее мы отметили, что рационализм тесно связан с верой в единство человечества. Иррационализм же, не связанный ни с какими требованиями логической последовательности, может быть соединен с совершенно различными убеждениями. В частности, он нередко оказывается опорой романтической уверенности в существовании избранных, в делении людей на ведущих и ведомых, естественных господ и естественных рабов. Это хорошо показывает, что моральное решение действительно имеет место при выборе между иррационализмом и критическим рационализмом.
Как мы установили в главе 5, да и теперь подчеркнули при анализе некритической версии рационализма, аргументы не могут детерминировать фундаментальное моральное решение. Правда, из этого не следует, что нашему выбору не могут способствовать какие бы то ни было аргументы вообще. Напротив, всякий раз, когда мы оказываемся перед необходимостью морального решения относительно довольно абстрактного вопроса, очень полезно тщательно проанализировать последствия каждой из возможностей, между которыми совершается выбор. Ведь только тогда, когда мы можем себе представить эти последствия в конкретной практической
форме, мы действительно знаем, каким является наше решение. В противном случае мы принимаем решение вслепую. Для подтверждения этого положения я процитирую отрывок из «Святой Жанны» Б. Шоу. Когда священник, настойчиво требовавший смерти Жанны, увидел ее на костре, он не выдержал: «Я не желал ей зла. Я не знал, что будет так... Я не знал, что делал... Если бы я знал, я вырвал бы ее из их рук. Вы не знаете. Вы не видели: легко говорить, когда не знаешь. Вы сходите с ума от своих слов... Но когда все это оказывается перед вами, когда видишь, что совершил, когда сделанное ослепляет твои глаза, прерывает твое дыхание, заставляет рыдать твое сердце, тогда, о Господи, избавь меня от этого зрелища!» В пьесе Шоу существуют, конечно, и другие персонажи, которые прекрасно знают, что делают, и тем не менее решаются на это, персонажи, которые не раскаиваются напоследок. Некоторые люди не любят видеть ближнего своего горящим на костре, а другие — наоборот.
Рассматриваемое утверждение, кстати отвергавшееся многими оптимистами викторианского периода, имеет большое значение, поскольку показывает, что рациональный анализ последствий какого-либо решения не делает рациональным само это решение. Последствия не определяют наше решение, это делаем только мы — те, кто принимает решение. Однако анализ конкретных последствий и их четкое представление с помощью того, что мы называем «воображением», создает различие между решением, принимаемым вслепую, и решением, сделанным с открытыми глазами. И поскольку мы весьма редко11 пользуемся своим воображением, мы весьма часто решаем вслепую. Это действительно так, особенно когда мы отравлены философией оракулов — одним из самых мощных средств сойти с ума от собственных слов, используя выражение Б.Шоу.
Анализ следствий той или иной моральной концепции, будь то рациональный анализ или анализ, проводимый с помощью воображения, имеет определенное сходство с научным методом. В науке мы также не признаем абстрактной теории только потому, что она убедительна сама по себе. Мы предпочитаем решать, стоит признавать ее или отвергать лишь после того, как исследуем те конкретные, практические выводы из нее, которые могут быть проверены экспериментом. Однако существует и фундаментальное отличие между рациональным анализом моральной и научной проблемы. В случае научной теории наше решение зависит от результатов экспериментов. Если они подтверждают теорию, мы принимаем ее на то время, пока не найдется более подходящая



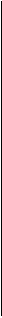
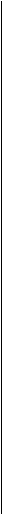 270
270
теория. Если эксперименты противоречат теории — мы отвергаем ее. Когда же мы имеем дело с моральной концепцией, мы можем сопоставить выводы из нее только с нашей совестью. И если вердикт эксперимента от нас не зависит, то вердикт совести зависит.
Надеюсь, я достаточно ясно показал, в каком смысле анализ выводов может влиять на наши решения, не детерминируя их. Описывая последствия двух возможностей (рационализма и иррационализма), между которыми мы должны сделать выбор, я предупреждал читателя, что буду пристрастным. Так и сейчас, представляя две возможности морального решения, которое во многих отношениях есть наиболее фундаментальное решение в сфере морали, я старался быть беспристрастным, хотя и не скрывал своих симпатий. Однако теперь я намерен представить наиболее убедительные, на мой взгляд, соображения по поводу названных возможностей, под воздействием которых я отверг иррационализм и принял веру в разум.
Рассмотрим в первую очередь последствия принятия иррационализма. Иррационализм настаивает на том, что не столько разум, сколько чувства и страсти являются основной движущей силой человеческих действий. Рационалист отвечает на это следующим образом: возможно, так оно и есть на самом деле, однако мы должы делать все, на что мы способны, для того, чтобы изменить это положение. Мы должны попытаться сделать так, чтобы разум стал играть в нашей жизни как можно более значительную роль. Иррационалист же (если он вообще снизойдет до дискуссии) возразит, что такой подход является безнадежно идеалистическим. Ведь такой подход не принимает во внимание слабость «человеческой натуры», ничтожность интеллектуальных дарований большинства людей и их очевидную зависимость от чувств и страстей.
Мое твердое убеждение состоит в том, что это иррацио-налистическое выпячивание страстей и эмоций должно в конечном счете приводить к тому, что нельзя определить иначе как преступление. Я считаю так, потому что такое выпячивание страстей представляет собой в лучшем случае одну из форм смирения перед иррациональной природой человеческого бытия. В худшем же случае оно есть выражение презрения к человеческому разуму, из чего следует обращение к принуждению и грубой силе как последним арбитрам в любом споре. Ведь возникновение спора означает, что те наиболее конструктивные чувства и страсти, которые в принципе должны были бы помочь возвыситься над спором — уважение, любовь, преданность общему делу и т.п.,
оказываются неспособными решить проблему. Однако, если дело обстоит так, что остается иррационалисту, кроме обращения к другим, менее конструктивным чувствам и страстям — к страху, ненависти, зависти и, наконец, к насилию? Такая тенденция, свойственная иррационализму, значительно усиливается принятием еще одного, возможно, более важного положения, которое, на мой взгляд, также связано с иррационализмом, а именно — всемерного подчеркивания неравенства людей.
Нельзя, разумеется, отрицать, что человеческие индивидуумы, подобно всем другим предметам нашего мира, являются весьма неравными во многих отношениях. Не приходится сомневаться, что такое неравенство имеет большое значение и что оно во многих случаях даже крайне желательно12. (Боязнь того, что массовое производство и коллективизация могут воздействовать на людей, разрушая их неравенство или индивидуальность — один из кошмаров13 нашего времени.) Однако все эти рассуждения о неравенстве людей не имеют никакого отношения к вопросу о том, должны ли мы, особенно в политических делах, считать людей, насколько это возможно, равными, то есть имеющими равные права и одинаковые притязания на то, чтобы их рассматривали как равных. Иначе говоря, эти рассуждения не имеют отношения к вопросу о том, на основании каких принципов мы должны строить наши политические институты. «Равенство перед законом» — не факт, а политическое требование 14, опирающееся на моральное решение, причем оно совершенно независимо от теории — вероятно, ложной — о том, что «все люди рождаются равными».
Утверждая это, я не намерен заявлять, будто принятие гуманистического положения о научной беспристрастности является прямым следствием решения в пользу рационализма. Однако склонность к беспристрастности тесно связана с рационализмом и ее нелегко исключить из убеждений рационалиста. Я не намерен также заявлять, будто иррационалист не способен последовательно придерживаться позиций равенства и беспристрастности. Даже если он действительно не способен делать это последовательно — он не обязан быть последовательным. Вместе с тем я желаю подчеркнуть тот факт, что, занимая иррационалистическую позицию, трудно не попасть в ловушку подхода, противоположного эгалитаризму. Этот факт обусловлен преувеличением в иррационализме значимости чувств и страстей. На самом деле, мы ведь не испытываем ко всем одинаковых эмоций. Эмоционально все мы разделяем людей на близких и неблизких. Разделение


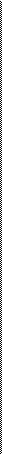


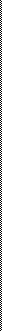 272
272
человечества на друзей и врагов — это наиболее очевидное из эмоциональных разделений. Оно признано даже христианской заповедью: «Любите врагов ваших». Даже лучший христианин, действительно живущий по этой заповеди (таковых немного, как показывает отношение среднего хорошего христианина к «материалистам» и «атеистам»), даже он не может чувствовать равной любви ко всем людям. Мы действительно не способны любить «абстрактно». Мы можем любить только того, кого знаем. Обращение даже к нашим лучшим чувствам — чувствам любви и сострадания, может только способствовать разделению человечества на две разные категории. Сказанное будет еще более справедливо, если мы обратимся к чувствам и страстям меньшего масштаба. Таким образом, нашей «естественной» реакцией является разделение человечества на друзей и врагов, на тех, кто принадлежит к нашему эмоциональному сообществу и тех, кто находится вне его, на класс товарищей и класс противников, на ведущих и ведомых.
Я уже говорил о том, что теория, согласно которой наши мысли и идеи зависят от нашего общественного положения или национальных интересов, приводит к иррационализму. Теперь же я намерен подчеркнуть, что обратное положение также справедливо. Отказ от рационалистических позиций, от уважения к разуму, логическим доказательствам и к мнениям коллег, повышенное внимание к «глубинным» пластам человеческой природы — все это должно склонять к принятию воззрения, в соответствии с которым мысль представляет собой просто некоторое сверхъестественное проявление того, что находится в этих иррациональных глубинах. Это воззрение, я уверен, почти всегда приводит к подходу, в котором вместо мыслей обращаются к личности мыслителя. Из этого возникает вера в то, что мы «мыслим кровью», «национальным наследием» или «классом». Эта вера может быть представлена как материалистическими, так и утонченно идеалистическими формами. Действительно, идею о том, что мы «мыслим расой», можно заменить идеей избранных или вдохновенных душ, которые мыслят «по милости Господней». Я не придаю значения существующим между этими позициями моральным различиям, поскольку очевидное сходство между всеми такими интеллектуально нескромными воззрениями состоит в том, что они не оценивают здраво сами себя. Своим отказом от разума они разделяют человечество на друзей и врагов, на немногих вместе с богами наделенных разумом, и большинство (хак утверждал Платон) не наделенных; на немногих ближних и большинство дальних; на тех, кто говорит непере-
водимым языком наших чувств и страстей, и тех, кто говорит не нашим языком. Как только мы начинаем поступать так, политическое равенство становится невозможным.
Антиэгалитаристская позиция в политической жизни, то есть в сфере, имеющей дело с властью человека над человеком, и есть то, что я называю преступлением. Она ведет к оправданию положения, при котором разные категории людей обладают разными правами: господин имеет право порабощать раба, определенные люди имеют право пользоваться другими людьми как своими орудиями. В конце концов этим можно, как у Платона15, оправдать и убийство.
Проводя эти рассуждения, я не выпускаю из виду того обстоятельства, что существуют иррационалисты, любящие человечество, и что существуют формы иррационализма, не порождающие преступности. Однако я уверен: тот, кто учит, что править должен не разум, а любовь, открывает дорогу тому, кто будет убежден, что править должна ненависть. (Сократ, я полагаю, предвидел нечто в этом роде, когда предположил16, что недоверие и ненависть к логическим доказательствам связаны с недоверием и ненавистью к людям.) Тот, кто не видит этой связи, кто верит в возможность управлять, полагаясь непосредственно на любовь, должен отдавать себе отчет, что любовь как таковая не предполагает беспристрастности. И она также неспособна устранять конфликты. То, что любовь как таковая может оказаться неспособной разрешать конфликты, можно проиллюстрировать на простом примере, который, впрочем, вполне годится для анализа более серьезных случаев. Том любит театр. Дик любит танцы. Том, любя, настаивает на решении пойти на танцы, а Дик ради Тома хочет пойти в театр. Этот конфликт не может быть разрешен любовью, и он, скорее, будет тем сильнее, чем больше любовь. Из него существует только два выхода. Один состоит в том, чтобы использовать эмоции и, в конечном счете, насилие, а другой — в использовании разума, беспристрастности, разумного компромисса.
Сказанное не означает, что я не осознаю разницы между любовью и ненавистью или что я полагаю, будто стоит жить, если в жизни нет любви. (Я вполне готов признать, что христианскую идею любви не следует понимать в чисто эмоциональном плане.) Однако я настаиваю на том, что никакое чувство, даже любовь, не способны заменить в деле управления обществом институты, которые контролируются разумом.
Это, разумеется, не единственный аргумент против идеи управлять, опираясь на любовь. Любить человека — значит желать сделать его счастливым. (Такое определение любви,

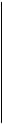


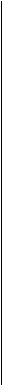 274
274
кстати говоря, принадлежит Фоме Аквинскому.) Однако из всех политических идеалов те, которыми вдохновляются стремления сделать человека счастливым, пожалуй наиболее опасны. Такие идеалы неизменно приводят к попытке навязать другим нашу систему «высших» ценностей для того, чтобы они осознали, что с нашей точки зрения имеет чрезвычайную важность для их счастья, для того, чтобы, так сказать, спасти их души. Они ведут к утопизму и романтизму. Мы все чувствуем, что любой был бы счастлив в прекрасном и совершенном мире наших грез. Вне сомнения, небеса спустились бы на землю, если бы мы все могли любить друг друга. Но, как я уже сказал (в главе 9), попытка создать рай на земле неизбежно приводит к созданию преисподней. Она вызывает нетерпимость. Она вызывает религиозные войны и спасение душ посредством инквизиции. К тому же она, я уверен, основывается на полном непонимании нашего морального долга. Наш моральный долг состоит в том, чтобы помогать нуждающимся в нашей помощи, однако моральный долг не может заключаться в том, чтобы делать других счастливыми, ведь это от нас не зависит, и к тому же это слишком часто представляет собой не что иное, как вмешательство в частную жизнь тех, к кому мы имеем дружескую склонность. Политическое требование постепенных (в противоположность утопическим) методов социального реформирования соответствует принятию решения о том, что борьбу против страданий должно рассматривать как обязанность гражданина, а право заботиться о счастье других — как привилегию ограниченного круга друзей. В последнем случае мы, вероятно, будем иметь определенное право навязывать другим нашу систему ценностей — например наши предпочтения в музыке. (Мы даже можем чувствовать себя обязанными открывать перед друзьями мир ценностей, которые, как мы убеждены, могут весьма способствовать их счастью.) Это наше право существует только в том случае и только потому, что друзья могут избавиться от нас, и наша дружба может быть прекращена. В то же время использование политических средств для навязывания другим нашей системы ценностей — это нечто совершенно иное. Боль, страдание, несправедливость и ее предотвращение являются вечными проблемами общественной морали и «повесткой дня» общественной политики (как сказал бы И. Бентам). «Высшие» же ценности должны быть «вне повестки дня», должны быть в той области, куда вмешиваться недопустимо. Поэтому мы можем сказать: «Помоги своим врагам, посодействуй им в нужде, даже если они ненавидят тебя, но люби лишь своих друзей».
 275
275
Приведенные рассуждения — это только часть доводов против иррационализма и его последствий, которые заставили меня занять противоположную иррационализму позицию критического рационализма. Эта позиция, придающая большое значение логической аргументации и опыту и выдвигающая лозунг «Я могу ошибаться, а ты, возможно, прав, и, приложив определенные усилия, мы можем приблизиться к истине», как я уже говорил, очень близка позиции, которую занимает наука. Она связана с идеей, согласно которой каждый способен совершать ошибки. Обнаружить их может сам допустивший ошибку, другие люди или же допустивший ошибку с помощью критики со стороны других. Это означает, что никто не должен быть собственным судьей, и предполагает принятие идеи беспристрастности. (Такой подход тесно связан с идеей «научной объективности», которая рассматривалась в предыдущей главе.)
Вера в разум есть не только вера в наш разум, но также — и даже более того — вера в разум других. Поэтому рационалист, даже если он уверен в своем интеллектуальном превосходстве над другими, будет отвергать все призывы к авторитаризму17, поскольку он сознает, что если его интеллект и превосходит другие интеллекты (о чем трудно судить), то лишь настолько, насколько он способен учиться под воздействием критики, учиться на своих собственных ошибках и ошибках других людей. Учиться же в этом смысле можно лишь тогда, когда принимаешь всерьез других людей и их аргументы. Рационализм, следовательно, связан с представлением о том, что другой человек имеет право быть услышанным и право отстаивать свои доводы. Он, таким образом, предполагает признание права на терпимость, по крайней мере18 среди тех, кто сам не является нетерпимым. Не станет убивать человека тот, кто признает, что прежде следует выслушать его аргументы. (Кант был прав, когда основывал «золотое правило» на идее разума. В самом деле, невозможно доказать справедливость какого бы то ни было этического принципа, даже вести доказательство в его пользу в такой же манере, в какой доказывается какое-нибудь научное положение. Однако, хотя и не существует «рационального научного базиса» этики, существует этический базис науки и рационализма.)
Следует отметить, что идея беспристрастности приводит к идее ответственности. Мы должны не просто выслушать аргументы, мы обязаны нести ответственность, отвечать за то, как наши действия влияют на других людей. В конечном счете рационализм обусловливает признание необходимости

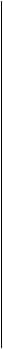
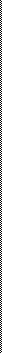

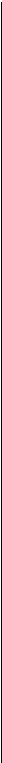 276
276
социальных институтов, защищающих свободу критики, свободу мысли и, следовательно, свободу человека. К тому же он устанавливает нечто вроде морального обязательства поддерживать такие институты. По этой причине рационализм тесно связан с гуманистическим политическим требованием практической социальной инженерии — разумеется, постепенной и поэтапной, — с требованием рационализации общества19 в целях проектирования свободы и контроля над ней со стороны разума. Речь идет, конечно, о контроле не со стороны «науки», не со стороны платоновского псевдорационального авторитета, а со стороны того сократического разума, который осведомлен о своей собственной ограниченности и по этой причине с уважением относится к другим людям и не стремится принуждать их к чему-либо, даже к счастью.
Принятие рационализма, кроме того, предполагает существование общего средства коммуникации, общего языка разума. Рационализм устанавливает нечто вроде морального обязательства по отношению к такому языку — обязательство поддерживать его стандарты ясности20 и использовать этот язык таким образом, чтобы он мог сохранять свои функции средства передачи аргументов. Общий язык разума следует использовать, так сказать, без шифров, использовать прежде всего как средство рациональной коммуникации, средство передачи значимой информации, а не как средство «самовыражения», в качестве которого он используется в скверном романтическом жаргоне большинства наших просветителей. (Особенность современной романтической истерии заключается в том, что она сочетает в себе две позиции — гегельянский коллективизм относительно «разума» и крайний индивидуализм относительно «чувств» и поэтому видит в языке прежде всего средство самовыражения, а не средство коммуникации. Обе эти позиции, очевидно, являются составной частью восстания против разума.) Принятие рационализма также подразумевает признание, что человечество является единым, поскольку различные языки, являющиеся для нас родными, взаимно переводимы в той степени, в какой они являются рациональными. Этим признается единство человеческого разума.
Следует добавить несколько замечаний по поводу отношения рационалистического подхода к возможностям использования того, что обычно называется «воображением». Часто полагают, будто воображение тесно связано с эмоциями, а поэтому — с иррационализмом, и что рационализм более склонен к лишенной воображения сухой схоластике. Я не знаю, имеет ли подобное мнение какое-нибудь психологичес-
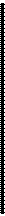
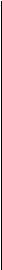 277
277
кое основание. Я весьма сомневаюсь в этом; впрочем, мой интерес к этой проблеме является скорее институциональным, чем психологическим. И с точки зрения институцио-нализма (как и с точки зрения метода) оказывается, что рационализм поощряет использование воображения, поскольку нуждается в нем, тогда как иррационализм стремится воспрепятствовать его использованию. Об этом свидетельствует уже то, что рационализм является критическим, тогда как иррационализм склоняется к догматизму (когда нет аргументов, не остается ничего другого, кроме полного признания или совершенного отрицания). Критицизму всегда требуется определенная степень воображения, тогда как догматизм подавляет воображение. Аналогичным образом невозможно себе представить, чтобы научные исследования, техническое конструирование и изобретения не использовали воображения, причем в весьма значительной степени. В этих областях действительно можно предложить нечто новое (в отличие от сферы философии оракулов, где бесконечное повторение впечатляющих слов лишь производит иллюзию новизны). Наконец, важной представляется роль, которую воображение играет в практическом осуществлении политического равенства и беспристрастности. Фундаментальное положение рационалистов: «Я могу ошибаться, а ты можешь быть правым» требует, будучи применено на практике, особенно в конфликтах между людьми, реальных усилий нашего воображения. Я признаю, что чувства любви и сострадания могут иногда вызывать подобные усилия. Однако я убежден, что для нас физически невозможно откликаться на любовь и страдание большого числа людей. Такая возможность не представляется мне и желательной, так как это могло бы окончательно разрушить либо нашу способность помогать, либо нашу способность чувствовать. Однако разум при поддержке воображения делает нас способными понять, что люди, находящиеся далеко, люди, которых мы никогда не увидим, подобны нам, а их отношения друг с другом подобны нашим отношениям с теми, кого мы любим. Непосредственное эмоциональное представление абстрактной целостности человечества кажется мне вряд ли возможным. Мы можем любить человечество только в конкретных людях. При этом используя мысль и воображение, мы можем осознать необходимость помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.
Все проведенные рассуждения, я полагаю, показывают, что связь между рационализмом и гуманизмом несомненно более тесная, чем соответствующая привязанность иррационализма к антиэгалитаризму и антигуманизму. Я убежден


 278
278
также, что этот вывод подтверждается опытом — настолько, конечно, насколько это вообще возможно. Рационализм обычно сочетается с основными положениями эгалитаризма и гуманизма. Иррационализм, напротив, в большинстве случаев обнаруживает по меньшей мере некоторые из антиэгалитарных тенденций, хотя нередко способен также ассоциироваться с гуманизмом. Однако я утверждаю, что связь иррационализма с гуманизмом никоим образом не может быть обоснована.
IV
В предшествующем разделе этой главы я пытался проанализировать те последствия принятия рационализма и иррационализма, с учетом которых я принял свое решение. Хочу повторить, что это решение является по преимуществу моральным решением. Это мое решение состоит в том, чтобы попытаться серьезно отнестись к имеющимся аргументам. Между позициями рационализма и иррационализма существует разница, которая состоит в следующем: хотя иррационализм, так же, как и рационализм, использует разум, однако он не сознает какой бы то ни было моральной ответственности по отношению к тому, что использует, а поэтому, если заблагорассудится, может использовать разум, а может от него и отказаться. Однако я убежден, что единственная позиция, которую я могу рассматривать как морально справедливую, заключается в том, что мы обязаны признавать рациональными существами как себя, так и других людей.
Моя контратака на иррационализм, если ее рассматривать с указанной позиции, является атакой в плане морали. Считаю, что интеллектуал, на вкус которого наш рационализм чересчур банален и который придерживается последней интеллектуальной моды, принятой в кругу избранных, — а она обнаруживает себя в восторгах перед средневековым мистицизмом — не выполняет своего морального долга по отношению к своим близким. Такой интеллектуал может думать, что он сам и его тонкий вкус выше нашего «века науки», «века индустриализации», проводящего безмозглое разделение труда, его «механизацию» и «материализацию» даже в сфере человеческой мысли21. Однако этим он обнаруживает только собственную неспособность по достоинству оценить присущие современной науке моральные силы.
Положение, с критикой которого я выступаю, может быть проиллюстрировано цитатой из А. Келлера22. Этот отрывок представляется мне типичным выражением романтической
враждебности к науке: «Мы, кажется, должны вступить в новую эру, где человеческая душа восстановит свои мистические и религиозные способности и, создав новые мифы, воспротивится материализации и механизации жизни. Человеческий дух, страдающий от обязанности служить человечеству в качестве техника или в качестве шофера, снова воспрянет как поэт и пророк, подчинит людей зову мечты, которая, думаю, будет столь же мудрой и заслуживающей доверия, как мудрость интеллекта и научных программ, но более вдохновенной и побуждающей к действию. Миф о революции — это реакция против лишенной воображения банальности и тщеславной самоуверенности буржуазного общества, против усталой старой культуры. Это — риск человека, совершенно забывшего о безопасности и обратившегося вместо фактов к мечте». При анализе этого отрывка мне хотелось бы прежде всего, но только мимоходом, обратить внимание на его типично историцистский характер и его моральный футуризм23 («вступление в новую эру», «усталая старая культура» и т.п.). Однако более важным, чем осознание техники словесного шаманства, использованного в этом отрывке, является то, истинно сказанное в нем или нет. Правда ли, что наша душа протестует против материализации и механизации жизни, против того прогресса, которого мы достигли в борьбе с невыразимыми страданиями от голода и эпидемий, свойственных средним векам? Правда ли, что наш дух страдает, служа человечеству в качестве техника, и что он был бы счастливее, служа ему в качестве крепостного или раба?
 2015-05-15
2015-05-15 367
367








