В силу этого возникают смешения близких, а иногда и далеко отстоящих фонем, невозможность выделить существенные признаки речевых звуков, а вместе с этим и невозможность сохранить четкую фонематическую структуру воспринимаемой речи, что и составляет признак акустико-гностической афазии.
Центральным для этой формы афазии является феномен, многократно описанный под названием «отчуждение смысла слов». Нечетко воспринимая звуки речи, такие больные смешивают слова, близкие по звучанию. Так, воспринимая слово «голос», они не могут решить, обозначает ли оно «голос», или «колос», или «холост», или «холст», и именно это многообразие альтернатив и составляет сущность феномена «отчуждения смысла слов». В то же время больные этой группы всегда сохраняют задачу - декодировать полученное ими сообщение: они активно ищут смысл высказывания, пытаются догадаться о нем, но нарушение фонематического слуха неизбежно приводит к затруднению в выделении лексических единиц речи.
Характерно, что, теряя возможность четко определить значение отдельных лексических единиц, больные правильно оценивают интонацию высказывания, легко различая вопросительные и утвердительные предложения, улавливая тон сомнения или уверенности, что позволяет им понять общий тон обращенной к ним речи.
Иногда нарушения понимания речевого высказывания, возникающие при поражении левой височной области (ее средних отделов), принимают иной характер, когда больные воспринимают звуковую структуру сообщения и его лексическое значение, но у них ограничен объем удержания речевого сообщения. Эти нарушения описаны под названием «акустико-мнемической афазии». Такие больные легко понимают и удерживают отдельные слова или короткие фразы. Услышав же длинное речевое сообщение, например, рассказ, состоящий из нескольких фраз, больной может воспроизвести либо его начало, либо конец, заявляя, что забыл оставшуюся часть. Даже после ряда повторений передача его затруднена из-за сужения объема памяти.
Характерно, что в этих случаях достаточно разделить звенья целого сообщения большими паузами и предъявлять серии слов или отдельные фразы через большие промежутки времени, давая больному возможность повторить каждый отдельный участок сообщения, чтобы эти мнемические дефекты ослабевали или даже исчезали.
Больные и этой группы понимают общий смысл воспринимаемого сообщения. Этот парадоксальный факт сохранности понимания общего смысла сообщения при нарушении декодирования или удержания отдельных входящих в его состав фонематических и лексических элементов, возможно, объясняется тем, что у данных больных интонационная структура речевого сообщения остается сохранной. С другой стороны, возможно, этот факт объясняется еще и тем, что такие больные продолжают активно работать над расшифровкой воспринимаемого сообщения и что эта активная деятельность и приводит к пониманию общего внутреннего смысла воспринятого речевого сообщения.
6. Габб0аГёа ГТГёТаГёу ёТаёёТ-абаТТаОё-аПёёб ТоГТ0аГёё
Овладение фонематической системой и лексическими элементами языка является лишь одним из условий, необходимых для понимания речевого сообщения. Вторым условием, не менее необходимым для понимания целого сообщения, является усвоение значений тех логико-грамматических конструкций, из которых состоит сообщение.
Логико-грамматические конструкции русского языка отчетливо распадаются на два типа.
Первый составляют так называемые событийные конструкции, или «коммуникации событий». Как правило, такие конструкции лишь описывают определенные действия или события или указывают на некоторые качества объекта («Дом горит», «Собакалает», «Девочка пьет чай»).
Вторым типом логико-грамматических конструкций являются конструкции, описывающие определенные отношения (их и называют «коммуникации отношений»). Примеры: отец брата, лето перед весной или Весна перед летом, Вася сильнее Пети, платье задело весло - весло задело платье (порядок слов).
Первый тип конструкций носит синтагматический характер.
Какие же зоны мозга связаны с пониманием логико-грамматических отношений?
Прежде всего третичные, теменно-затылочные отделы левого полушария, нарушения которых вызывает семантическую афазию.
Больные этой группы без труда понимают значение коммуникаций событий (фразы типа «Дом горит», «Мальчик ударил собаку», даже фразы, состоящие из большого числа слов: «Отец и мать пошли в театр, а дома остались дети и старая бабушка»). Однако при понимании грамматических конструкций, которые выражают коммуникацию отношений, эти больные испытывают значительные затруднения. Так, казалось бы, простая фраза «На ветке дерева гнездо птицы» часто непонятна таким больным, хотя понимание значения каждого отдельного слова полностью доступно. Естественно поэтому, что более сложные конструкции, включающие сложные подчинения, и вовсе недоступны таким больным (напр., фраза «В школу, где училась Лена, из института пришел лектор, чтобы сделать доклад»).
Описанные выше нарушения, которые наблюдаются у больных с поражениями височных и теменно-затылочных отделов мозга, имеют одну черту, общую для обеих групп больных. И в том, и в другом случаях больные полностью сохраняют мотив к активному анализу воспринимаемого текста, пытаются выделить существенные его компоненты, сопоставить их друг с другом. Больные улавливают интонационную структуру высказывания и, ориентируясь на нее, опираясь на отдельные фрагменты, выстраивают или догадываются об общем смысле предложенного им речевого высказывания.
Особое место в ряду описываемых нами нарушений понимания речевого высказывания занимают больные с поражением постцентральных отделов речевых зон коры левого полушария и с синдромом так называемой афферентной моторной афазии.
Как мы уже видели, такие больные испытывают значительные трудности в дифференциации звуков, смешивают близкие по артикуляции звуки и делают соответствующие ошибки в письме.
Казалось бы, нарушения, имеющиеся у этих больных, носят только артикуляционный характер и не должны сказываться на понимании речевого сообщения. Однако аппарат произношения, как известно, играет важную роль в уточнении значений слов, поэтому такие больные обнаруживают трудности в декодировании сообщения, в понимании лексического состава речи в тех случаях, когда допускают ошибки в артикуляции.
Характер нарушения процесса понимания речи у больных с афферентной моторной афазией еще достаточно не изучен.
Все описанные выше нарушения декодирования речевого сообщения у больных с поражениями отдельных гностических зон коры головного мозга имеют еще одну общую черту. Это - нарушения парадигматических связей (отношений) связной речи. Эта особенность нарушения процесса овладения парадигматически построенными кодами языка и составляет центральный симптом больных с поражениями отдельных гностических зон коры левого полушария мозга.
7. ГаббааГёа ГТГёТаГёу пёГоааТаоё-е-апёТаТ побТу
паудГТё ба-ё
Наряду с овладением парадигматически построенными кодами языка существует еще и процесс усвоения плавной, синтагматически развертывающейся речи.
Мы уже говорили, что плавное синтагматически построенное высказывание является результатом превращения исходного замысла в развернутое речевое сообщение и обеспечивается, с одной стороны, нижними отделами премоторной области левого полушария мозговой коры, при поражении которых структура высказывания трансформируется в «телеграфный стиль», с другой - лобно-ви-сочными отделами коры головного мозга, поражение которых приводит к эфферентной моторной афазии.
Возникает вопрос: ограничиваются эти нарушения лишь порождением синтагматики речевого высказывания или они отражаются также и на понимании развернутого речевого сообщения?
Понимание парадигматически построенных речевых структур (даже довольно сложных) у больных этой группы остается без существенных изменений. Однако стоит перейти к анализу понимания синтагматически построенных структур, как мы видим явные ошибки.
Так, в опытах, проведенных в последнее время, больным предлагались грамматические структуры, частью правильно построенные, частью - неправильно. Ошибки в грамматических структурах были двоякого характера: в одном случае это были неправильно парадигматически построенные речевые конструкции, в других -ошибки имели чисто синтагматический характер.
К первой группе ошибок относились такие, как «Солнце освещается Землей», «Муха больше слона».
Ко второй - «Пароход идет под водой», «Ружье стреляет пули» и т. п. Как показали результаты опытов, больные с поражениями передних отделов речевых зон резко отличались от больных с поражением теменно-затылочных отделов коры головного мозга. У «передних» больных ошибки носили чисто синтагматический характер. Больные не могли различить фразы с правильным и неправильным синтаксическим согласованием слов. Они начинали испытывать существенные затруднения при определении имеющейся во фразе ошибки и считали, что фраза правильная или почти правильная. Когда больным предлагалось всё же изменить предложение, они вносили ошибочные поправки, например, вместо фразы «Пароход плывет под водой» писали «Пароход плывет по водой» или «Пароход плывет на водой» и т.п.
Нарушение понимания речевого высказывания, характерное для больных с эфферентной моторной афазией, состоит в невозможности восстановить нужный синтагматически организованный порядок элементов речи, уловить ошибки в правильном синтагматическом построении речевого сообщения.
Второй особенностью больных этой группы является тот факт, что они проявляют значительные дефекты и в понимании интонационной структуры устной речи, которая остается полностью сохраненной у больных с поражением задних гностических отделов коры головного мозга.
Эти наблюдения показывают лишь ту сферу, в которой нужно продолжить изучение нарушений понимания речи у больных с эфферентной моторной афазией и «телеграфным стилем».
8. ГадбааГёа ГТГёТаГёу ТайааТ ПТйПёа (ГТабаёпба) да-е-ааТаТ ПТТайаГёу
Какие мозговые механизмы обеспечивают понимание подтекста, т. е. ответственны за «глубину прочтения текста», за процесс перехода от внешнего значения речевого сообщения к его внутреннему, скрытому, эмоциональному смыслу?
Есть предположения, не лишенные обоснований, что понимание не только внешнего, но и внутреннего смысла сообщения малодоступно для больных с поражениями лобных отделов мозга, у которых весь инвентарь лексических и логико-грамматических кодов языка остается сохранным.
Известно, что процесс понимания значения сколько-нибудь сложного речевого сообщения требует активного анализа, сличения разных компонентов сообщения, возвращения к уже предъявленным ранее компонентам и т.д. Этот активный характер процесса понимания текста можно проследить при анализе движений глаз читающего. При этом отчетливо видны возвращения к ранее прочитанным частям текста, сличение их с последующими участками и т.п.
Именно этот активный характер работы над декодированием речевого сообщения нарушается у больных с поражениями лобных отделов мозга. Эти больные легко понимают простые фрагменты предъявляемого им сообщения, когда понимание носит непосредственный характер, но испытывают затруднения, если понимание общего значения требует предварительной работы над текстом. Трудности возникают при понимании таких отрывков текста, подлинное понимание которых возможно лишь сближением далеко отстоящих частей. Так, в отрывке «Птицы очень полезны: они истребляют вредных насекомых. Они охраняют наши сады» слова «птицы» и «они» отстоят далеко друг от друга, в то время как слова «насекомых» и «они» примыкают друг к другу. Нормальный испытуемый сразу поймет, что слово «они» относится к птицам, а не к насекомым. Больной с выраженным «лобным синдромом», как правило, связывает непосредственно следующие друг за другом слова «насекомые» и «они» и делает вывод, что «насекомые охраняют наши сады».
Аналогичные затруднения выступают и при понимании больными с поражениями лобных долей мозга смысловых инверсий (замен). Так, фраза «Я не привык не подчиняться правилам», означающая («Я привык подчиняться правилам»), обычно ложно понимается такими больными.
Еще большие трудности возникают у больных с поражением лобных долей мозга и нарушением высших форм активной деятельности в процессах перехода от текста к подтексту и от внешнего значения к внутреннему смыслу. Такие больные часто обнаруживают склонность к непосредственному пониманию метафоры (понимая выражение «железная рука» как рука, сделанная из железа, или рука, держащая клещи).
Таким образом, легко схватывая внешнее значение сообщения, больной с отчетливым «лобным синдромом» часто не в состоянии понять выраженный в нем смысл.
Приведенные выше факты показывают, что нарушение понимания речевого сообщения у больных с поражениями лобных отделов мозга коренным образом отличается от всех тех затруднений понимания текста, которые наблюдаются у больных с поражением различных гностических зон мозговой коры.
Мы могли убедиться, используя экспериментальные методы нейролингвистического анализа, что локальные поражения мозга не вызывают общего нарушения речевой деятельности, а затрагивают лишь различные входящие в ее состав элементы, что и приводит к дифференцированным формам речевых нарушений. Все эти факты убеждают в том, что данные нейролингвистики могут быть использованы для лучшего понимания процессов кодирования и декодирования речи в норме и при патологиях.
Таким образом, исследование больных с локальными поражениями мозга показывает, насколько дифференцированной является мозговая организация речевой деятельности и какие широкие перспективы имеет этот путь исследования.
АТ'ГдТпй ё даааГёу аёу ТаПбжааГёу
1.Как происходит распознавание речи (декодирование) с точки зрения нейролингвистики? Приведите примеры.
2.Опишите процесс кодирования (порождения) речи. Приведите примеры.
3.Объясните на примерах, что такое парадигматические и синтагматические отношения применительно к системе русского языка.
4.Какие виды афазий возникают при поражениях определенных зон коры головного мозга?
5.Укажите специфические черты НЛ анализа формирования речевого сообщения.
6.Что представляет собой НЛ анализ понимания речевого сообщения?
7.Рассмотрите приемы исследования кодирования речи. Почему все эти приёмы обязательно должны применяться в комплексе?
1дёа1й ёппёааТаа(ёу ёТаёдТаа(ёу да+ё
-Прослеживание спонтанной речи больного, т.е. мы наблюдаем, как он выражает просьбы, желания, как налаживает речевой контакт с окружающими.
-Исследование диалогической речи с больным, где ему предлагаются вопросы, на которые он должен давать соответствующие ответы.
-Изучение повторной речи больного. Больному предлагается повторять отдельные звуки, слоги, слова, серии слов и фразы.
-Опыт с припоминанием слов (по формулировке Лурия). Включает две серии опытов: называние предметов (по картинках дать название изображенному) и воспроизведение слов в процессе связного высказывания (каким словам дается предпочтение в речи, в тексте).
-Анализ самостоятельной монологической речи больного (передача содержания прочитанного рассказа или рассказ по картине).
-Опыт с построением развернутого устного сочинения на заданную тему, в котором конкретная схема сочинения (текста) должна была создаваться самим больным, как и воплощение этой схемы в развернутое, самостоятельное речевое сообщение.
8. В чем отличие комплекса приемов исследования декодиро-
вания речи от приемов исследования кодировании речи?
1дёа1й ёппёааТаа(ёу ааёТаёдТаа(ёу да+ё
-Понимание простых фраз.
-Понимание фраз, требующих для усвоения их смысла осуществления некоторых вспомогательных операций: определение правильность или неправильность построения фразы; выявление грамматических и семантических отношений между словами в пределах фразы; понимание сложной синтаксической конструкции, осложненной различными причинно-следственными отношениями, деепричастными и причастными оборотами.
-Осознание грамматической отношений фраз (определить часть речи, род, число и падеж существительных, время и лицо глагола, осуществить грамматический разбор предложения).
-Понимание семантической структуры фраз (изучение понимание переносных смыслов, метафор, пословиц).
-Понимание целых смысловых отрывков (текстов), их общей мысли и их внутреннего смысла (почти не изучено).
-Изучение объема памяти.
9. Составьте конспект по теме «Основные этапы процесса
речевой коммуникации» (на основе монографии А.Р. Лурия. Основы
нейролингвистики. - М., 1975. - С. 5 - 31) по предложенному плану:
\ёа\
1. Психологические исследования
1.1.Учение Л. С. Выготского о мысли.
1.2.Внутренняя речь как промежуточное звено между исходной мыслью и конечным внешним речевым высказыванием. Признаки внутренней речи.
2. Учение о формировании речевого высказывания в лингвистике.
2.1. Вклад Э.Сепира, Ф. де Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртенэ в ста-
новление структурной лингвистики.
2.2. Теория трансформационной грамматики Н. Хомского.
2.3. Модель «Смысл -<—>- Текст», разработанная в московской линг-
вистической школе И. А. Мельчуком, А.К. Жолковским, Ю. Д. Апресяном.
3. Процесс передачи смысла сообщения и средства его выражения.
10. Сделайте вывод об особенностях НЛ анализа речевой деятельности.
АТГ ТёГёбаёиГау ёёбадаббда
1. Ахутина, Т.В. (Рябова). Нейролингвистический анализ динамической афазии / Т.В. Ахутина. - М., 1975.
2. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - М., 2005.
3. Лурия, А.Р. Основные проблемы нейролингвистики / А.Р. Лурия. - М., 1975.
4. Лурия, А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. - М., 1999.
Аёааа 6. ВдУЕ Ё Ш0ЁАГЁА
1. Проблема соотношения языка и мышления.
2.Разнообразие гипотез о взаимосвязи мышления и языка.
3.Внутренняя речь как инструмент мышления.
1. ГбТаёаТа ПТТОГТ0аГёу удиёа ё Ти0ёаГёу
Одной из наиболее существенных проблем является проблема отношения языка и мышления. Этот момент рассматривается психолингвистикой в тесном взаимодействии с психологией. Теория языковых значений, связь языка и мышления являются важнейшим аспектом лингвистических знаний.
Язык представляет собой систему знаков, используемую для целей коммуникации и познания. Системность языка выражается в наличии в каждом языке словаря, синтаксиса и семантики.
Синтаксические правила языка устанавливают способы образования сложных выражений из простых.
Семантические правила определяют способы придания значений выражениям языка. Это достигается указанием тех обстоятельств, в которых должны приниматься предложения определенного вида.
Правила значения обычно делятся на три группы: аксиоматические, дедуктивные и эмпирические.
Аксиоматические правила требуют принятия предложений определенного вида во всех обстоятельствах.
Например, правила русского языка предписывают всем говорящим на этом языке всегда принимать предложения «Каждый холостяк не женат», «Сантиметр равен одной сотой метра», «Красное не есть черное» и т.п.
Дедуктивные правила требуют принятия следствий, вытекающих из некоторых посылок, если приняты сами посылки.
Например, таково правило, согласно которому, приняв предложения «Если Иван Ильич человек, то он смертен» и «Иван Ильич человек», следует принять также предложение «Иван Ильич смертен».
Ситуация принятия предложений, указываемая эмпирическими правилами значения, предполагает выход за пределы языка и внеязыковое наблюдение.
Например, к таким правилам относятся правила, требующие принятия предложения «Больно» в случае ощущения боли, предложения «Этот предмет - красный» при восприятии красного предмета и т.п.
Языки, включающие эмпирические правила значения, приня-
то называть эмпирическими. Очевидно, что и язык логики, и язык математики не требуют при принятии или отбрасывании своих предложений обращения к непосредственному опыту и ощущению. В этом смысле данные языки не являются эмпирическими.
В рамках психологии мышление как высшая форма психической деятельности изучается на протяжении многих веков. При этом всякий раз, когда говорят о природе языка, обязательно вовлекают в сферу рассуждений и феномен языка. Поэтому в науке проблематика соотнесения языка и мышления составляет наряду с происхождением языка «вечную проблему».
Мышление - это активный процесс отражения объективной действительности в формах представлений, понятий, суждений, умозаключений. Мышление является частью сознания, т.е. всего процесса отображения действительности нервно-мозговой системой человека. Таким образом, будучи связанным с понятийными аспектами именно мышление ответственно за осмысливание, переработку и трансформацию языкового знака в то, что он означает - в понятие.
Мышление главным образом оперирует понятиями как логическими значениями языковых знаков. Строго говоря, проблема значения слова связана не только с мышлением но и к сознанием. Ведь кроме логических значений языковых знаков существуют также эмоциональные и эстетические. А семантика языка это как раз и есть сочетания всех значений.
Как соотносятся язык и мышление?
Их области можно изобразить как два частично пересекаю-
щихся круга:
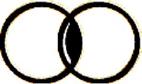
Не все в мышлении относится к языку, но и в языке не все можно причислить к мышлению.
Во-первых, мышление бывает без языка (имеется в виду - без речи). Даже обезьяна способна догадаться, как с помощью палки можно достать банан - это так называемое практическое мышление. Оно есть и у человека. Человек «практический» умеет принимать правильные решения, действует «по-умному», но объяснить словами, почему он сделал так, а не иначе, он, скорее всего, затруднится.
Существуют еще такой тип мышления, как наглядно-образное. Оно часто преобладает у людей искусства: художников, режиссеров... Человек с таким типом мышления предпочитает думать не словами, а картинами, образами, представлениями...
Наконец, есть вербальное мышление, то есть словесное. Иногда его называют словесно-логическим или просто логическим.
Такое мышление:
- предполагает поиск истины,
- не связано с чувствами и оценками,
- не имеет дела с вопросом и побуждением.
Все, что выходит за эти рамки, не является проявлением логического мышления. Вот, например, при выражении эмоций, чувств («А! О! Эх!», «Классно!»), при формулировании «утилитарных» вопросов («Который час?») используется язык «без участия» логического мышления. Еще: «Кого я вижу! Привет!» - окликнют знакомого. Таким образом, язык «обслуживает» не только мышление, но и другие сферы человеческого сознания.
Практическое и образное мышление могут обходиться без слов, но логическое мышление без речи не существует. Язык - это «одежда» мысли (ученые говорят: материальное оформление мыслей). А поскольку люди не только «про себя» (т.е. не слышно для других) думают, но и стремятся передать мысли другому, то без помощи языка-посредника никак не обойтись.
Мышление осуществляется в трех определенных формах.
ПОНЯТИЕ. В понятиях отражаются отличительные свойства предметов и отношения между ними. Понятия «книга», «брошюра», «журнал», «газета», «еженедельник» принадлежат к одной тематической группе, но различаются такими признаками, как «формат», «объем», «периодичность», «скрепленность страниц», «способ скрепления» и т.д.
В семасиологии различают формальное и содержательное понятие. «Формальное понятие» отражено в толковом словаре: например, вода - это прозрачная бесцветная жидкость без вкуса и запаха. «Содержательное понятие» может быть только виртуальным: в него входит весь объем знаний о воде (Н2О), накопленный во всех физиках, химиях, био-логиях и т.д., вместе взятых. Говоря очень схематично, понятие в мышлении соответствует слову (реже - словосочетанию) в языке.
Очевидно, что с развитием науки (и не только) представления о том или ином понятии развиваются; то же происходит с отдельным человеком по мере его взросления и обучения. У ребенка круг понятий ограничен.
Например, герой чеховского рассказа «Гриша» еще не имеет в своем сознании понятия «собака», и ему приходится описывать этих животных так: «большие кошки с задранными вверх хвостами и высунутыми языками».
СУЖДЕНИЕ. Логическое мышление и начинается там, где появляется суждение. В суждении обязательно что-либо утверждается или отрицается. (Логическое мышление, напомним, вообще «работает» только с утверждением и отрицанием.) Второй отличительной чертой суждения является то, оно может быть либо истинным, либо ложным. Отличить суждение от всего остального несложно. Для этого надо мысленно подставить к готовому предложению такое начало: «Я утверждаю, что.» Если получается - перед нами суждение, если нет - что-то другое.
Рассмотрим на примере: возьмем короткие предложения: «Привет!», «Хочешь чаю?», «Славься, Отечество наше свободное!»
Подставляем начало. И логическое мышление «не срабатывает». Значит, можно сделать вывод: взятые для примера высказывания - не суждения.
Возьмем другие: «Все люди смертны», «Отдельное суждение неполно», «Все устрицы несчастны в любви», «Ни одна свежая булочка не является невкусной».
Подставляем.
Становится понятно, что эти предложения - суждения. Верные или неверные, вопрос другой.
В языке суждению как форме мышления соответствует предложение - причем повествовательное по цели высказывания.
Суждение имеет свою структуру. Совершенно обязательно, чтобы в нем были субъект и предикат. Субъект - это сам предмет мысли, в предложении ему обычно соответствует подлежащее. Предикат - это то, что утверждается или отрицается о предмете. В предложении ему соответствует сказуемое.
Г. Я. Солганик объясняет это так: «Мысль движется от известного к новому. Это закон движения любой мысли. «Лес непроходим», «Море смеялось». Предмет мысли (субъект суждения) - это известное, то, от чего я отталкиваюсь. Затем к этому субъекту («лес», «море») я добавляю новую характеристику («непроходим», «смеялось»). В этом заключается развитие мысли. Как образно писал один английский ученый почти сто лет назад, «предложения в процессе мышления - это то же, что шаги в процессе ходьбы. Нога, на которой вес тела, соответствует подлежащему. Нога, которая передвигается вперед, чтобы занять новое место, соответствует сказуемому».
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ есть сам процесс мысли, получение нового суждения из содержания исходных суждений. Как получилось суждение «Кошка бессмертна»? Из двух: «Все люди смертны» -правильно? «Кошка не человек» - правильно? Значит, из двух правильных правильно и третье.
Больше всего связаны язык и мышление там, где совершается дедукция.
Пример дедукции: дедуктивные способности Гарри Поттера проверял Сфинкс. Он загадал такую загадку:
Две первые буквы возьмёшь у отца Захочешь с начала, захочешь с конца. А следующей буквой гудит паровоз, Когда машинист нервно тянет за трос. Начало конца завершает шараду, Но букве последней мы вовсе не рады. Решеньем, как липкою сетью обвиты, И страшен его поцелуй ядовитый.
Вот как наш герой решал эту шараду:
- И из этого получится существо, чей поцелуй ядовит? - спросил Гарри.
Сфинкс мягко улыбнулся ему в ответ своей загадочной улыбкой. Гарри решил посчитать его улыбку за знак согласия и принялся напряженно размышлять. В мире есть куча созданий, с которыми не стоит целоваться. Ему почему-то все время лезли в голову Огнеплюи-Мантикрабы, но внутренний голос говорил, что это - не они. Придется разгадывать по слогам.
Так: «Две первые буквы возьмёшь у отца...» С начала, или с конца: Гм: Я вернусь к этому слогу позже... <...>
«А следующей буквой гудит паровоз, когда машинист нервно тянет за трос». Может, это У?
Теперь последний: «Начало конца завершает шараду, но букве последней мы вовсе не рады» - понятия не имею! Что ж вернусь к первому: отец. папа. может быть, это ПА? ПА. У.? Чей поцелуй ядовит?. ПАУК!
Сфинкс широко улыбнулся. Он поднялся на ноги, потянулся и отошёл в сторону, пропуская Гарри.
- Спасибо! - вскричал Гарри и, в восторге от собственной гениальности, помчался вперёд.
Примеры «мышления вслух» показывают, как речь полностью совпадает с процессом мышления. Конечно, мы сможем оценить это совпадение только в том случае, если речь произнесена или записана, т.е. рассчитана на восприятие. Услышать внутреннюю речь, когда человек сам с собой размышляет, невозможно.
Еще один аспект проблемы «язык и мышление» поможет понять аналогия язык - товар. Если вам нужно заплатить за товар 100 рублей, вы можете достать одну банкноту, а можете две по 50. И наоборот: на одни и те же 1 00 рублей можно купить несколько вещей. Одна и та же мысль также может быть оформлена совершенно по-разному: можно сказать «Приходи», а можно «Я тебя жду». Или: «Я обрадовался твоему сообщению» / «Твое сообщение меня обрадовало» / «Ты обрадовал меня своим сообщением» (поразмыслите сами, в чем разница). Одно и то же понятие или представление может быть выражено различными словами или словосочетаниями. И наоборот: одно и то же слово может быть использовано для разных понятий или представлений. Например, глагол любить употребляется в бесчисленном множестве контекстов, «люблю» можно сказать и о своем городе, и о маме, и о футболе, и о помидорах, и т. д. Но это разные представления любви.
 2015-08-21
2015-08-21 1125
1125








