(Москва, koshelev@lrc-press.ru)
О ЯЗЫКОВОМ ПОНИМАНИИ, ВОЗНИКАЮЩЕМ В АКТЕ КОММУНИКАЦИИ (при взаимодействии схемы лексического значения с наивной классификацией мира)
1. О языковом понимании. Объясним сначала термин «языковое понимание». Предположим, мы услышали фразу Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. Не зная ничего об описываемой ситуации, только на основе услышанных слов, мы вполне ясно, и главное, конкретно представляем ее референтную ситуацию: секретарша сидела на крутящемся (офисном) стуле, а затем быстро повернулась вместе с сиденьем к открывающейся двери. Для нас это настолько привычная операция (представить реальную ситуацию, «картинку» по услышанной фразе), что мы даже не осознаем ее нетривиальности: говорящий, видя некоторую реальную ситуацию, описывает (кодирует) ее языковым высказыванием (последовательностью звуков), а слушающий, не видя этой ситуации, по услышанным звукам реконструирует в своем сознании если не ее, то ситуацию типологически очень похожую, причем в конкретных чертах. Этот коммуникативный эффект: воссоздание гипотетической референтной ситуации («картинки») воспринятой фразы (и слова в ней мы) и называем языковым пониманием фразы (слова).
Подчеркнем: суть именно в том, что слушающий в итоге представляет (воссоздает) вполне конкретную ситуацию, которую называет или могла бы назвать услышанная фраза. Только в этом случае он по-настоящему способен далее (уже интеллектуально) понять говорящего и сделать из услышанного свои выводы. Когда же он улавливает только общий смысл, информационный эффект резко снижается. Если, к примеру, нам кто-то объясняет дорогу, и мы по этому объяснению построили в голове конкретную схему поворотов и переходов, то мы поняли говорящего (достигли языкового понимания). Если же мы лишь осмыслили, что речь шла о поворотах налево и направо и о переходах через какие-то дороги, но точно представили (воссоздали) лишь некоторые из них, полного языкового понимания не произошло.
Итак, наша задача: объяснить, как слушающий воссоздает по воспринятой фразе ее гипотетический референт, реальную «картинку» (а не просто смысл!).
Проиллюстрируем решение этой задачи на простейшем примере: кодировании и декодировании предметных существительных. Опираться при этом мы будем на следующий (основной) тезис: лексическое значение предметного существительного ― это многоаспектное характеристическое описание его референтов, представленных как самостоятельный класс наивной предметной классификации носителя русского языка.
2. Структура и содержание лексического значения. Лексическое значение предметного существительного складывается из описаний двух типов: предметного признака референтов и прототипического(типичного) образа референтов ― манифестанта этого предметного признака. На примере слова стул сказанное выглядит так:
(1) Стул (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) = ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК ― ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ.
Предметный признак представляет собой характеристическое свойство референтов слова, т. е. свойство, присущее им всем (и только им). Он усваивается ребенком подсознательно вместе с овладением языком и одинаков у всех его носителей. Усвоение это заключается в том, что ребенок научается правильно соотносить предметный признак с воспринимаемыми предметами, делая их тем самым референтами слова. Иначе говоря, он учится определять, какие предметы своими конкретными свойствами (предметными признаками) соответствуют общему предметному признаку (и, стало быть, являются референтами слόва стул), а какие нет.
Прототипический образ референтов ― это прототип, т. е. типичный визуальный (шире, перцептивный) образ референтов, конкретные свойства которых не только отвечают предметному признаку, но и являют собой его типичное внешнее проявление, иначе говоря, манифестируют предметный признак (именно это и выделяет прототипический образ из энциклопедической информации о предмете-референте и делает его элементом языкового значения). Часто прототипический образ референтов составляется из нескольких прототипов ― типичных образов подклассов (подвидов) класса референтов предметного существительного. Например, у слова стул можно выделить такие подклассы: «советский стул (массивный, с высокой прямоугольной спинкой и трапециевидным сиденьем)», «венский стул (с круглыми изогнутыми ножками, круглым сиденьем и овальной спинкой)», «офисный стул (с вращающимся сиденьем на одной ножке)» и др. Таким образом, на примере стула, получим:
(1а) Стул (ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ) = ПРОТОТИПЫ {«советский стул», «венский стул», «офисный стул»...}.
Прототипический образ референтов формируется у каждого носителя языка индивидуально и вполне осознанно в процессе использования предметного признака при назывании словом окружающих предметов. В нем фиксируется личный языковой (референциальный) опыт носителя языка. Например, один ребенок никогда не видел офисных стульев, а другой ― венских стульев. В силу этого, они будут иметь несовпадающие наборы прототипов стульев.
Предметный признак задает множество всех потенциальных референтов слова (и только их). Он складывается из двух характеристик: а) структуры частей референта (мы называем еепартитивной моделью референта) и б) функции этой модели, отражающей ту роль, которую, по мнению носителя языка, партитивная модель выполняет [12]. Иначе говоря, он имеет вид:
(1б) ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК = ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕФЕРЕНТА ― ЕЕ ФУНКЦИЯ.
Так, стул имеет следующую партитивную модель: ‘≈ опирающееся на четыре ножки горизонтальное сиденье с прикрепленной к нему вертикальной спинкой’. Функция стула ― это его характеристическое свойство, выделяющее класс стульев среди других предметов, сделанных для сидения, прежде всего табуретов и кресел. Коротко говоря, функция табурета: ‘давать человеку возможность сидеть, не расслабляя тела’, а функция кресла: ‘давать человеку возможность сидеть, полностью расслабившись’. Стул же реализует промежуточную функцию: ‘давать человеку возможность сидеть, частично расслабившись’. Эта функция и позволяет идентифицировать стулья ― референты слова стул, и выделять в них основные части, ее обеспечивающие (партитивную модель: связанные нужным образом сиденье, ножки и спинка). Так, если мы удалим спинку, то функция возникшей структуры несколько изменится, и будет отвечать слову табурет.
Заметим, что далеко не всякая модификация частей предмета приводит к изменению его функции (и, стало быть, предметного признака). К примеру, офисный стул имеет одну ножку и крутящееся сиденье, однако свое имя (стул) он сохранил. Эти нововведения не изменили его функции ― обеспечивать человеку полу-расслабленную сидячую позу, поскольку одна ножка с успехом выполняет функцию четырех. Данный пример показывает, что партитивная модель отражает функциональную структуру (и взаимодействие)частей референта.
3. Наивная предметная таксономия. Условимся считать, что множество референтов каждого предметного существительного включено ― как самостоятельный класс ― в наивную предметную классификацию носителя языка, т. е. в древовидную иерархическую структуру с вершиной ― классом референтов слова предмет [13]. Иначе говоря, множество референтов предметного существительного представлено в сознании носителя языка не изолированно, акак класс (элемент) единой иерархической структуры предметных классов, общей для всех носителей языка, см. рис. 1.
Стрелка «↓» обозначает отношение иерархического включения, означающее, что нижний, более частный класс является подклассом верхнего, более общего.
От вершины этой таксономической иерархии ― класса ‘предмет’ (корня дерева) идут вниз два более частных подкласса предметов: ‘неорганический пред-
| ‘предмет’ ↓ ↓ | ||||||
| ‘неорганический предмет’ ↓ ↓ | ‘органический предмет’ ↓ ↓ | |||||
| ‘вещь’ (рукотворный) ↓ ↓ | ‘натуральный’(нерукотворный) ↓ | ‘труп’ (мертвый) ↓ | ‘организм’ (живой) ↓ ↓ | |||
| ‘оптический прибор’ ↓ | ... ... ↓ 2 ‘стул’ | ... ↓ 3 ‘камень’ | ... ↓ 4 ‘туша’ | ‘растение’ ... ↓ | ‘животное’ ... ↓ | |
| ... ↓ 1 ‘очки’ | ... ↓ 5 ‘роза’ | ... ↓ 6 ‘орел’ | ||||
Рис 1. Фрагмент наивной предметной таксономии носителя русского языка.
мет’ и ‘органический предмет’. От класса ‘неорганический предмет’ идут, разделяясь, классы следующего уровня: ‘нерукотворный’ ― ‘рукотворный’ предмет. От класса ‘органический предмет’ идут свои классы: ‘труп (мертвый)’ ― ‘организм (живой)’ и т. д. Нижний уровень иерархии («листья» иерархического дерева) образуют классы референтов конкретных существительных: ‘очки’, ‘стул’, ‘камень’, ‘туша’, ‘роза’, ‘орел’ (эти классы помечены подчеркнутыми цифрами: 1, 2,...).
Ячейка (класс) предметной иерархии заполняется конкретными образами референтов слова, встретившимися носителю языка (вместе с ситуацией, в которой референт оказался, а также способами и условиями взаимодействия с ним, материалом, из которого он сделан и пр.). Короче говоря, в ячейке хранится набор целостных картинок, содержащих образы референта, удовлетворяющие предметному признаку (он ― основание классификации картинок), вместе со своим ситуационным окружением.
Намеченная предметная классификация (подробнее о ней см. в [КОШЕЛЕВ 2006: 520 и сл.]) совпадает у разных носителей языка с точностью до их лексикона. Если, скажем, носитель языка не знает слова астильба (название цветка), то в его предметной иерархии не будет и класса ‘астильба’. Что касается конкретного наполнения классов (ячеек) данной иерархии (образами и свойствами конкретных предметов), то оно может заметно варьироваться у разных носителей языка.
Рассмотрение множества референтов предметного существительного как класса предметной иерархии ставит нас перед необходимостью ввести в лексическое значение (1) слова еще один компонент: информацию о месте (локализации) класса референтов в предметной иерархии, т. е. информацию о ближайшем сверху (родовом) классе. Тогда схема (1) примет вид:
(1в) Стул (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) = i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК ―
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК ― iii. ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ.
Возьмем, к примеру, слово стул. Его лексическое значение должно содержать наряду с предметным признаком референта (парой: партитивная модель стула ― ее функция), указание на родовой класс ― ‘предмет для сидения одного человека’, включающий наряду с классом ‘стул’, классы ‘табурет’, ‘кресло’, ‘пуфик’ и др.
Условимся содержательные элементы лексического значения (партитивную модель, ее функцию, прототипы) заключать в словесные «скобки». Тогда схему лексического значения слова стул можно представить так:
(2) Стул (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
рукотворный предмет, дающий возможность одному человеку принять пассивное сидячее положение
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ
в полу-расслабленной позе,
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ
которая (поза) обеспечивается специальным расположением трех основных частей: горизонтального сиденья ― опоры для седалища, присоединенных к нему снизу ножек (или одной ножки), поддерживающих сиденье на нужной высоте (чтобы человек мог ступни своих ног опереть на пол или убрать под сиденье) и прикрепленной к сиденью сверху спинки ― опоры для его спины;
iii. ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
прототипы {«советский стул на четырех ножках», «офисный стул на одной ножке»...}.
Напомним роль каждого компонента.
Родовой признак задает место класса референтов в наивной предметной иерархии.
Предметный признак дает партитивно-функциональную характеристику класса всех (потенциальных) референтов лексемы. Он усваивается ребенком подсознательно, вместе с усвоением лексической системой языка.
Прототипический образ дает типичную внешнюю характеристику класса референтов, т. е. задает набор типичных подклассов (подвидов) класса референтов. К примеру, для стула ― это такие его подвиды: «офисный», «советский», «детский» и др. Эти «отстоявшиеся» (в результате многократных референций слова стул) типичные образы хранятся в языковом сознании ребенка и отражают его личный языковой (референциальный) и деятельностный опыт.
4. Семантическая схема предметного существительного. В классе ‘стул’ предметной таксономии хранятся конкретные образы стульев, встретившиеся и запомнившиеся носителю языка (можно предположить: в виде динамических картинок с центральным элементом ― стулом, и ситуациями, в которых он находился и использовался). Все эти образы (стулья) отвечают предметному признаку. Большинство из них соответствует тому или иному прототипическому образу. Вместе с тем, в ячейке могут находиться и нетипичные образы, не отвечающие ни одному из прототипов.
Из сказанного заключаем, что семантическая схема предметного существительного имеет вид (на примере слова стул):
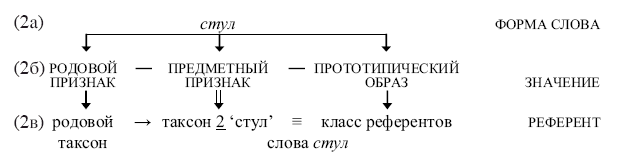
Данная схема включает три элемента (они названы в правом столбце): ФОРМА СЛОВА (2а), ЗНАЧЕНИЕ (2б) иРЕФЕРЕНТ (2в) ― цепочку предметной классификации: «родовой класс → класс 2 ‘стул’ (множество референтов слова стул)». Ее центральный элемент (2б) ― лексическое значение ― содержит трехаспектное описание класса референтов слова стул (класса 2 ‘стул’ в предметной таксономии, см. рис. 1). Предметный признак представляет собой точную дефиницию референтов (это отражает двойная стрелка), прототипический образ описывает их типичный внешний вид. Наконец, родовой признак отсылает к ближайшему (сверху) классу предметной таксономии (‘предмет для сидения одного человека’), который включает класс референтов слова стул. Тем самым, сообщается информация о том, что референты слова стул наследуют все вышестоящие предметные признаки: предмета, артефакта и др. (это задается отношением иерархического включения «→»), см. рис. 1.
Схема (2а-в) структурно изоморфна семантической схеме знака Огдена ― Ричардса: Форма слова ― Значение (понятие) ― Референт (см., например, [ЛАЙОНЗ 1978: 428]). Однако различия в содержании элементов существенны: в (2а-в) ЗНАЧЕНИЕ представлено тремя самостоятельными компонентами, каждый из которых отражает свой аспект описания класса референтов слова, а РЕФЕРЕНТ понимается не просто как некоторое множество предметов действительности, а как (подчиненный) класс предметной классификации носителя языка ― подструктуры его наивной картины мира.
5. Реализация языкового понимания в акте коммуникации. Покажем теперь, как схема (2) используется носителем языка при решении обсуждавшейся выше коммуникативной задачи: передать посредством языкового кода конкретный образ референта от говорящего к слушающему. Подчеркнем: едва ли не важнейшим информационным компонентом, обеспечивающим ее решение, является общая для говорящего и слушающего наивная предметная таксономия, к которой они в процессе коммуникации обращаются посредством слов, точнее, их семантических схем.
1) Кодирование (называние) словом воспринятого предмета. Представим себе говорящего, пожелавшего назвать (закодировать) какой-то воспринятый им предмет. В его сознании моментально активизируется процедура Идентификации предмета, осуществляющая поиск подходящего прототипа, соответствующего его внешнему виду. Если, к примеру, воспринятый предмет похож на стул, актуализируется прототипический образ стула в схеме (2), а вместе с ним форма слова ― стул и его предметный признак. Теперь говорящий может проверить (с помощью операции Референции), действительно ли конкретные предметные свойства воспринятого образа отвечают предметному признаку стула. Если да, то значит, кодирование (именование) словом стул воспринятого предмета возможно. Говорящий осуществляет референцию слова к воспринятому образу и включает слово в свою фразу, к примеру, говорит Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. При этомконкретный образ воспринятого стула вместе с конкретной ситуацией, в которой он использовался (целостная картинка ситуации) автоматически пополняет ячейку ‘стул’ таксономии, которая отыскивается через родовой признак i в схеме (2).
2) Декодирование услышанного слова (воссоздание его референта). Обратимся теперь к слушающему. Услышав эту фразу и содержащееся в ней слово стул, он, опираясь на схему (2) и ее прототипический образ iii(набор прототипов), а также, учитывая контекст высказывания (секретарша, резко повернулась), пытаетсяпонять это слово ― подобрать из этих своих прототипов наиболее подходящий. Допустим, это «офисный стул». По родовому признаку i схемы (2) слушающий обращается к ячейке ‘стул’ своей предметной таксономии и на основе выбранного прототипа «офисный стул» подбирает из хранящихся в ней конкретных образов офисных стульев, встретившихся ему ранее, самый подходящий образ, который и замещает предмет-референт, названный говорящим.
Декодирование, т. е. воссоздание референта слова стул закончено. Тем самым коммуникативная задача оказывается решенной: слушающий по воспринятому во фразе слову стул воссоздал его конкретный и наиболее правдоподобный гипотетический референт. Это позволяет предположить, что описанная схема языковой коммуникации в какой-то мере отражает реальный языковой процесс.
Литература
КОШЕЛЕВ 2006 — А. Д. Кошелев. О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации // Вереница литер. М., 2006.
ЛАЙОНЗ 1978 — Дж. Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
СЛОВАРЬ УШАКОВА — Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1938.
Е.И. Кравцова
(Барнаул, janekrav@mail.ru)
ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ДЕЙКСИСА
Традиционное исследование дейксиса включает в себя разработку следующих проблем: вычленение и классификация набора дейктический единиц в зависимости от их содержания (указание на говорящего, слушающего, время, пространство), функции (собственно дейксис, анафора, мысленный дейксис), режима речи (первичный/вторичный дейксис, дейксис речевой и дейксис нарративный).
Мы попытались ответить на вопрос – на каких основаниях разнородные дейктические единицы образуют некую целостность, а также предположили, что дейксис является естественной текстовой категорией, существующей в виде функционально-семантических полей. Для доказательства этого положения мы использовали понятие естественной категории, разработанное в когнитивной лингвистике.
Переосмысление понятия категории происходит в связи с тем, что традиционное ее понимание не дает нам ответ на следующий вопрос: «как сводит язык бесконечное разнообразие мира к n-ому числу обозначений», ведь в любом естественном языке проводится меньше различий, чем в окружающем нас мире. Поэтому категории предлагается рассматривать как естественные классы. Важным является то, что классы жестко друг другу не противопоставлены, что «сама категория оказывается объединением или набором единиц с нетождественными свойствами и в то же время группировкой единиц, характеризующихся неким общим свойством – быть представителем чего-то вне знака» [Кубрякова 1997, с. 88].
Основанием для объединения подобных единиц с нетождественным набором свойств послужило введенное Л. Витгенштейном понятие «фамильного сходства», прототипического принципа устройства любой языковой категории (языковой семантики вообще). В прототипической семантике принимают два допущения: в лингвистической категории отражаются в первую очередь не особенности конкретного языка, а особенности когниции, познания; элементы одной категории объединяются, потому что они демонстрируют некоторые черты подобия или сходства с тем членом категории, который выбирается в качестве ее лучшего представителя и полнее всего репрезентирует эту категорию.
Дейксис мы также предлагаем рассмотреть с позиций прототипической семантики как естественную текстовую категорию. В формировании дейктической семантики задействовано множество различных грамматических, лексических единиц с нетождественными свойствами, но, тем не менее, обладающих свойством «быть представителем» сразу трех прототипических элементов этой категории – быть показателем субъекта, времени и пространства.
Когнитивным основанием этой категории является известная когнитивная универсалия («примитивы») - я – здесь – сейчас, которая эксплицитно/имплицитно координирует речевые акты всех без исключения говорящих (активных и пассивных, как говорящего, так и слушающего, интерпретатора). Лингвистическими коррелятами этих концептов являются понятия субъектности (персональности), темпоральности, пространственности, которые и формируют лингвистическую категорию дейксиса. И если мы исходим из принципа антропоцентричности языка, то субъектность оказывается основанием всей категории.
В качестве «лучших представителей» и семантического основания (прототипа) каждого из компонентов мы избираем следующие наиболее абстрактные концептуальные оппозиции: субъект/адресат (Я-Ты) для позиции субъектность, определенность/неопределенность (здесь/не здесь) для позиции пространственность, временность/вневременность (сейчас/ не сейчас) для позиции темпоральность. Каждая из этих оппозиций может быть раскрыта через ряд более конкретных, уточняющих оппозиций: верх – низ, линейность – цикличность, замкнутость – открытость и т.д. В дискурсах говорящих субъектов каждая дейктическая координата и концептуальная оппозиция наполняется актуальным для них содержанием.
Если говорить о способе представления, модели соотношения всех дейктических элементов дискурса, то целесообразно использовать понятие семантического поля. Но семантическое поле может рассматриваться не только как модель определенного явления языка, но и как реальный «способ существования языковых понятий» [Караулов 1987, с. 64], так как принцип полевой организации соответствует устройству естественных категорий: наличие ядра (прототипа) и периферии, отсутствие четких границ, что приводит к множественности, вариативности направлений в развитии категории (или даже ее размыванию). Поэтому, с одной стороны, можно объединить множество различных единиц в единое семантическое поле – лингвистический конструкт, с другой – можно говорить о реальном существовании всех разноуровневых и разнородных дейктических элементов в виде некоей целостности (гештальта), которая формируется в дискурсе.
Функционально-семантическое дейктическое поле, таким образом, понимается как совокупность разноуровневых семантических единиц, связанных между собой различными семантическими отношениями и способных выражать значения персональности, пространственности и темпоральности. Пространственный компонент дейктического ФСП формируется за счет лексических единиц, которые характеризуются различными частеречными свойствами: существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Темпоральный компонент объединяет в себе множество единиц, характеризующихся как лексическими, так и грамматическими свойствами и признаками: имена, наречия, все предикаты, как глагольные, так и именные. Единицы, формирующие дейктический компонент субъектность также разнородны: характеризуются лексическими свойствами (существительные) и лексико-грамматическими свойствами (по категориям лица, рода – местоимения, по категориям лица, рода, залога, модальности – глаголы и предикаты вообще).
Таким образом, мы имеем расширение минимального дейктического ФСП за счет включения в него референциальных единиц номинативного типа, а также за счет грамматических элементов, семантика которых денотативно или концептуально связана с исходными прототипическими компонентами я – здесь – сейчас.
Литература:
Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
 2015-05-05
2015-05-05 755
755








