Сонеты Шекспира были опубликованы в 1609 г. с загадочным посвящением издателя Томаса Торпа «Мистеру W. Н.», «единственному вдохновителю» сонетов. Кто был этот „Mr. W. Н.?" Он назван „begetter", т. е. «породивший сонеты», следовательно, Торп имеет в виду таинственного друга, для которого написана большая часть сонетов.
Большинство исследователей предполагает, что героем сонетов является Генри Райтсли (Henry Wriothesley) граф Саутгемптон, покровитель поэта, и что издатель намеренно переставил инициалы. Вызывает сомнение слово «мистер», недопустимое в обращении к столь знатному лицу, каким был граф Саутгемптон, однако и обращение Торп мог намеренно изменить. О привязанности Шекспира к Саутгемптону неопровержимо свидетельствуют посвящения в поэмах, и если обращение к покровителю в 1593 г. в поэме «Венера и Адонис» носит сдержанный характер, то уже в следующем году, издавая поэму «Обесчещенная Лукреция», Шекспир открыто говорит о своей любви: «Любовь моя к вашей светлости не имеет конца. Все, что я написал, принадлежит вам, все, что я когда-либо напишу, также
принадлежит вам». Доказательство того, что сонеты посвящены именно Саутгемптону, биограф поэта Сидней Ли не без оснований видел в содержании сонета 107. Он воспринял этот сонет как отклик Шекспира на смерть королевы Елизаветы в 1603 г. и освобождение Саутгемптона из тюрьмы, куда он был пожизненно заключен в 1601 г. Некоторые образы в этом сонете могут быть истолкованы в политическом плане, например, «освобождение» любви из темницы, «коронование», превратившее неуверенность в реальность, провозгласившее мир, «капли бальзама», которым целительное время освежило любовь и спасло ее от смерти,— во всех этих метафорах можно найти иносказание, намекающее на освобождение друга и возрождение любви, которая казалась погибшей. В заключительных строках поэт предсказывает, что его стихи будут памятником другу, когда погибнут и слава тиранов и гробницы из меди. Если бы речь шла о простой разлуке, эти политические ассоциации были бы неоправданными. Однако противники подобного восприятия сонета выдвигают серьезный довод: если слова «смертная луна» отнести к королеве Елизавете, то получится, что она «перенесла» затмение, т.е. речь не может идти о ее смерти. Правда, эта метафора допускает иное толкование, если слово „endured" воспринять как утверждение того, что «луна» затмилась навеки, т. е. королева Елизавета умерла.
С темами любви и дружбы связан один из самых сложных и многозначных образов в сонетах — образ Времени, благодаря этому образу личные чувства поэта воспринимаются как проявление общих законов развития и изменения. В первых сонетах варьируется одна мысль: поэт заклинает друга жениться и тем сохранить свою красоту в потомстве — только так он сможет победить всесильное Время. С образом Времени связаны картины увядания в природе, которые должны напомнить другу о грозящей ему старости. Время выступает как живое существо, как могущественная разрушительная и созидательная сила. Оно не знает отдыха, оно служит воплощением разрушительной деятельности людей: я вижу, говорит поэт, как благородные башни сравниваются с землей, как вечная медь становится жертвой ярости смертных людей, как государства клонятся к упадку, голодный океан поглощает королевства. Эти метафорические картины завершаются горьким выводом: значит, и любимый друг обречен на смерть, Время иссушит его кровь, проведет глубокие борозды на его лице, уничтожит его красоту.
Время разрушает не только замки и памятники, но и духовные ценности — в сонете 60 содержится метафорическое описание движения Времени: подобно волнам, набегающим на покрытый галькой берег, минуты нашей жизни спешат к концу, сменяя друг друга, все рожденное «ползет» к зрелости, «коронование» успехом сменяется «сгорбленными затмениями», которые «сражаются» с его славой. В этом сонете Время выступает сна чала как «даритель» красоты и успеха человеку, но затем «оно прорывает борозды на челе красоты», кормится редкостями природной истины ("Feeds on tne rarities of nature's truth"), т. е. оно пожирает самое совершенное в природе,— оно скашивает все своей косой.
О «тирании Времени» поэт говорит и в сонете 115: миллионами случайностей Время «вползает, нарушая обеты, меняет законы королей, заставляет померкнуть священную красоту, притупляет острейшие намерения, увлекает сильные умы на путь изменения вещей». В этом буквальном переводе сохраняется одна из важнейших метафор: Время не только разрушает, оно и порождает новое, и творцами нового, творцами изменений становятся «сильные умы» или «сильные духом».
Поэт объявляет войну Времени. Оружие поэта — его стихи, а силу в этой борьбе ему дает любовь к другу. Личная тема любви сплетается с темой бессмертия искусства: оно призвано сохранить в веках такие ценности, как любовь, мысль, красота, истина. Душа поэта живет в его стихах, «дети», порожденные его мозгом, будут жить в листках бумаги (сонет 77).
Поэт называет еще одну силу, которая не склоняется перед Временем — свою любовь. Если вдуматься в метафоры, связанные с этой глубоко личной темой, то легко увидеть, как любовь поэта к другу и возлюбленной — таинственной «смуглой леди»— впитывает весь мир, все отношения в природе и обществе, даже очень далекие от темы любви. Например, сонет 4 целиком состоит из слов, обозначающих деловые отношения: наследство, дар, торговля, душеприказчик, прибыль, скряга, растрата,— и все образы находятся в движении, общая картина лишена искусственности и помогает выражению главной мысли: друг должен жениться, чтобы породить детей и тем отдать долг природе.
Метафоры в сонетах многозначны. Например, сонет 34 может быть воспринят как описание досадного случая, когда поэт вместе с любимой отправился в путь без плаща и был застигнут бурей. Но благодаря метафорам все, что произошло, переводится в этический план. Любимая побудила тронуться в путь без плаща, позволила «низменным» (base) облакам захватить их в пути, «скрыла» в их «гнилостном (rotten) дыме» свою «дерзость». Напрасно она, как солнце, проглядывая сквозь облака, старалась осушить дождь на его «исхлестанном бурей» лице — ведь нельзя назвать бальзамом средство, если оно «лечит рану», но не исцеляет от «позора». Ее «стыд» не излечивает его «горя», раскаяние и печаль обидчика — слабое облегчение. Все эти образы полны тревожного драматизма. Они вызывают представление о каком-то нравственном падении, поэт намекает, что причиной падения была его спутница. Но финал сонета — оправдание любимой: ее слезы — «жемчуг» такой дорогой, что он может служить выкупом за все дурные дела В следующем сонете та же тема оправдания совершенного греха, но это оправдание выражено в целой последовательности сравнений и метафор: у роз есть шипы, в серебристых фонтанах скрыта грязь, облака и затмения «пятнают» солнце и луну, «отвратительный червь живет в сладчайших почках». Диалектика чувства в этом сонете заключена во второй строфе: поэт говорит о себе, что, оправдывая грех, он развращает собственный разум, который «чувственную вину» защищает разумными доводами, подобно адвокату: «такая гражданская война в моей любви и ненависти».
В другом сонете снова возникают метафоры, связанные с темой борьбы: сила, хитрость, ранение, защита, враги. «Не отводи взора, даже если любишь другого»,— обращается поэт к любимой, и сразу же добавляет оправдание:
Сама ты знаешь силу глаз своих,
И, может статься, взоры отводя,
Ты убивать готовишься других,
Меня из милосердия щадя.
О, не щади! Пускай прямой твой взгляд
Убьет меня — я смерти буду рад.
(Сонет 139, здесь и далее стихотворные цитаты даны в переводе С. Я. Маршака)3
Для воплощения мысли о соотношении чувственного и нравственного начала в любви поэт обращается к миру природы: розы, пораженные болезнью, могут казаться столь же прекрасными, но они лишены аромата, они живут, не пробуждая ничьей любви, увядают, не пользуясь уважением, умирают в одиночестве. «Сладостные розы» гибнут иначе — после смерти из них делают сладчайшие ароматы.
Порицание слабостей друга высказано косвенно в образной форме: его поклонники ищут в нем кроме внешней красоты красоту духовную — их «глаза» восхищаются прекрасным цветком, но их «мысли» чувствуют «гнилостный запах сорняков». Метафора завершается объяснением причин этой двойственности: цветок пахнет гнилью, потому что он растет для всех — стал общим достоянием (сонет 69). В следующем сонете поэт пытается найти для друга оправдание: «Червь порока любит сладчайшие почки». Поэт допускает, что недостатки друга преувеличены в чужих оценках — ведь клевета преследует красоту подобно ворону. В представлении Шекспира добро и красота неотделимы, однако в столкновении правды и красоты много оттенков. Красота друга превращает его недостатки, такие, как непостоянство, легкомыслие, увлечения молодости, в нечто привлекательное, ибо красота обладает властью преображать истинную сущность вещей.
Противопоставление «сорняков» и «цветов» служит для этической оценки в трудном для истолкования 94-м сонете о лю дях, не умеющих любить, но управляющих чувствами других людей. Вот его буквальный перевод:
Те, кто обладает властью наносить раны, но не делает этого,
Кто не совершает вещей, о которых они больше всего говорят,
Кто, двигая других, сам подобен камням,
Недвижим, холоден, редко поддается искушению,
Они по праву наследуют милости небес
И возделывают богатства земли, спасая ее от истощения;
Они — господа и властители выражения своих лиц,
Другие — всего лишь слуги их совершенства.
Летний цветок сладостен лету,
Хотя он живет и умирает лишь для себя,
Но если этот цветок поражен низменной заразой,
То самый низменный сорняк одержит верх над его достоинством:
Ибо сладчайшие вещи становятся горькими по действиям;
Гниющие лилии пахнут намного хуже, чем сорняки.
Главная мысль этих метафор: люди, умеющие притворяться, владеющие собой, не поддающиеся обычным человеческим страстям, по милости неба управляют другими и даже выступают спасителями и умелыми хранителями земных богатств. Нет сомнений, что речь идет не только о правителях и честолюбцах, но и вообще о сильных духом людях, добивающихся успеха. Хотя они побуждаемы честолюбием и эгоизмом — «живут и умирают для себя», но они полезны в том обществе, в котором живут. Однако порок в таких людях более неприятен, вызывает большее осуждение, чем недостатки обычных «низких» по своему положению людей — слуг и подданных этих избранных властителей.
Какое отношение к таким людям хочет внушить поэт, какие чувства они вызывают? Именно в этом скрыта загадка, ибо несомненно, что этическая оценка отличается двойственностью, она завуалирована метафорами. Осуждение относится не столько к честолюбию и эгоизму таких «властителей» над другими, и даже не к их способности к притворству — древние говорили, что тот, кто не умеет притворяться, не может управлять,— осуждение вызывают «лилии», пораженные пороком, т. е. причиняющие зло другим, использующие свои способности во вред людям, над которыми обладают властью,— и не только политической, но любой властью. В этом сонете благодаря метафорам создается глубокое психологическое и философское обобщение. Метафоры любовных сонетов часто связаны с будничными, обыденными явлениями, что придает описанию жизненную достоверность. Вот, например, жанровая сценка: хозяйка старается поймать убегающую курицу, забыв о ребенке, который с плачем пытается за ней бежать — и сразу же метафора пояснена: так и ты преследуешь того, кто от тебя бежит, а я, твое дитя, пытаюсь тебя догнать. «Поймав свою надежду, вернись ко мне, поцелуй меня, как добрая мать»,— молит поэт покинувшую его возлюбленную (сонет 143). В нескольких сонетах, убеждая друга жениться, поэт советует ему «возделать девственные сады» «наполнить вином сосуд», «сохранить сокровище своей красоты» — «ведь нет красавицы, чье невозделанное чрево отвергнет с презрением твою вспашку». Многие метафоры построены на ассоциациях из сельской жизни, в нескольких сонетах развивается метафора «любовь — аппетит»:
Проснись, любовь! Твое ли острие Тупей, чем жало голода и жажды?
(Сонет 56)
и далее образная картина завершается советом: «не убивай любви постоянной скукой» (или «тупостью», второе значение слова "dullness" более соответствует предшествующим образам).
«Ты для моих мыслей то же, что пища для жизни»,— так начинается сонет 75. Любовь — это источник жизни, чувство столь же мощное и естественное, как потребность в пище, поэтому с ней связаны образы пресыщения и голода. В этом же 75-м сонете дается развернутая метафора, где любящий сравнивается с обладателем сокровища — то он боится, что сокровище похитят, и жаждет наслаждаться им в одиночестве, то, как гордый владелец, хотел бы похвастаться им перед другими. То он пресытился зрелищем, то умирает от голода, не видя своего богатства — так день за днем пресыщение и голод сменяют друг друга.
Метафора «любовь — болезнь» не содержит в сонетах Шекспира элемента этического осуждения, «болезнь» воспринимается, скорее, как «лихорадка», слабость плоти, «осаждающая кровь», «глубокая рана в сердце», в столкновении с любовью разум оказывается бессилен:
Любовь — недуг. Моя душа больна
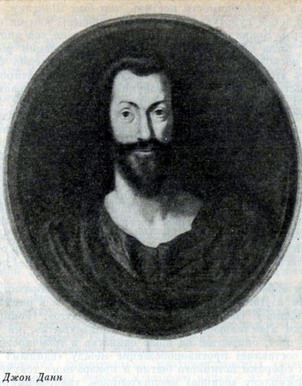 Томительной, неутолимой жаждой.
Томительной, неутолимой жаждой.
Того же яда требует она,
Который отравил ее однажды.
Мой разум-врач любовь мою лечил,
Она отвергла травы и коренья,
И бедный лекарь выбился из сил
И нас покинул, потеряв терпенье.
Отныне мой недуг неизлечим,
Душа ни в чем покоя не находит,
Покинутые разумом моим,
И чувства и слова по воле бродят.
И долго мне, лишенному ума,
Казался раем — ад и светом — тьма.
(Сонет 147)
В подлиннике сильнее выражена идея безумия, доводящего до отчаяния, состояния тревоги и беспокойства, когда и мысли и речи, как у безумца, далеки от истины.
Еще сильнее изображено порабощение разума чувственностью в сонете 129, где уже присутствует этическое начало: Издержки духа и стыда растрата,— Вот сладострастье в действии...
Нагромождение эпитетов создает представление о чувственной страсти, лишенной разума; это «похоть», ведущая к кровавым преступлениям, к нарушению обетов, грубая, жестокая, дикая; этой страсти нельзя доверять, она безумна в преследовании, а утоленная, вызывает презрение. В ней — сочетание наслаждения и горечи, радости и горя, но никто не может отвергнуть это «небо», ведущее в «ад». Двойственная природа чувственного наслаждения передана в образных противопоставлениях.
Чувство поэта связано не только с нравственными представлениями в обществе, но и с отношениями в мире политики — многие метафоры возникают именно из мира государственной жизни. Например, сонет 124 посвящен сопоставлению случайно возникшего чувства и прочной, глубокой любви поэта. Легкое, случайное увлечение — жертва капризного Времени, оно изменяется соответственно обстоятельствам: если кругом сорняки, оно будет сорняком, если — цветы, станет похоже на цветок. Но любовь поэта — не «подданный Времени», ее не подавляет «улыбающееся величье», она не гибнет под ударами мятежей, ей не страшна «политика — этот еретик, живущий краткие часы», его любовь высится над всеми превратностями судьбы как «могучая политика». Странные метафоры наполняют этот сонет: величие, недовольство, политика, еретик. Почему возникает политический подтекст, вводится мысль о том, что любовь, настоящая, глубокая, истинная, а не случайная, сильнее всех сил, даже политики? Известно, что в драмах Шекспира «политика» — неотъемлемая часть жизни государства, связана с жестокостью, подлостью, изменой. Не скрыта ли в этих образах мысль о верности другу, ставшему жертвой «ненависти Времени»? Тогда вполне возможно, что сонет написан позднее 1601 г.
В следующем сонете снова возникает политический образ: «Прочь, надменный доносчик! Верная душа, даже обвиненная, не подвластна твоему контролю». В тексте использован глагол "impeach", означающий также «обвинять в государственной измене». Можно высказать предположение, что в некоторых сонетах Шекспир использует метафоры, связанные с миром политики, чтобы откликнуться на какие-то известные его близким друзьям события. Но благодаря поэтической образности создается обобщение, верное и для других ситуаций в другие времена.
В некоторых сонетах поэт говорит о своей личной судьбе, мы ощущаем горечь его суровой жизни, полной труда и борьбы. В 66-м сонете характер образов напоминает о монологе Гамлета «Быть или не быть». Поэт страдает не только от личных бед и горестных утрат, но и от господства зла в мире: чистейшая вера предана, совершенство поругано, язык искусства связан властями, глупость властвует над мудростью, простая истина слывет наивностью. Оценка века завершается трагическим выводом: «пленник — добро влачится за господином — злом». Это глубоко социальное стихотворение завершается личной темой: от самоубийства его удерживает любовь к другу, он не хочет оставить друга в одиночестве.
Образы становятся трагически противоречивыми в сонетах, где поэт говорит об охлаждении и измене возлюбленной, которая покидает его ради друга. Шекспир ловит каждое изменение в своем чувстве, нравственные доводы борются со страстью, нежность и вера сменяются подозрением, ревностью, отчаянием. Гордый протест и горькие обвинения чередуются с оправданиями ее, когда поэт убеждает себя, что в любви нет виноватых, и даже в строках, где слышен крик боли, не возникает эгоистического требования: «Я буду сражаться на твоей стороне»,— обращается он к любимой. Он готов раскрыть свои слабости, чтобы защитить честь покинувшей его возлюбленной,— и строгая логика сонета раскрывает благородство его любви (сонет 88).
В знаменитом 90-м сонете выражена боль отчаяния, поэт уже уверен в измене, но еще надеется хотя бы на сострадание: «Если когда-либо ты возненавидишь меня, то лучше теперь». Образы, взятые из мира военных столкновений, объясняют причину: в тот момент, когда поэта преследуют удары судьбы, любимый человек может стать союзником врагов. Сейчас, в разгаре битвы, когда поэт еще не повержен врагами, он сможет легче перенести другие удары, потому что испытает самое страшное горе. Но если эта потеря будет последней каплей после множества мелких горестей, это будет самым предательским ударом, ударом в спину поверженного врагами друга. Динамика и драматизм метафор говорят об одном из трагических моментов в жизни поэта.
Другой трагический сонет—112-й — ответ поэта на «низкую клевету»: отныне только суд его друга он признает над своими поступками, для других он обрел «слух гадюки», т. е. утратил слух, он не воспринимает ни лести, ни порицаний. Более резкую отповедь своим обвинителям он дает в сонете 121: он отвергает суд «шпионов», которые судят о его слабостях по своим собственным грехам: «Может быть я прям, а сами они искривлены».
Образные картины, связанные с воздействием музыки, передают целомудрие и нежность начинающейся любви. «Музыка моя»,— обращается он к любимой и завидует проворным клавишам, ведь они могут целовать пальцы любимой, а его бедные губы краснеют, увидев дерзость дерева (сонет 128). Поэту кажется, что счастье любви прочнее всех земных благ: всесильный фаворит гибнет от одного взгляда монарха, военачальник, славный тысячью побед, после одного проигранного сражения вычеркнут из книги славы, и все его труды забыты (сонет 25).- Только любовь дает прочное счастье в изменчивом мире, только она противостоит невзгодам и сохраняет молодость:
Лгут зеркала: какой же я старик! Я молодость твою делю с тобою, Но если дни избороздят твой лик, Я буду знать, что побежден судьбою.
(Сонет 22)
Даже охлаждение любимой, даже ее измена не в силах уничтожить его любовь:
Когда захочешь, охладев ко мне, Предать меня насмешке и презренью, Я на твоей останусь стороне И честь твою не опорочу тенью.
(Сонет 88)
Поэт способен на высшее самоотречение, он согласен приписать себе хромоту и любой недостаток, какой найдет в нем возлюбленная, потому что любовь лишает его права на защиту. Можно видеть, что уже в сонетах звучит тема всепоглощающей любви, которую ничто не может поколебать. Эта тема много позднее с трагической силой будет выражена в словах Дездемоны.
Метафоры помогают поэту выразить его мысли и чувства. Они передают реальные свойства вещей—краски, запахи, цвет, верно отражают связи между явлениями природы и отношения в человеческом обществе. Поэт не искажает видимый мир ради воплощения своих эмоций, поэтическая исповедь приобретает благодаря богатству ассоциаций обобщенный характер.,
ЗАМЕТКИ О РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 129-ГО СОНЕТА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА П. Нерлер
...Шекспира переводили десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода - дело времени; он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала.
Н. Заболоцкий. Заметки переводчика
Среди 154 шекспировских сонетов есть несколько, выделяющихся своей высотой и мощью и тем ровным отраженным светом, освещающим не только самих себя, но и значительные пространства вокруг. Таковы, на мой взгляд, сонеты 15-й, 66-й, 146-й и некоторые другие. Таков же и 129-й сонет: он, кажется, мог бы послужить эпиграфом ко всему циклу.
 Но есть на нем и особенная, отличительная от других печать:
Но есть на нем и особенная, отличительная от других печать:
Sonnet CXXIX
Th'expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action; and till action, lust
Is perjured, murd'rous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust;
Enjoyed no sooner but despised straight;
Past reason hunted; and no sooner had,
Past reason hated, as a swallowed bait,
On purpose laid to make the taker mad:
Mad in pursuit, and in posession so;
Had, having and in quest to have, extreme;
A bliss in proof — and proved, a very woe;
Before, a joy proposed; behind, a dream:
All this the world well Knows; yet none Knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.
При всем том биографическом характере, который, вопреки литературному канону своего времени, носили шекспировские сонеты, сонет 129-й — максимально отвлечен именно от личности автора. В нем нет ни единого местоимения, ни одного персонифицирующего намека. Автор как бы пытается обобщить свои переживания, подвести итог размышлениям над своими страстями — дать умозрительный образ, некую философскую формулу своего жизненного опыта. Главная тема сонетного цикла, Формирующаяся во всех прочих сонетах, здесь именно формулируется: внутренняя трагедия человека, мятущегося между любовью и страстью, между духом и похотью, бичуемого или роком, или совестью.
Не случайно, видимо, этот сонет столь нестандартен по композиции, что в такой канонизированной поэтической форме, как сонет, особенно бросается в глаза. «Стандарт» требует экспозиции темы в двух катренах, затем ее нисхождения в терцетах, завершающегося в сонетном замке торжеством последних строк (Шекспир и его соотечественники-современники, революционно разрушив катренно-терцетную структуру итальянцев и заменив ее тремя катренами и еще более резко выделяющимся замком-двустишьем, тем не менее не покусились на закон тематического развития сонета). Но в 129-м сонете оппозиции и противостояния, тезы и антитезы — буквально в каждой строке. Это совершенно иная кинематика стихотворения, хотя финал, развязка структурно выдержаны классически: сонетный замок налицо, и в нем уже не анализ, а результат — некий вывод, в который выкристаллизовалась поэтическая мысль.
Но непонятным причинам 129-й сонет оказался в тени внимания русских исследователей. Не один сонет «удостоился» аналитических построений или даже целых статей (а таким сонетам, как 66-й или 130-й,— отчасти и потому, что их коснулся переводческий гений Б. Пастернака,— посвящено даже по нескольку штудий) — этот же в лучшем случае упоминается в общих обзорах цикла. Иван Иванов, автор одного из лучших таких обзоров, предваряющего сонетный цикл в замечательном «Венгеровском» издании, вообще отказывает 129-му сонету в подлинности чувства, утверждая, что это подделка под исповедь, не более чем незаурядное воплощение заурядной и шаблонной тематики сонета XVI в.: «Сонетисты притязали на платоническую любовь, „святую любовь", по их выражению,— и обязаны были в стихах восставать против „ земного" вожделения» '.
Но ведь и сам Иванов остроумно замечал: поэтами рождаются, сонетистами же делаются. И если бы Уильям Шекспир был ремесленником-сонетистом, тачающим на заказ сонеты любовные, кавалерские и прочие, а не великим поэтом, то зачем бы мы помнили и перечитывали его — мы ведь читатели, а не заказчики! Стал бы тогда Гёте утверждать, что «в сонетах Шекспира нет ни одной буквы, которая не была бы пережита, перечувствована и выстрадана поэтом»? И воскликнул бы разве Вордсворт, что «сойоты — ключ, отмыкающий шекспировское сердце»?!
Художественный перевод стихов — это не только перевод их по невидимому мосту — с берега одного языка на берег другого. Это еще и перевод с духовного уровня автора на уровень поэта-переводчика. Поэтому переводить, скажем, Рильке или Шекспира — трудно и ответственно, порой рискованно: это бездонные поэты, и тот перевод по-настоящему хорош, который даст новоязычному читателю возможность ощутить хотя бы саму эту предельную глубину.
Для такого перевода важно многое угадать в себе, услышать внутри некий отзвук, по которому вовремя и точно должны сориентироваться все силовые линии намагниченной души переводчика.
Перевод сонетов Шекспира несовместим с духовным благополучием переводчика.
Шекспировские сонеты — это кипящая, клокочущая смола, в которой плавает и плавится душа поэта, его страсть, его совесть. И, вникая, переводчик рискует получить ожог.
При этом каждый перевод — концепция, особое, оригинальное решение, со своими потерями и компенсациями, и ни один перевод не исключает и не перечеркивает другой. Оценочный подход по принципу «хуже — лучше» поэтому здесь неуместен. Можно оспаривать саму концепцию, по не право на нее.
Английский ученый Теодор Савори говорил, что «два перевода одного и того же произведения дают для его понимания даже не вдвое, а вчетверо больше».
Моя единственная цель — по возможности избегая оценок, передать собственное ощущение того или иного перевода и подчеркнуть, выделить, соглашаясь или не соглашаясь, его концептуальные особенности и акцепты.
Семь переводов 129-го сонета были созданы до революции. Вот их перечень: 1) П. А. Кусков — в кн.: Кусков П. А. Наша жизнь. Стихотворения П. А. Кускова. СПб., 1889. С. 248; 2) //. А. Каншин — Поли. собр. соч. В. Шекспира в прозе и стихах. СПб., 1894. Т. 8. С. 306; 3) N. В. Гербель - Поли. собр. соч.
B.Шекспира в переводе русских писателей. 5-е изд. Под. ред. Д. Михайловского. СПб., 1899 Т. III. С. 420; 4) А. М. Федоров — В. Шекспир. Библиотека великих писателей. Под ред. А. Венгерова. СПб., 1904. Т. 5. С. 626; 5) Аноним — Всемирный юмор. 1911. № 5; 6) А. Соколовский — Соч. В. Шекспира в переводе и объяснениях А. Соколовского. 2-е изд. СПб., 1013. Т. 12. С. 328; 7) М. И. Чайковский - Сонеты В. Шекспира. М., 1914. С. 133.
Три перевода из семи — Каншина, Кускова и Соколовского — выполнены «на французский манер», т. е. являются прозаическими переложениями голого сонета, или, попросту,— подстрочниками. Едва ли претендует на критику и неизвестный переводчик из «Всемирного юмора», затративший шесть (!) четверостишии на то, чтобы пересказать — частушечным хореем — содержание сонета, как он его понял. Первым серьезным переводом был перевод Н. В. Гербеля:
Постыдно расточать души могучей силы.
На утоленье злых страстей, что нам так милы;
В минуту торжества они бывают злы,
Убийственны, черствы, исполнены хулы,
Неистовы, хитры, надменны, дерзновенны —
И вслед, пресытясь всем, становятся презренны;
Стремятся овладеть предметом без труда:
Чтоб после не видать вкушенного плода;
Безумствуют весь век под бременем желанья,
Не зная уз ни до, ни после обладанья,
Не ведая притом ни горя, ни утех,
И видят впереди лишь омут, полный нег.
Все это знает мир, хотя никто не знает,
Как неба избежать, что в ад нас посылает.
Бросается в глаза оценочность перевода. Первым же его словом — «постыдно» — задан осуждающий акцент. И это «постыдно» окрашивает своей укоризной все богатство шекспировского противоборства сил, превращая его двойственность и диалектику в статику и обличающую однозначность. Кроме того, сомнение вызывает выбранное Гербелем решение размера перевода и характера рифмовки. И дело не в подмене пятистопного ямба шестистопным, хотя стих, несомненно, утрачивает свою упругость. Дело в том, что в сонетах Шекспира — как бы два структурных модуля: строфа-катрен с перекрестной рифмовкой и конечное двустишие со смежной, причем ритмический рисунок двустишия куда мягче и плавнее, чем в катренах, где он отрывист, резок, нередко груб. Гербель же этим «поступился», распространив ритмику двустишия на весь сонет: в результате — ритмически получилось как бы семь кадансных модулей. И последнее: калькируя лексику Шекспира, переводчик добросовестно перечисляет многочисленные характеристики «злых страстей», как перевел он шекспировскую «похоть». Увлекшись, он даже не заметил, как заехал на вторую строфу! Но, несмотря на все старания, никакого нагнетания красок, как оно есть у Шекспира, не получилось, а получилось простое навязчивое перечисление, не лишенное и внутренних противоречий. Думается, что в русском переводе, учитывая и без того непомерную тесноту оттенков переживаемого, можно обойтись и меньшим числом эпитетов, быть может, одним, но наиболее сильным и емким.
Гербелю, на мой взгляд, удалась концовка сонета, практически адекватная шекспировской.
Теперь о переводе А. М. Федорова:
Потворство похоти ведет к позорной трате Души.
Для своего каприза похоть всех
Ведет на подлость, ложь, убийство, грех,
А чуть утолена — презрение в расплате.
За нею годятся безумно, но поймав
Желаемое,— все безумно ненавидят.
Одну приманку в ней заброшенную видят,
Дабы лишить ума того, кто ждет забав.
Она в желании дика, как в обладаньи,
Имев, имея и готовая иметь,
Она до крайности доходит. Миг слиянья,
А после горести; миг радости, а впредь —
Ничтожная мечта. Для мира путь известный.
Но всех приводит в ад его соблазн небесный.
Словцо «позорный» здесь уже в тени и не столь заметно влияет на общее восприятие сонета. Прекрасно передан дерганый шекспировский ритм катренов, причем не с помощью синтаксиса, а посредством переноса, которым переводчик единожды все-таки злупотребил: я имею в виду «ничтожную мечту» — своеобразный прыжок третьего катрена в финальное двустишье (самого по себе превосходного по точности и простоте: «...Для мира путь известный. Но всех приводит в ад его соблазн небесный»). В неотвязных шекспировских повторах Федоров услышал, не только вычитал, тему безумия — невменяемости одержимой похотью страсти; и в его переводе этот аспект сонета явно выделен и подчеркнут — всею второй строфой. В то же время в переводе немало и шероховатостей — режущие слух «дабы» и «презрение в расплате», а «заброшенная» приманка звучит скорее как «забытая, покинутая», а не как подразумеваемая «закинутая, подброшенная».
Середина XX в. дала нам два новых перевода 129-го сонета — это переводы С. Я. Маршака и А. С. Финкеля *. Вот перевод С. Я. Маршака:
Издержки духа и стыда растрата —
Вот сладострастье в действии.
Оно Безжалостно, коварно, бесновато,
Жестоко, грубо, ярости полно.
Утолено — влечет оно презренье,
В преследованье не жалеет сил.
И тот лишен покоя и забвенья,
Кто невзначай приманку проглотил.
 Безумное, само с собой в раздоре,
Безумное, само с собой в раздоре,
Оно владеет иль владеют им.
В надежде — радость, в испытанье — горе,
А в прошлом — сон, растаявший как дым.
Все это так. Но избежит ли грешный
Небесных врат, ведущих в ад кромешный?
Перевод Маршака, кажется, всем хорош: легкий, светлый и классически ясный, может быть, даже слишком — для Шекспира — легкий и классически ясный. Ритмически он совершенно адекватен оригиналу (недаром у него один перенос, пять явных тире и еще примерно столько же неявных, но угадывающихся в тексте). Однако четыре составляющие сонет части переданы в его переводе далеко не одинаково. Самая неудачная — первая строфа, хотя она, казалось бы, точно и со вкусом скалькирована с подлинника, но эту ювелирную работу разрушают нюансы. Так, и перечислительном ряду словам у Маршака недостает «крайности», ни одно не передает главного — смертельности, или, точнее, смертоносности описываемой Шекспиром непрестанной борьбы духа и плоти, похоти и стыда. В маршаковских же эпитетах: «безжалостно, коварно, бесновато, жестоко, грубо, ярости полно» и т. д.— есть какая-то опасность, но трагедийности, возможной непоправимости (как у Шекспира) — нет!
Но во второй строфе перевода Маршака недостает и нотки безумия, хотя в девятой строке оно и напоминает о себе. Вторая и третья строфы в целом — легки, изящны, превосходны. То же можно сказать и о концовке сонета.
Перевод Финкеля внутренне близок концепции Маршака:
Растрата духа — такова цена
За похоть. И коварна, и опасна,
Груба, подла, неистова она.
Свирепа, вероломна, любострастна.
Насытившись,— тотчас ее бранят;
Едва достигнув, сразу презирают.
И как приманке ей никто не рад,
И как приманку все ее глотают.
Безумен тот, кто гонится за ней;
Безумен тот, кто обладает ею.
За нею мчишься — счастья нет сильней,
Ее догнал — нет горя тяжелее.
Все это знают. Только не хотят
Покинуть рай, ведущий прямо в ад.
Хотя ритм стиха у Финкеля гораздо уравновешеннее и спокойнее, чем у Шекспира, тем не менее все смысловые и структурные элементы сонета проявляются отчетливо. Как и у Маршака, не вполне удачна первая строфа (и сама по себе близкая к маршаковской — разве что «похоть» вместо «сладострастья» -, встала на свое законное место). Финкель несколько упрощает шекспировские антиномии, зато подает их изящно и элегантно-
И как приманке ей никто не рад,
И как приманку все ее глотают.
Между прочим, Финкель — единственный из переводчиков, обративший особенное внимание на звуковую и лексическую анафору в шекспировском оригинале (в каждом из катренов): дважды в своем переводе он прибег к этому тонкому приему («и как приманке...», «безумен тот, кто...»).
70—80-е годы дали новую вспышку интереса к сонетам Шекспира. К этому времени относятся по меньшей мере семь переводческих версий 129-го сонета — И. Астерман, И. Гамарьян, С. Заславского, В. Назарова, В. Микушевича, П. Нерлера и В. Орла. К сожалению, мы не можем остановиться на каждой из этих работ, но цитируемые ниже переводы публикуются впервые.
Раньше других своих современников перепел этот сонет Владимир Орел:
Растрата духа в убыли стыда —
Вот похоть. Похоть с самого истока.
Клятвопреступна, выспренна, горда,
Убийственна, сомнительна, жестока.
На радость и презрение дана,
Но разумом получена, и разом
Не разумом отброшена. Она —
Наживка, помрачающая разум.
Не образумясь, кинуться вдогон,
И гнаться, гнаться — так и не угнаться.
Казалось, счастье — а выходит, сон,
И радость — горе, если разобраться.
Мы это знаем, но никто из нас
Себя от этой радости не спас.
Лексически и грамматически этот перевод, пожалуй, ближе к подлиннику, чем все остальные. То же можно сказать и о ритмике, и об известной затемненности отдельных мест сонета.
В. Орел старается передать не только смыслопись сонета (в чем он вполне преуспевает), но и его звукопись. Во втором стихе у Шекспира дважды повторяется слово «lust» (в первом случае это существительное, обозначающее «похоть», во втором — глагол, указывающий на незавершенность некоего действия). В. Орел * русском переводе дважды повторяет слово «похоть», и хотя той полисемии, которая образуется при омонимическом повторе У Шекспира, здесь не получается, все-таки эффект подчеркивания, усиления, педалирования, несомненно, возникает, а это очень существенно, ибо именно слово «похоть» — ключевое в переводе-концепции В. Орла.
В первой строфе В. Орел пошел проторенным путем перечислений, однако отобранный им набор эпитетов значительно продуманнее, чем у предшественников: пожалуй, лишь «выспренность», во многом дублируемая «гордостью», выпадает из этого ряда.
Что-то зловещее слышится в рычащем, рыкающем фонетическом строе второй строфы:
На радость и презрение дана,
Не разумом получена и разом
Не разумом отброшена. Она —
Наживка, помрачающая разум.
В каждой строке по два раза вздрагиваешь на звуке «эр» (причем в шести случаях это слог «ра» и по разу — «ре» и «ро»). Анафора «не разумом...» (стихи 6 и 7) (и у Шекспира здесь анафора — past reason) перекликается и с началом пятого стиха («на радость...») и с «помраченным разумом» стиха восьмого, но особенно сильно — с этим энергичным наречием «и разом». В результате всего в строфе соткалась некая грамматическая и смысловая осложненность — точнее, затемненность, запутанность, столь свойственная шекспировскому стилю вообще. А строфа в целом вплотную придвинулась к тому «высокому косноязычью», которое было первой приметой и стихов, и переводов Б. Пастернака (особенно «непонятна» она при восприятии на слух — из-за омонимического звучания «разум — разом»).
Вводя в концовку сонета местоимение «мы», В. Орел ничуть не субъективизирует сонет; это «мы» звучит у него не менее широко и обобщающе, чем, скажем, «мир», который оно призвано заместить (впрочем, опыт прошлых поколений, явно присутствующий у Шекспира, в этом «мы», похоже, утрачен).
Слабое место перевода В. Орла — концовка, переведенная с существенными и, увы, так ничем и не возмещенными потерями. Шекспировскую мысль переводчик, пожалуй, донес точно, но отчленил ее от шекспировского образа. Ведь «небеса, ведущие в преисподнюю» — антиномия Ада и Рая — отнюдь не риторическая фигура красноречия. Образ этот, являясь верховной, предельно мыслимой оппозицией (Ад—Рай), весьма конструктивен и. в сущности, незаменим. Донесенная же переводчиком мысль хотя и точна, но «гола», «скелетна» и выпадает из всего строя стихотворения. К тому же не вполне ясно, почему из двуединства «радость—горе» именно «радость» перенеслась в столь ответственное место, как концовка сонета; не нарушает ли это пускай и очень динамичного и напряженного, но все-таки внутреннего равновесия
сонета?
Перевод Владимира Микушевича, напротив, очень равновесен, устойчив, выверен, даже торжествен:
Дух, расточаемый ценой стыда,—
Вот страсть в разгаре, и дотоле страсть —
Предательство, мучительство, вражда,
Смятенье, буйство, пагубная власть.
Еще не радость, но уже позор;
Охотиться заставит, а сама
Отравит правоте наперекор
Наживкою, сводящею с ума.
С ума сведет в погоне, проведет,
Нарушив обладанием запрет;
Лишь тень блаженства там, где тьма тенет,
 Сокровищем прикинувшийся бред.
Сокровищем прикинувшийся бред.
Все это знают всё, но никто не рад
Подобным небесам, ведущим в ад!
Вместе с тем он очень современен и очень прост. Найдены очень точные и вместе с тем скупые эквиваленты образной системы оригинала. Не упущен, кажется, ни один «шекспировский» повтор: «вот страсть в разгаре, и дотоле страсть...», «наживкою, сводящего с ума, //С ума сведет в погоне...» Очень точным и фонетически красочным вышел из-под пера Микушевича третий катрен с его «незримой» рифмой:
С ума сведет в погоне, проведет,
Нарушив обладанием запрет;
Лишь тень блаженства там, где тьма тенет,
Сокровищем прикинувшийся бред.
Очень трогателен перевод И. Гамарьян. Ей удалось отыскать и высветить в клокочущей палитре сонета такие нежные и грустные краски, найти простые, почти детские слова.
Плати, душа, утратою стыда
За наслажденье, длящееся кратко.
О боже, как мучительно и сладко
Желанное нам грезится тогда.
К тебе стремлюсь безумною душой,
Но в самое прекрасное мгновенье —
Зачем мне это горькое прозренье?!
Зачем взамен блаженства — сон пустой?
Крик радости — останься на устах!
Рыбак, поймавший золотую рыбку,
Как видно, сам попался на улыбку
Судьбы, сидящей с удочкой в руках.
Проторенным путем иду я прямо в ад,
Но всякий раз дороге этой рад.
Несколько слов о своем переводе 129-го сонета:
Утрату духа торжествует плоть,
И путь нам вожделенье пролагает.
Поддался раз — и впредь не обороть
Ту похоть, что рассудок помрачает.
И жертву на расправу заманив,
О, нежные.— мы грезим только раем:
Охотники, в ловушку угодив.
Терзая дичь, самих себя теряем.
Погоня? Обладанье? — все равно:
Настичь — и навзничь! смять — и вскачь умчаться!
И, обезумев, бродят заодно
Восторг и ужас — некуда деваться!
От века так... Но кто свернул назад
С дороги в рай, ведущей в самый ад?!
Заговорив во множественном числе первого лица («нам», «мы»), автор отказался от философской обезличенности сонета, переадресовал его непосредственно читателю. Он отказался и от перечислительного ряда в первой строфе, ограничившись только одним, развернутым в придаточное предложение, эпитетом «помрачающей рассудок» похоти. Отрывистый, рваный ритм шекспировских катренов автор пытается передать с помощью, если можно так выразиться, «цветаевского синтаксиса» — многочисленных таре или запятых, одновременно оттеняющих смысловые фигуры и мешающих плавному, гладкому чтению. Не похоть сама по себе нажна, а ее пути, роковая диалектика страсти и совести. 129-й сонет — это болезненное углубление Шекспира в тему греха во всей его универсальности.
С разных точек зрения примечателен перевод Семена Заславского. Нов и поразителен уже размер перевода — четырехстопный (!) ямб. В этом отказе от целой стопы — до сих пор, наоборот, многие норовили вооружиться лишней стопой — уже прослеживается тот волевой, мужественный напор и та аскеза, па которых строится концепция С. Заславского:
Вот похоть, алчна и груба —
Души бездонной страх и стыд.
Равно тирана и раба
Она безжалостно разит.
Когда сыта тобой — презрит.
Но снова, раздирая рот.
Своей приманкою прельстит
И мстит, казнит и предает.
И кто хоть раз ее познал.
Себе до гроба будет лгать,
Что этот пыточный подвал —
Седьмого неба благодать.
Так целый мир. себе не рад.
Стремится в рай дорогой в ад.
Четырехстопный ямб неожиданно оказался способным передать и ритм, и аритмию сонета — толчки его крови и срывы его дыхания. Будто бы само время — наше сегодняшнее время, свихнувшееся на насилии и сексе и ежеминутно теряющее любовь и доброту, вдруг опомнилось и заглянуло себе в глаза.
Завершая эти заметки о почти столетнем опыте русских переводов 129-го сонета Шекспира, проделаем один эксперимент: выпишем подряд концовки разных переводов:
Шекспир. All this the world well knows, yet none knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.
П. Кусков. Никто не ведает, как этих избежать
Небес, которые приводят к преисподней.
П. К а н ш ин. Все это хорошо известно свету, но никто не умеет избежать тех небес, которые ведут людей в ад.
Н. Г е р б е л ь. Все это знает мир, хотя никто не знает,
Как неба избежать, что в ад нас посылает.
А. Федоров....Для мира путь известпый,
Но всех приводит в ад его соблазн небесный.
А. Соколовский. Весь свет знает это хорошо, но ни у кого
недостает силы воли отказаться от подобного рая, ведущего людей прямо в ад.
Аноним. Но один лишь только умник
До решения дойдет,
Как избегнуть можно рая.
В ад который нас ведет.
М. Чайковский. Мир. зная это, как бы знать был рад
Бежать небес, ведущих в этот ад!
С. Маршак Все это так. Но избежит ли грешный
Небесных врат, ведущих в ад кромешный?
. А. Ф и н к е л ь Все это знают. Только не хотят
Покинуть рай, ведущий прямо в ад.
. И. Астерман. Все это знают, что ж не победят
Стремленья в рай, ведущий прямо в ад?
И. Гамарьян Проторенным путем иду я — прямо в ад,
Но всякий раз дороге этой рад.
С. Заславский. Так целый мир себе не рад,
Стремится в рай дорогой в ад.
В. К а з а р о в. Но жил ли кто, удачно избегая
Божественной, что в этот ад ввергает?!
В. Микушевич. Всё это знают все, но кто не рад
Подобным небесам, ведущим в ад?
П.Нерлер. От века так... Но кто свернул назад
С дороги в рай, ведущей в самый ад?!
Вл. Орел. Мы это знаем, но никто из нас
Себя от этой радости не спас.
Казалось бы, концовка как кульминация сонета и как его наиболее прозрачная и дидактическая часть и переводиться должна бы приблизительно одинаково! Но нет: все переводы, безусловно, похожи, все говорят об одном и том же, но какое богатство и какая игра оттенков! У Гербеля — недоумение, растерянность; у Федорова — горькая усмешка, безнадежность сопротивления, то же и у Микушевича, но при этом его концовка звучит едва ли не торжественно, а у Гамарьян слышится даже потаенная радость, удовлетворенность такой неизбежностью; у Чайковского — какая-то мечтательность и даже надежда (мол, изыщет же кто-то когда-то средство «бежать» от всего этого!); то же и у Астерман, но с каким-то провокационным задором; у Маршака — скепсис, изначальное сомнение в праведном начале человеческой природы; у Финкеля — общее упрямство, житейская глупость людей, «делающих себе во вред»; у пожимающего плечами Орла — даже ирония, легкая и успокаивающая, чуть ли не отпускающая грехи, у Назарова — саркастическая обида, уязвленность, у Нерлера и Заславского — всеобщий круговорот рока и обреченность, предопределенность судьбы. Рифмы и те в основном не совпадают, хотя восьмерых из тринадцати переводчиков «соблазнил» ад!
Шекспировские сонеты дразнят русских переводчиков вот уже второе столетие, но замечательно и то, что переводчиков также дразнят и их предшественники. Так, «небрежности» ставшего притчей во языцех Ивана Мамуны, так же как, впрочем, и куда более серьезных Николая Гербеля, Модеста Чайковского или Валерия Брюсова, в свое время «спровоцировали» Самуила Яковлевича Маршака, а его собственная «аккуратность» вызвала схожую реакцию уже у его последователей.
Замечаешь и другое: новые поколения переводчиков, сознательно или неосознанно (как именно — это и не столь важно), впитывают в себя и вкладывают в свои переводы все новый и новый нравственный, культурный и исторический опыт, которым наделяет их собственная эпоха. Так, переводить Шекспира во второй половине XX в.— значит переводить его в контексте этого времени, т. е. имея за плечами опыт двух мировых войн и многих социальных катаклизмов столетия, впитав в себя романы Федора Достоевского и т. д.
Если же «выключить» время и сопоставить разные переводы как одновременные, то начинаешь улавливать: бездонный подлинник при своем переводе способен распространяться вширь, при этом ничуть не проигрывая в глубине. Мы смотрим на подлинник, как на скульптуру, голографически — с разных сторон и Ракурсов, с разными сочетаниями фактуры и светотени, и наше восприятие от этого становится и объемней и подлиннее.
 2015-05-06
2015-05-06 3023
3023








