Конец стихотворения достоин начала. Это — чисто верноподданическое, бюрократическое, с низким поклоном преподносимое стихотворение, кончается похвалой Анне, которая тогда царствовала. Тредиаковский говорит в конце, что российская муза счастлива тем, что при помощи Корфа (хвалить Анну нужно было, не забывая ближайшего начальства) можно поздравлять царицу Анну.
Вот смысл стихотворения, довольно темного при первом восприятии, так что легко понять, почему после его прочтения потребовался немецкий текст.
Надо сказать, что подобное злоупотребление инверсиями, характерное для раннего периода русской поэзии, вообще считалось признаком возвышенного стиха. Возвышенность дости-
галась непосредственно расстановкой слов. Казалось, что, когда человек говорит в состоянии восторга, то он не может расставлять слова в нормальном порядке.
Если в стихах эта инверсивность еще в какой-то степени оправдывается гармонией, то в прозе это совсем мучительно. Кроме того, характерной чертой синтаксического построения возвышенной торжественной прозы было бесконечное нагнетание одних членов предложения на другие, так что предложение тянулось бесконечно, достаточного расчленения паузами не было. Такая речь именовалась периодической речью. Увлечение периодической речью продолжалось очень долго. В риторике Ломоносова есть целое учение о построении периодической речи. Периодическая речь должна была, постоянно поднимаясь в голосе, достигать некоторой вершины, после чего опять опускаться до полного разрешения. Когда перестали писать этими периодическими речами и перешли уже на естественный язык, что случилось примерно в 20—30-х годах XIX в., в учебниках даже XX в. по традиции всё еще помещались эти периоды с очень сложной классификацией.
Рассмотрим образец торжественной прозы того же Тредиаковского. С этой речью он выступил в так называемом Российском собрании в марте 1735 г. По структуре этой прозы видно, насколько она была далека от естественных норм речи, которые были утверждены в письменной речи только впоследствии. Речь состоит из двух периодов. Упоминаемый здесь «его превосходительство»— это тот же самый Корф, которому были посвящены приведенные раньше стихи. Корф — академическое начальство, и вся речь Тредиаковского построена на системе лакейского уничижения, лакейских поклонов. Тема речи следующая: Тредиаковский принят в члены Российского собрания, и он готов приложить все свои силы для того, чтобы быть достойным этой чести.
«Должность, которая на меня, но при вас, Мои Господа, налагается, и по которой от меня, но не без вас, исполнение требоваться будет отныне, мне толь есть необычна, толь силы мои превосходяща, толь мало тупости моего ума прилична, и от которыя меня толь многие причины, в рассуждении моих к ней недостатков и неспособностей, долженствовали выключить, что в самое сие время, в которое вам сию речь произношу, не знаю, что должен я о себе помышлять?»
Это — первый период; за ним следует еще более развитой:
«Возможно ль сему статься, и правда ли то, что и я удостоен действительно вашего сообщества, которого токмо таковый быть может достоин, кто многого есть разума, довольныя науки, твердого и зрелого рассуждения, словом, подобный вам? Однако с стороны разума, науки, рассуждения и многотрудного искусства, хотя я вас, Мои Господа, весьма нахожуся ниже, но послушанием, но почтением к Его Превосходительству с вами сравниться всячески потщуся. Не будет во мне, да и не надлежит, никакового повелениям его сопротивления, не будет никаковыя отговорки, не будет никакового преслуша-
ния; ко всему, чего моя должность требовать от меня не будет, увидит он меня готова, ко всему и всегда прилежна, ко всему радетельна, и толь, коль самая возможность до того меня допустит, и так, что, наконец, и Его Превосходительство достойным меня несколько быть вашего сообщества найдет, и вы не будете сожалеть, что искусные ваши наставления, в рассуждении чистоты нашего языка, в прибыток мой, к пользе ж общей, купно с вами трудяся, употреблю».
На фоне речей Тредиаковского речи Ломоносова кажутся необычайно простыми, хотя и их структура представляется нам достаточно странной. Во всяком случае в начале XIX в. было много разговоров о том, что пора отбросить синтаксическую структуру речей Ломоносова. Развитие литературы состояло в борьбе против этих искусственных форм, по традиции передававшихся из поколения в поколение. С этими искусственными формами пришлось бороться прогрессивным поэтам, эта борьба и привела, в конце концов, к торжеству общеязычной нормы.
Первым, кто с этим начал бороться, был сам Ломоносов, но его норма не совпадает с современной, — она была книжной, противоречащей обыкновенной устной норме. А затем через Жуковского и его учеников, но главным образом в творчестве Пушкина, была утверждена уже обычная норма речи. Пожалуй, такого естественного расположения слов в стихе до него не было, хотя Жуковский и положил начало этому движению.
От инверсии как необходимой приметы стиха отказались и стали прибегать к инверсии как к выразительному средству.
Форма параллелизма
Если мы обратимся к другим синтаксическим формам, довольно типичным для языка художественных произведении, то здесь следует отметить, кроме инверсий, еще одно явление, а именно — стремление к некоей симметрии и параллелизму, особенно в речи лирически взволнованной, т. е. преимущественно в речи стихотворной (хотя это же явление бывает и в прозе). Именно из симметрии и параллелизма развился стих. Современный стих есть развитие тех форм параллелизма торжественной речи, которые когда-то привели к необходимости рифмы, подчеркивающей параллель, а затем и ритма, который более или менее параллельно организует разные члены предложения.
Формы параллелизма довольно разнообразны. В старых риториках и поэтиках формы эти подвергались своеобразной классификации. На каждую форму параллелизма заводился ярлык. Не стоит перечислять и запоминать всю эту классификацию. Но одну форму следует всё же отметить, во-первых, потому, что самое название ее довольно популярно, а во-вторых, потому, что она довольно часто встречается.
Анафора
Я имею в виду так называемое единоначатие, или ана́фору. И тот и другой термины довольно распространены. Анафора (от греческого άναφορά — повторение слова) — это повторение начального слова в каждом парал-
лельном элементе речи. Вот пример анафоры из поэмы Лермонтова «Демон» (1841):
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянусь я сонмищем духов...
и т. д.
Это — типичная форма единоначатия. Здесь слово «клянусь» начинает каждую строку, каждый новый абзац параллельных членов. Оно является словом, скрепляющим параллелизм, и проходит через весь период. Таким же ярким примером анафоры являются другие стихи из той же поэмы:
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Здесь слово «хочу» подчеркивает параллельные члены.
Очень часто эти параллельные члены приводятся в некое соотношение с ритмическим построением, и эти слова начинают каждый стих, либо через стих, но систематически в определенных местах появляются. Очень часто подобный словесный параллелизм сопровождается ритмическим подчеркиванием этих, параллельных членов. В первом примере слово «клянусь» сначала идет по каждому стиху, а дальше—через два стиха. Такой же пример в «Казачьей колыбельной песне» (1840) Лермонтова:
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Анафора иногда характерно организует речь. Получается нечто вроде периодической речи. Здесь есть аналогия между таким построением речи стиха и отрывком из речи Тредиаковского, который я привел. Обыкновенно конец анафоры означает слом, заключение. Анафора часто содействует определенному композиционному построению всей речи. Она отмечает нагнетаемое развитие речи, а затем разрешение, когда анафора уже отсутствует. Приведенные примеры дают анафору значимых, знаменательных слов: клянусь, хочу, стану. Но очень часто эти анафорические построения довольствуются самым малым, каким-нибудь служебным словом. Например, для определенного
стиля характерно повторение какого-нибудь союза и, но, или, или даже какого-нибудь предлога. Приведу опять-таки пример из Лермонтова, где анафорическое построение основывается на повторении предлога за:
За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был...
(«Благодарность», 1840).
Здесь за попадает только в начало стиха. Анафора приведена в строгое соответствие с ритмическим построением.
Или вот анафора из «Евгения Онегина», где такое служебное слово повторяется через каждые два стиха:
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
(Гл. I, строфа 22).
Я привел всю строфу. Любопытно, как здесь идет анафорическое построение. Это еще объединяет каждые, два стиха. Так повторяется четыре раза. На пятый раз ритмическое построение нарушается: еще относится не к двум стихам, а к четырем. Это нарушение ритмического строя является как бы сигналом того, что серия параллельных членов уже окончена, и затем уже идут стихи, не имеющие этого анфорического еще и представляющие как бы разрешение всего этого периода:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
(Там же).
Анафора обыкновенно строится по типу периодических речей с постепенным нагнетанием; голос подии мается, достигает вершины на последнем члене, имеющем анафорическое слово впереди, затем сламывается и идет вниз.
Следовательно, когда мы говорим о параллелизмах, не следует забывать, что эти параллельные члены не тождественны друг другу, а дают некоторое движение. В устной речи это на-
гнетание выражается в необходимости постоянного повышения голоса, иначе произношение покажется очень монотонным.
Параллелизмы не только повторяют, но и производят некое движение. Иногда это движение совпадает с тематическим нагнетанием.
Иногда целое стихотворение строится на анафоре. Это особенно типично для стихотворений лирического, я бы сказал — романсного, характера. При этом бывает довольно сложная игра. Например:
Почему, как сидишь озаренной,
Над работой пробор наклоня,
Мне сдается, что круг благовонный
Всё к тебе приближает меня?
Почему светлой речи значенья
Я с таким затрудненьем ищу?
Почему и простые реченья
Словно темную тайну шепчу?
Почему как горячее жало
Чуть заметно впивается в грудь?
Почему мне так воздуху мало,
Что хотел бы глубоко вздохнуть?
(А. А. Фет, «Почему?», 1891).
Здесь как раз такой случай, когда всё стихотворение построено на анафорах, на параллельных членах и на последней разрешающей части: «Почему мне так воздуху мало, Что хотел бы глубоко вздохнуть?» Хотя по внешнему значению этот последний параллельный член аналогичен другим, но так кай" он является концовкой, то к нему примышляется какое-то образное значение, вкладывается в него более глубокое содержание.
Этими синтаксическими формами, конечно, не ограничиваются все приемы выразительного оформления речи. Следует упомянуть еще об одном классе, не приводя примеров. Известно, что существуют повествовательные формы изложения и диалогические формы изложения. Повествование — это некий монолог, не обращенный к одному лицу, а абстрактный монолог, обращенный к абстрактным слушателям, даже не находящимся перед говорящим. Но имеются особые случаи диалогической речи. Что для них характерно? Диалог обыкновенно состоит из вопросов и ответов. Имеется вопросительная форма, имеется и ответная форма, потому что ответ обыкновенно синтаксически строится не так, как вопрос. Например, для ответа характерно положение частицы «да» или «нет». Собственно, диалогическую форму приобретает и восклицание. Восклицание тоже есть выражение чувства, которое предполагает собеседника: перед кем-то можно восклицать, кого-то можно спрашивать и т. д. Но для лирических произведений характерно то, что синтакси-
ческие формы диалога применяются к стихотворению, которое служит объективным изложением.
Риторические обороты
Подобные вопросы, подобные восклицания (следовало бы прибавить — и ответы) носят название риторических. Это либо просто форма вопроса, либо обращение к предмету, к явлению природы, которое, конечно, не может дать никакого ответа. Все эти риторические формы весьма типичны для лирических произведений. А так как лирические произведения у нас всегда ассоциируются со стихами, то можно сказать, что это главным образом характерно для стихотворной формы. В стихах Фета или Жуковского можно найти много подобных форм. А в современной поэзии? Маяковский постоянно имитирует диалогическую форму в своих стихах. Правда, у него это ораторский прием: более громкий вопрос, более громкое восклицание, но эти риторические формы присутствуют у него постоянно.
Любопытно, что подобные формы встречаются и в прозе, но тогда эту прозу хочется перевести в стиховой ряд. Создается ощущение, что такая проза приобретает особый характер. Возьмем известный лирический отрывок Гоголя: «Знаете ли вы украинскую ночь?» Вопрос — чисто риторический, и ответ тоже чисто риторический. Здесь выдерживается тон беседы, и отсюда получается впечатление большей близости говорящего к слушателю, большей эмоциональной насыщенности. Мы как бы видим того человека, который спрашивает, который к нам обращается. Такая проза кажется особо ритмичной, хотя никто не уловил здесь особенного ритма; во всяком случае до сих пор никто не показал, чем эти отрывки ритмичнее других.
В другом риторическом восклицании Гоголя: «Чуден Днепр...» восклицательная форма имеет значение не столько восклицания, сколько описания, но она превращается в восклицательную. Вопросительный и восклицательный знаки появляются очень часто там, где по существу мы имеем не диалог, а простую форму повествования.
Восклицание, вопрос и ответ — риторические формы, очень типичные для лирического развертывания темы. Можно найти очень много стихотворений, которые начинаются со слов да или нет, например у Лермонтова:
Нет, я не Байрон...
Тут есть какой-то элемент диалога, элемент непосредственной беседы со слушателем или с самим собой. Очень часто стихотворение начинается с таких слов, которые в нормальном положении могут быть только в середине диалога или в середине речи.
Но, конечно, в употреблении риторических оборотов должно быть особое чувство меры. Вообще в каждом стиле они хороши тогда, когда уместны, а слишком обильное употребление разных риторических оборотов приводит к трескучей ходульной ри-
торике. Такие обороты должны быть внутренне оправданными. Это, впрочем, относится ко всем без исключения приемам художественного выражения.
Несобственно - пряма речь[119]
Вопросы стилистики далеко не все достаточно разработаны. Но, имея общее представление о лексике, об образной и синтаксической структуре, можно дополнять свои познания живыми наблюдениями. Важно лишь знать, что искать в реальных текстах.
Стиль — это прием речевой характеристики. Все стилистические формы имеют применение главным образом в характеристике говорящего. Стилистическая структура речи обычно характеризует говорящего, и поэтому говорят о речевой характеристике. Отсюда можно заключить, что наибольшее внимание писатель обращает на характеристику речи тогда, когда эта речь прямая, т. е. когда мы имеем дело с каким-нибудь персонажем, который говорит. Поэтому анализ прямой речи необходим для того, чтобы создать портрет того или иного персонажа, или осознать портрет того или иного персонажа. А в драматических произведениях на этом держится всё. Там автор никак не представляет персонажа. Персонаж говорит сам, и поэтому стиль речи его необычайно важен, тем более, что драматическое произведение создается для того, чтобы изобразить его на сцене. Здесь авторский текст должен быть достаточно ярок, чтобы дать материал для актера, для осмысления характера его речи. Это дается не столько содержанием текста, сколько стилем его. Но не нужно думать, что при анализе текста можно ограничиться анализом так называемой прямой речи, т. е. того, что произносит персонаж. Дело в том, что далеко не всегда стиль говорящего отражается только в тех словах, которые «закавычены», которые даны в кавычках. Сплошь и рядом слова персонажа даны без кавычек и формально говорит как будто автор. Но он говорит за своего героя. Это то, что называется несобственнопрямой речью.
Несобственно-прямая речь обнаруживается не всегда одинаково легко. Вот пример откровенного обнаружения несобственно-прямой речи из повести Пушкина «Барышня-крестьянка»:
«Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете, и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась...»
Как будто формально грамматически здесь говорит рассказчик, автор, потому что Лиза фигурирует в третьем лице. Но автор ли это говорит? «Лизе было совестно показаться перед
незнакомцами такой чернавкою...» Мы знаем, что у Лизы были совсем другие мотивы для того, чтобы явиться в таком виде. Это вовсе не те мотивы, которые сообщает автор читателю, а это те мотивы, которые Лиза сообщает мисс Жаксон. Следовательно, хотя фраза построена в третьем лице — «Лизе было совестно...», но на самом деле это — несобственно-прямая речь, т. е. это речь Лизы, которую если бы ее закавычить, надо было бы читать так: «Мне было совестно показаться... Я не смела просить... Я была уверена...» и т. д. Это не косвенная речь. Косвенная речь была бы тогда,, е сли бы мы имели: «Лиза сказала, что...» и т. д. Здесь этого нет. Грамматически повесть построена как речь рассказчика, автора. В Действительности вся эта речь выдержана в стиле языка персонажа. Например, дальше говорится: «Она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон... и т. д.». Если вспомнить, как мисс Жаксон охарактеризована в повести «Барышня-крестьянка», то будет ясно, что автор не мог употребить для ее характеристики таких эпитетов, как «добрая», «милая». Мисс Жаксон не выведена ни доброй, ни милой. Это опять-таки слова обращения Лизы к мисс Жаксон, т. е. это тоже несобственно-прямая речь. И даже формально слова «и прочее и прочее» — это есть сигнал того, что в таком же духе Лиза продолжала говорить мисс Жаксон. Здесь кончается несобственнопрямая речь и начинается уже рассказ автора: «Мисс Жаксон, удостоверясь...» и т. д. Здесь пример отчетливо поданной несобственно-прямой речи. Ясно, что говорит Лиза, а не автор, хотя, повторяю, грамматически это подано так, как будто говорит автор.
Но такие случаи явного обнаружения несобственной прямой речи относительно редки. Зато в скрытой форме несобственнопрямая речь очень часто присутствует. Автор часто говорит о каком-нибудь персонаже его же стилем. Иногда эта замена прямо свидетельствует о том, кто сейчас на сцене. Появился один персонаж — автор говорит одним языком, появился другой персонаж — автор говорит другим языком. Язык сменяется вместе с выходом того или другого персонажа. Хотя здесь нет такого ясного обнаружения того, что автор говорит не своим языком, а языком персонажа, но по существу это та же самая несобственная речь.
Приведу пример из «Пиковой дамы». Герой повести Германн— сын обрусевшего немца, поэтому в его речи, хотя и вполне правильной, присутствует какая-то книжная абстракция, чувствуется, что это не настоящая русская речь: «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», — говорит Германн. Это, конечно, книжный оборот. Такой налет книжности есть во всех речах Германна. А теперь посмотрим, как Пушкин характеризует Германна уже от своего лица и вовсе как бы не прибегая к языку Германна. Мы видим, что в стихию языка Пушкина тоже вдруг вторгается этот книж-
ный стиль, когда он говорит о Германне. Например: «Он имел сильные страсти я огненное воображение, но твердость спасала его от, обыкновенных заблуждений молодости». Ни о ком другом не говорит Пушкин так, как он говорит о Германне. Почему? Потому, что самим стилем этой характеристики он как бы подчеркивает и стиль Германна. Созвучно речевой характеристике Германна Пушкин дает свою характеристику героя. В таком скрытом виде несобственно-прямая речь встречается гораздо чаще, чем это можно было бы ожидать, и важно при анализе внимательно следить за тем, где язык принадлежит автору и где язык принадлежит персонажу.
Кроме того, бывает очень сложное перекрещивание. Один из персонажей рассказывает о других персонажах, сообщает об их речи. Стиль рассказчика накладывается на стиль тех персонажей, о которых он рассказывает. Бывает, что побеждает стиль того, о ком он рассказывает. Встречаются сложные комбинации, где требуется довольно тонкий стилистический анализ, чтобы обнаружить, какие элементы стиля кому из говорящих принадлежат. Очень сложная система, например, в «Повестях Белкина». Всё это пишет Белкин, но пишет не от себя, а пересказывает то, что ему говорили разные лица. Стиль каждого рассказа соответствует тем персонажам, какие указаны в предисловиях к повестям.
Помимо общего стиля Белкина, в каждой из повестей отражается стиль рассказчика. Например, в повести «Выстрел» рассказ ведет какой-то офицер, но во вторую часть вторгается еще и рассказ графа Б. *** Язык Белкина и язык еще двух рассказчиков дает сложное сплетение трех разнородных стилей.
ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
СТИХОСЛОЖЕНИЕ
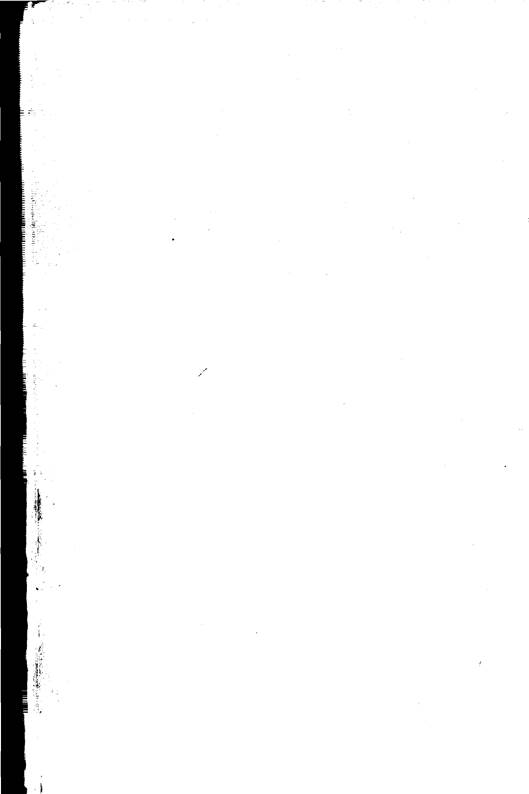
I. МЕТР И РИТМ
Признаки стихотворной речи
Достаточно известно, что литература всех времен и всех народов наряду с обычной, так речи называемой прозаической речью, пользовалась особой речью —речью ритмической, которую мы еще называем стихотворной. И если обычная, прозаическая речь в литературе строилась по тем же законам, по каким строилась всякая письменная речь, то стихотворная речь не имеет какого-либо соответствия в речи практической. Следовательно, те законы, по которым строится стихотворная речь, всецело принадлежат уже проблемам литературы, проблемам поэтики. Мы не найдем ни в грамматике, ни в общей лингвистике каких-нибудь оснований, на которые можно было бы опереться при анализе стихотворной речи как таковой. Это не значит, что стихотворная речь не подчинена всем тем законам, которым подчинена обычная речь. Стихотворная речь, как и всякая речь, служит средством общения и, следовательно, соблюдает все законы, отсюда вытекающие. Но сверх тех законов, которые справедливы для прозаической речи, она обладает своими законами, формирующими ее как стихотворную речь.
Что же такое стихотворная речь? В общем плане можно сказать, что это есть речь ритмическая, но, к сожалению, слово «ритм», как и многие другие слова, подвергалось разным метафорическим толкованиям. Слово «ритм» иногда употребляется в значении, очень далеком от его первоначального значения. Иногда под ритмом подразумевают некоторые соответствия не звукового, а иного порядка, вплоть до того, что говорят о ритме зданий в архитектуре, о ритме в живописи и проч. Но все эти разговоры — о смысловом ритме, о ритме в развитии драматического сюжета — являются метафорами, и в этом смысле мы слова «ритм» употреблять не будем. Мы будем подразумевать под ритмом определенную звуковую организацию речи. Когда мы говорим о ритме речи, мы имеем в виду звуковую систему,
звуковую последовательность, а не какие-либо другие соотношения.
Но само по себе слово «ритм» очень мало что вскрывает, потому что определенная закономерность, определенная звуковая организованность присутствует также в прозе. Пока мы не займемся механизмом ритма в стихах, не будем изучать специфические особенности стихотворного ритма, до тех пор само слово не будет для нас достаточным путеводителем для того, чтобы анализировать данное явление. И вот посмотрим, чем же отличается стихотворная речь от прозаической в своем звуковом построении?
Уже одно то, что стих печатается и пишется несколько иначе, чем проза, обнаруживает одну его особенность: стих — не непрерывная речь, а речь, распадающаяся на определенные единицы, которые обычно выделяются в отдельные строки — стихи, откуда и происходят термины стихосложение, стихотворная речь и т. д. Следовательно, в основе стихотворной речи лежит отчетливое распадение речи на отдельные звуковые отрезки, которые мы называем стихами. Впоследствии мы узнаем, что так называемый стих не есть единственная единица во всей иерархии членения стихотворной речи. Мы узнаем, что есть членение более мелкое, чем стих, и бывает членение более крупное — объединение стихов; в отдельных частных случаях даже бывает трудно разобраться, каково членение, как делить речь на стихи. Но в общем, типическом случае стихотворная речь совершенно отчетливо делится на стихи. Стихи принято печатать в отдельную строку именно потому, что обычно никакого затруднения не представляет вопрос о том, какая единица в этой речи составляет стих, как разбить речь на кусочки, чтобы выделить стих. Это, повторяю, в общем случае, хотя иной раз стихи группируются в более крупные единицы, например по два стиха, и наоборот, распадаются на более мелкие единицы, например один стих можно рассматривать как две ритмические единицы. Но это — отдельные случаи, и о них следует говорить особо. Как общее правило мы примем, что с тихотворная речь делится на жесткие, отчетливые единицы — стихи. Это — первый признак.
Второй признак состоит в том, что каждый из этих стихов обладает своеобразной мерой или размером. Изучение этих размеров и тех принципов, на которых основывается классификация этих размеров, и составляет основное содержание отдела стихосложения. Этими вопросами наука о стихосложении главным образом и занимается.
Но прежде чем перейти к частным вопросам стихосложения, надо остановиться на некоторых общих вопросах.
Если мы задумаемся о том, откуда, собственно, пошла такая странная речь, которой на практике никто не пользуется, чего ради, вдруг, вместо того чтобы говорить и писать обыкно-
венной прозой, поэты начали говорить и писать стихами, — то вопрос наш окажется аналогичным вопросу о том, почему в балете люди ходят по сцене со странными телодвижениями, которых никто не производит в частной жизни, почему объясняются в любви друг другу ногами, что также не принято в жизни. Мы знаем, что танец есть одна из форм искусства, имеющая весьма древнее происхождение, и надо было бы очень далеко уйти в историю человечества, чтобы понять, почему люди не только ходят, но и танцуют, почему в одну из форм искусства превратились движения человека, вовсе не диктуемые практической необходимостью? Точно так же и в данном случае: происхождение стиха уходит в очень далекую древность. Но в какую бы далекую древность оно ни уходило, легко заметить, что источником стиха является песня, что когда-то не было стихов, в нашем смысле слова, а была песня.
От песни и происходит стих, происходит стихосложение. Что же случилось с песней? Песня есть синтез музыки и слова; песня одинаково основана на тексте и на той мелодии, которая текст сопровождает. Еще неизвестно, что раньше рождается — мелодия или слово. Очевидно, они рождались одновременно. Инструментов еще не было, и единственной музыкой была песня, голос человека. Звуки, которые голос воспроизводил, заполнялись словесным содержанием, и вот родилась песня, соединяющая элементы музыки и слова воедино. В песне ритмическое начало всецело подчинено законам музыкального ритма. Сам по себе музыкальный ритм тоже очень изменчив. Но нам в музыкальном ритме разобраться легче. Во всяком случае в современной классической музыке довольно просто понять, на каких законах звучания построен этот ритм.
Но собственно стих начинается с того момента, когда поэты перестали быть певцами (рапсодами, аэдами). Поэзия, о которой мы будем говорить, родилась в тот момент, когда музыка отпала и осталось одно только слово, когда, следовательно, ритм того произведения, которое называлось стихами, стал строиться не на музыкальной основе, а на. основе словесной, языковой. Это очень важно учитывать вот в каком отношении. Довольно часто пытаются интерпретировать те или иные явления стиха простой аналогией с музыкой, основываясь на том, что когда-то стих соединялся с музыкой, и поэтому нормы музыкального ритма часто механически переносят на нормы ритма словесного. Но дело в том, что это было много столетий тому назад. Тогда действительно ритм слова совпадал с ритмом музыки, т. е. напева, и тогда можно было изучать законы ритма песни на основании тех законов, которые свойственны музыкальному ритму. Но так как это было очень давно, а современные поэты не поют (а если поют, то не тогда, когда пишут стихи), то стихотворная речь перестала строиться на чисто музыкальных законах. Это отдаленное происхождение ритма стиха и ритма музыки дает
 2015-05-30
2015-05-30 660
660








