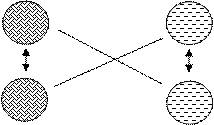Экспериментально обнаруженная зависимость, которой было дано название «феномен горькой конфеты», имеет особенное значение для понимания реализующих личность процессов. Поэтому мы решили выделить его обсуждение в отдельный пункт.
Описание эксперимента. В исследовании в качестве испытуемых принимали участие дети в возрасте 3-5 лет. Экспериментальные условия задавались наподобие тех, что были в опытах Л. Кёлера с обезьянами: привлекательная приманка (конфета) и наличие подручных средств, с помощью которых ее можно попытаться достать. Но было и несколько серьезных отличий:
· основная преграда носила условный, символический характер – это была линия, за которую нельзя было заходить;
· с ребенком обсуждалось это ограничение – фактически, заключалось соглашение о выполнении правил проведения опыта; объяснялось также, что в случае успеха конфету можно будет взять себе как законную добычу;
· реальные условия были так организованы, что без нарушения правил достать конфету было невозможно.
Экспериментатор дожидался, пока ребенок сделает несколько попыток, втянется в «игру», и под каким-нибудь предлогом выходил из комнаты, но продолжая наблюдать за действиями испытуемого через зеркало Гезелла. Подавляющее большинство детей вскоре нарушали правила (запрет), заступали за линию и «доставали» конфету. Вслед за этим экспериментатор входил комнату, хвалил ребенка за успех и предлагал оставить конфету себе.
Результаты. Удивительно, но многие дети не очень то радовались приобретению, некоторые расстраивались, и даже плакали. Из количественных особенностей следует отметить, что а) более младшие дети быстрее и чаще нарушали введенное в игру ограничение (запрет), б) более старшие дети чаще проявляли негативные реакции в завершающей части исследования.
Анализ результатов. Таким образом, экспериментально зафиксировано, что в рамках дошкольного возраста происходит интериоризация мотивационных иерархических отношений. Это означает постепенное освобождение мотивационных процессов ребенка от полевой зависимости (К. Левин). Поясним более детально. В начале исследования (этап 1 на рисунке А) ребенок, принимая правила «игры», соподчиняет между собой два мотива: желание получить конфету и стремление выполнять данное взрослому обещание. Обещание выступает более сильным мотивом в этой паре. Каждый из мотивов предписывает свое поведение: желание получить конфету побуждает к действиям по ее добыче, а стремление выполнить обещание побуждает соблюдать правила.
| Этапы | Ситуация | Мотивационная структура | |||
| Первые попытки решить задачу в присутствии экспериментатора | 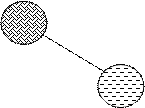 «Хочу конфету» «Договорились с дядей» «Хочу конфету» «Договорились с дядей» | ||||
| Отсутствие экспериментатора | «Хочу конфету»
| ||||
| Возвращение экспериментатора | «Хочу конфету»
«Договорились с дядей» |
Когда же взрослый уходит, вместе с ним удаляется и мотив «Договорились с дядей» (правильно говорить дезактуализируется, т.е. переводится в неактуальное, неактивное состояние). Здесь, во-первых, дает себя знать полезависимость поведения ребенка – склонность спонтанно подчинять свое поведение актуально присутствующим в поле восприятия побудительным стимулам. Другими словами, побуждает в основном то, что в данный момент воспринимается. И чем выше мотивационная валентность (сила) предмета, тем выше вероятность, что ребенок поддастся именно этому влиянию. А, во-вторых, сказывается незрелость собственно личностных механизмов, призванных удерживать мотивационные соотношения, произвольно актуализировать их за пределами непосредственного восприятия побудителей. Собственно говоря, мотив становится человеческим тогда, когда он перестает быть внешним предметом, а превращается в образ этого предмета, доступ к которому может быть получен в любое время, вне зависимости от того, доступен сам предмет для восприятия или нет. В обсуждаемом случае уход экспериментатора привел к тому, что исчезло и мотивационное соподчинение, поскольку актуализированным остался лишь один мотив – «Хочу конфету».
В таком случае вопрос о выборе между мотивами не стоит, задачи на поступок нет, поэтому ребенок поступает спонтанно и естественно, как и следует себя вести психически здоровому ребенку. Но с важной оговоркой – что нормально для трехлетки, то уже сбой для пятилетнего ребенка. Но даже многие пятилетние, посомневавшись, все же соблазнялись конфетой. Сколько же еще затем будет в жизни человека ситуаций, когда он соблазнится! А затем испытывать горечь по поводу минутной слабости.
И вот в этот момент, когда выбор без выбора уже совершен, вновь появляется экспериментатор, и «приносит» с собой ушедший было мотив «Мы же договорились». Вот здесь и начинается настоящая внутриличностная драма, поскольку мотивационная иерархия оказывается дезориентированной, а мотивационная динамика неопределенной. Оба мотива оказываются главными: один («Хочу конфету») в силу уже совершенного действия – и это уже невозможно изменить! – а другой («Договорились») потому что снова актуализирован – и это нельзя отменить. В руках вот она конфета, а перед глазами вот он твой партнер по соглашению. Оба мотива сенсорно незыблемы, конфликт между ними обострен до предела. Это состояние – экспериментально созданный ситуативный невроз. Рассмотрим возможные для ребенка стратегии поведения.
1. Бросить конфету и уйти (некоторые испытуемые именно так и сделали). Это настоящий поступок – решительный и однозначный выбор в пользу ценности договора между людьми («Уговор дороже денег»). Ребенок кардинально решает конфликт, снимая основное противоречие.
2. Расплакаться (у некоторой части детей так и получилось). Это фактически стремление повлиять на взрослого, разжалобить его, спровоцировать на то, чтобы он отменил договоренность. Поскольку неприятную для ребенка ситуацию создал сам взрослый, для него будет очень естественным успокоить ребенка, «простить», снять ответственность. Со стороны ребенка это не что иное как регрессия в более раннее детство. Это, к сожалению, отказ быть личностью, быть субъектом своих поступков (проступков в том числе), брать на себя бремя ответственности.
3. Сдержать свои эмоции, утаить их от взрослого, «спокойно» уйти со своей конфетой (так поступили многие дети). Остается бросить вслед: «Доброго пути, будущий невротик». В данном случае мы видим типичный для нашей культуры сценарий – уносить свои проблемы с собой, держать их при себе, никому не показывать.
4. Снизить значимость произошедшего для себя: «Подумаешь…» (определить, сколько детей так отреагировали, трудно). Это психологические защиты по типу «Сладкий лимон», вытеснение, рационализация и т.п. Склонность к такого рода реакциям будет способствовать повышению личностного напряжения, недовольства собой, которое найдет выход или в самоуничижении, или в психосоматической симптоматике (вариант телесного самонаказания, на грани самоистязания).
5. Дискредитировать ситуацию «игры», поставить под сомнение саму идею договоренности, снизить ее ценность. Это путь антисоциального развития. Если подобная стратегия решения внутриличностного конфликта будет часто использоваться ребенком, это может вылиться в цинизм, в делинквентное поведение и другие социальные отклонения.
6. Применить некую хитрость: вдруг состроить курьезное выражение лица, заговорить о чем-то постороннем, пожаловаться на что-то, сослаться на неважное самочувствие (часто это выглядит наивно, но взрослые порой «покупаются»). Поскольку такие приемы эксплуатируют свое детское положение, частое их использование будет способствовать инфантильным фиксациям.
Как видим, спектр возможных выходов велик, так что у ребенка есть возможности для маневра. Разрушительный потенциал этой во многом игровой и условной экспериментальной ситуации незначителен, и описанные выходы будут давать эффект лишь в случае повторов и дополнительных трудностей.
А вот что может быть, если конфеты, образно говоря, не только «горькие», но и «отравленные».
Одна школьная учительница средних лет, услышав краткое описание феномена «горькой» конфеты в одной из лекций, с воодушевлением и даже с некоторой гордостью рассказала, как она когда-то «воспитывала волю» у своего сына. Она оставляла конфеты в вазе на верхней полке серванта, точно зная их количество, брала с сына обещание не брать конфеты в ее отсутствие. По возвращении сначала тайно пересчитывала конфеты, и обнаружив недостаток, приступала к «воспитательному» воздействию. Начинала с вопроса, не брал ли сын конфеты, а получив отрицательный ответ, она набрасывалась на него с упреками в том, что он лгунишка, и что очень плохо, что он не способен сдерживать свои желания.
Сразу скажем, что настоящего воспитания в манипуляции мамы не было, а была процедура изготовления удобной для себя жертвы, на которой можно было с успехом воплотить свои садистские (в психологическом значении этого слова) устремления. Можете себе представить, сколь личностно разрушительным был для ребенка такой сценарий [в скобках дано описание механизма разрушения].
Шаг первый: готовится ловушка для будущей жертвы:
· для соблазнения на видное место выставляется приманка, но не в легком доступе, чтобы дразнило еще больше [эксплуатируется полезависимость ребенка];
· ребенку дается задание, выполнить которое он еще не способен, просто потому что у него еще не сформированы соответствующие личностные структуры [избыточная нагрузка на грани разрушения];
· с ребенком заключается «соглашение», отказаться от которого он не имеет возможности [ядро манипуляции – имитация личностного выбора при отсутствии такового].
Шаг второй: ловушка захлопывается по всем направлениям, чтобы жертва не смогла выскользнуть:
· предоставляется достаточно времени, чтобы скучающий дома ребенок (пока мама на работе) накопил абстинентного состояния и сорвался, соблазнившись видом требующих их съесть конфет [эксплуатируется полезависимость ребенка];
· конфеты пересчитываются, чтобы был весомый аргумент на случай отпирательства [сократить возможности для маневра];
· задается вопрос, чтобы заставить жертву затянуть петлю проступка потуже [усилить объем обвинений].
Шаг третий: унижение и уничижение, путем перечисления проступков [снижение самооценки, предельное усиление чувства вины]:
· взял без разрешения («кто тебе разрешал…», «сколько раз надо объяснять…» и т.п.), что означает, непослушный и невоспитанный, пренебрегающий мамиными наставлениями, т.е. плох как член общества (в наших терминах, как социальный индивид);
· нарушил уговор («как ты смел…», «как ты себе думаешь жить дальше…»), что свидетельствует о неспособности держать слово, отсутствие воли, т.е. слабость его как личности;
· солгал! («Кому? Маме»), что дискредитирует ребенка еще в моральном плане.
В данной ситуации мы видим систематическое разрушение того, что еще не успело окрепнуть – личностного соподчинения мотивов. Деструктивный «талант» мамы проявился еще и в том, что она точно угадала самую уязвимую для нанесения удара мишень – чувство вины. (Напомним, что именно данный возраст Э. Эриксон обозначает сензитивным для выбора между инициативой и виной.) Однако «чрезмерное пристыживание приводит не к истинной правильности поведения, а к скрытой решимости попытаться выкрутиться из положения, незаметно ускользнуть, если, конечно, эта чрезмерность не кончается вызывающим бесстыдством» [ Эриксон 1996, с. 354 ].
Оказавшись в состоянии загнанного в угол зверя, ребенок регрессирует к более архаическим способам реагирования. Еще более печально то, что ребенок в подобных случаях избыточно идентифицируется с преследующим родителем, накапливая незрелый родительский потенциал. «То, что на протяжении всей жизни человека его совесть остается частично детской, составляет самую суть человеческой трагедии. Ибо супер-эго ребенка способно быть грубым, безжалостным и непреклонным, как можно заметить в случаях, когда дети чрезмерно контролируют себя и сжимают свое «Я» до точки самоуничтожения; когда они развивают сверхпослушание, более педантичное, чем то, которого хотели добиться родители; или когда они развивают глубокие регрессии и стойкие обиды, так как сами родители, оказывается, не живут по этой новой совести. Один из глубочайших конфликтов в человеческой жизни – ненависть к тому из родителей, кто служил образцом и исполнителем воли супер-эго, но сам, как выяснилось, пытается выйти сухим из воды в случае тех же прегрешений, которые ребенок больше не мог терпеть у себя. Подозрительность и способность изворачиваться, образуя смесь с таким качеством супер-эго как "все или ничего" (характерным для этого рупора моральной традиции), делает человека морального (в смысле морализующего) большой потенциальной опасностью для его собственного эго, да и для его собратьев тоже» [ Эриксон 1996, с. 360 ]. Резонно ожидать, что с результатами описанного воспитания в лучшем случае будем иметь мы, психологи, в худшем – судебная система государства.
* * *
Подводя итог, следует напомнить, что в представлениях Э. Эриксона ребенок на этом возрастном этапе решает дилемму «Инициатива против вины». Трудности этого решения и подстерегаемые опасности хорошо видны в феномене «горькой конфеты». Легко согласиться с автором в том, что от способа ее решения в значительной степени будет зависеть дальнейшая жизнь человека, особенно в социальном плане. Вместе с тем, можно указать и иные переменные, которые также выступают дилеммами: эгоцентризм/децентрация, приватность/публичность, подчинение/непокорность, власть/подчинение. Кроме того, фундаментальными задачами выступают половая идентификация и присвоение самооценки. В этом контексте дилемма инициатива/вина смотрится как рядоположенная, а не системообразующая. Объяснение тому может быть найдено в следующих обстоятельствах.
1. Предыдущие дилеммы, которым мы придали статус базовых прототипических схем, в своей основе имеют телесный процесс. Эта телесная функция задает схему восприятия-оценки-действия (порождает фиксированную смысловую установку), которая в первую очередь опробуется при решении различных жизненных задач. Опора же на телесную функцию придает психическим процессам дополнительную энергетику. Поэтому те их них, которые соотносятся с телесным отправлением, оказывается в приоритете перед другими психическими процессами. В силу этого телесный процесс выступает средством организации (по своему образу и подобию) множества психических процессов. Все последующие дилеммы, обсуждаемые Э. Эриксоном, уже не имеют своего непосредственного телесного носителя, поэтому их исключительность уже поставлена под сомнение.
2. На доличностном этапе развития ребенка знамя ведущей функции принадлежало характеру, закономерности которого во многом диктовали содержание проблем, которые требовалось решить. Отсюда адаптивные по природе модальности: «получать», «захватывать», «удерживать» и «отпускать». А как только возникли первые личностные структуры, адаптивность начинает терять свое исключительное положение, силу постепенно набирают личностные, не строго адаптивные по своей природе тенденции.
Но именно это обстоятельство способно «реабилитировать» инициативу с точки зрения ее значения для развития личности на этом этапе, если начальный уровень неадаптивности как раз и обозначить как инициативность. В таком понимании и иные из указанных дилемм могут быть оценены с точки зрения выбора большей или меньшей выраженности инициативы. Так, децентрация требует больших вложений (инициативы), чем уже имеющийся эгоцентризм, публичность предполагает большую инициативу, чем приватность, так же как непокорность и властность. Следовательно, у нас нет веских причин отказываться от предложенной Э. Эриксоном формулировки основной задачи дошкольного возраста: «Инициатива против вины».
 2015-05-22
2015-05-22 8656
8656


 «Договорились с дядей»
«Договорились с дядей»