Круг восьмой – Седьмой ров – Воры
Покуда год не вышел из малюток
И солнцу кудри греет Водолей[308],
А ночь все ближе к половине суток
И чертит иней посреди полей
Подобье своего седого брата,[309]
Хоть каждый раз его перо хилей, –
Крестьянин, чья кормушка небогата,
Встает и видит – побелел весь луг,
И бьет себя пониже перехвата;

Уходит в дом, ворчит, снует вокруг,
Не зная, бедный, что тут делать надо;
А выйдет вновь – и ободрится вдруг,
Увидев мир сменившим цвет наряда
В короткий миг; берет свой посошок
И гонит вон пастись овечье стадо.
Так вождь причиной был моих тревог,
Когда казался смутен и несветел,
И так же сразу боль мою отвлек:
Как только он упавший мост приметил,
Он бросил мне все тот же ясный взгляд,
Что у подножья горного[310] я встретил.
Он оглядел загроможденный скат,
Подумал и, кладя конец заботам,
Раскрыв объятья, взял меня в обхват.
И словно тот, кто трудится с расчетом,
Как бы все время глядя пред собой,
Так он, подняв меня единым взметом
На камень, намечал уже другой
И говорил: «Теперь вот тот потрогай,
Таков ли он, чтоб твердо стать ногой».
В плаще[311] бы не пройти такой дорогой;
Едва и мы, с утеса на утес,
Ползли наверх, он – легкий, я – с подмогой.
И если бы не то, что наш откос
Был ниже прежнего, – как мой вожатый,
Не знаю, я бы вряд ли перенес.
Но так как область Злых Щелей покатый
К срединному жерлу дает наклон,
То стены, меж которых рвы зажаты,
По высоте не равны с двух сторон.
Мы наконец взошли на верх обвала,
Где самый крайний камень прислонен.
Мне так дыханья в легких не хватало,
Что дальше я не в силах был идти;
Едва взойдя, я тут же сел устало.
«Теперь ты леность должен отмести, –
Сказал учитель. – Лежа под периной
Да сидя в мягком, славы не найти.
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной.
Встань! Победи томленье, нет побед,
Запретных духу, если он не вянет,
Как эта плоть, которой он одет!
Еще длиннее лестница предстанет;[312]
Уйти от них – не в этом твой удел;[313]
И если слышишь, пусть душа воспрянет».
Тогда я встал; я показать хотел,
Что я дышу свободней, чем на деле,
И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»
Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле,
Обрывистый, крутой, в обломках скал,
Он был, чем тот, каким мы шли доселе.
Чтоб скрыть усталость, я не умолкал;
Вдруг голос из расселины раздался,
Который даже не как речь звучал.
Слов я понять не мог, хотя взобрался
На горб моста, изогнутого там;
Но говоривший как бы удалялся.
Я наклонился, но живым глазам
Достигнуть дна мешала тьма густая;
И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам
Сойти на вал, и станем возле края;
Я слушаю, но смысла не пойму,
И ничего не вижу, взор склоняя».
И он: «Мой отклик слову твоему –
Свершить; когда желанье справедливо,
То надо молча следовать ему».
Мы с моста вниз сошли неторопливо,
Где он с восьмым смыкается кольцом,
И тут весь ров открылся мне с обрыва.
И я внутри увидел страшный ком
Змей, и так много разных было видно,
Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем.
Ливийской степи было бы завидно:
Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей
Плодятся в ней, и якул, и ехидна, –
Там нет ни стольких гадов, ни лютей,[314]
Хотя бы все владенья эфиопа
И берег Чермных вод прибавить к ней.
Средь этого чудовищного скопа
Нагой народ,[315] мечась, ни уголка
Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа[316].
Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.
Вдруг к одному, – он был нам всех виднее, –
Метнулся змей и впился, как копье,
В то место, где сращенье плеч и шеи.
Быстрей, чем I начертишь или О,
Он[317] вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, утерял свое.
Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.
Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.
Не травы – корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом,
А нард и мирра – смертные покровы.[318]
Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает – демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,
И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый, –
Таков был грешник, вставший погодя.[319]
О божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!
Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я – Ванни Фуччи,[320]
Зверь[321], из Пистойи, лучшей из берлог».
И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».[322]
Тот, услыхав и отвечать готов,
Свое лицо и дух ко мне направил
И от дурного срама стал багров.
«Гораздо мне больнее, – он добавил, –
Что ты меня в такой беде застал,
Чем было в миг, когда я жизнь оставил.
Я исполняю то, что ты желал:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
Но чтобы ты свиданию со мной
Не радовался, если выйдешь к свету,
То слушай весть и шире слух открой:
Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,[323]
Потом Фьоренца обновит свой строй.[324]
Марс от долины Магры пар надвинет,
Повитый мглою облачных пелен,
И на поля Пиценские низринет,
И будет бой жесток и разъярен;
Но он туман размечет своевольно,
И каждый Белый будет сокрушен.[325]
Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»[326]
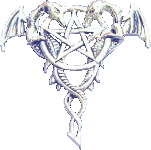
 2015-06-16
2015-06-16 232
232








