Круг восьмой – Восьмой ров – Лукавые советчики
Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!
Я пять таких в собранье воровском
Нашел сограждан, что могу стыдиться,
Да и тебе немного чести в том.
Но если нам под утро правда снится,
Ты ощутишь в один из близких дней,
К чему и Прато[343], как и все, стремится;

Поэтому – тем лучше, чем скорей;
Раз быть должно, так пусть бы миновало!
С теченьем лет мне будет тяжелей.
По выступам, которые сначала
Вели нас вниз, поднялся спутник мой,
И я, влекомый им, взошел устало;
И дальше, одинокою тропой
Меж трещин и камней хребта крутого,
Нога не шла, не подсобясь рукой.
Тогда страдал я и страдаю снова,
Когда припомню то, что я видал;[344]
И взнуздываю ум сильней былого,
Чтоб он без добрых правил не блуждал,
И то, что мне дала звезда благая
Иль кто-то лучший, сам я не попрал.
Как селянин, на холме отдыхая, –
Когда сокроет ненадолго взгляд
Тот, кем страна озарена земная,
И комары, сменяя мух, кружат,[345] –
Долину видит полной светляками
Там, где он жнет, где режет виноград,
Так, видел я, вся искрилась огнями
Восьмая глубь, как только с двух сторон
Расщелина открылась перед нами.
И как, конями поднят в небосклон,
На колеснице Илия вздымался,
А тот, кто был медведями отмщен,
Ему вослед глазами устремлялся
И только пламень различал едва,
Который вверх, как облачко, взвивался,[346] –
Так движутся огни в гортани рва,
И в каждом замкнут грешник утаенный,
Хоть взор не замечает воровства.
С вершины моста я смотрел, склоненный,
И, не держись я за одну из плит,
Я бы упал, никем не понужденный;
И вождь, приметив мой усердный вид,
Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян
Внутри огня, которым он горит».
«Теперь, учитель, я вполне уверен, –
Ответил я. – Уж я и сам постиг,
И даже так спросить я был намерен:
Кто в том огне, что там вдали возник,
Двойной вверху, как бы с костра подъятый,
Где с братом был положен Полиник?»[347]
«В нем мучатся, – ответил мой вожатый, –
Улисс и Диомед,[348] и так вдвоем,
Как шли на гнев,[349] идут путем расплаты;
Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града,
Откуда римлян вышел славный дом,[350]
И то, что Дейдамия в сенях Ада
Зовет Ахилла, мертвая, стеня,[351]
И за Палладий[352] в нем дана награда».
«Когда есть речь у этого огня,
Учитель, – я сказал, – тебя молю я,
Сто раз тебя молю, утешь меня,
Дождись, покуда, меж других кочуя,
Рогатый пламень к нам не подойдет:
Смотри, как я склонен к нему, тоскуя».
«Такая просьба, – мне он в свой черед, –
Всегда к свершенью сердце расположит;
Но твой язык на время пусть замрет.
Спрошу их я; то, что тебя тревожит,
И сам я понял; а на твой вопрос
Они, как греки, промолчат, быть может».
Когда огонь пришел под наш утес
И место и мгновенье подобало,
Учитель мой, я слышал, произнес:
«О вы, чей пламень раздвояет жало!
Когда почтил вас я в мой краткий час,
Когда почтил вас много или мало,
Слагая в мире мой высокий сказ,[353]
Постойте; вы поведать мне повинны,
Где, заблудясь, погиб один из вас».[354]
С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой больший рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный,
Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда
Расстался я с Цирцеей[355], год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты,[356] где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший, –
Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны.
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.
Я видел оба берега, Моррокко,[357]
Испанию, край сардов,[358] рубежи
Всех островов, раскиданных широко.
Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,
Чтобы пловец не преступал запрета;[359]
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта[360].
«О братья, – так сказал я, – на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный![361]
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
Кормой к рассвету, свой шальной полет
На крыльях весел судно устремило,
Все время влево уклоняя ход.[362]
Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила.[363]
Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заемный,[364]
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,
Когда гора[365], далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,[366]
И море, хлынув, поглотило нас».
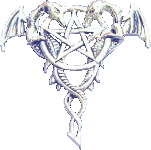
 2015-06-16
2015-06-16 243
243








