Круг восьмой – Восьмой ров (окончание)
Уже горел прямым и ровным светом
Умолкший пламень, уходя во тьму,
Отпущенный приветливым поэтом, –
Когда другой, возникший вслед ему,[367]
Невнятным гулом, рвущимся из жала,
Привлек наш взор к верховью своему.
Как сицилийский бык, взревев сначала
От возгласов того, – и поделом, –
Чье мастерство его образовало,
Ревел от голоса казнимых в нем
И, хоть он был всего лишь медь литая,
Страдающим казался существом,[368]
Так, в пламени пути не обретая,
В его наречье, в нераздельный рык,
Слова преображались, вылетая.
Когда же звук их наконец проник
Сквозь острие, придав ему дрожанье,
Которое им сообщал язык,
К нам донеслось: «К тебе мое воззванье,
О ты, что, по-ломбардски говоря,[369]
Сказал: «Иди, я утолил желанье!»
Мольбу, быть может, позднюю творя,
Молю, помедли здесь, где мы страдаем:
Смотри, я медлю пред тобой, горя!
Когда, простясь с латинским милым краем,
Ты только что достиг слепого дна,
Где я за грех содеянный терзаем,
Скажи: в Романье[370] – мир или война?
От стен Урбино[371] и до горной сени,
Вскормившей Тибр, лежит моя страна».
Я вслушивался, полон размышлений,
Когда вожатый, тронув локоть мне,
Промолвил так: «Ответь латинской тени».
Уже ответ мой был готов вполне,
И я сказал, мгновенно речь построя:
«О дух, сокрытый в этой глубине,
Твоя Романья[372] даже в дни покоя
Без войн в сердцах тиранов не жила;
Но явного сейчас не видно боя.
Равенна – все такая, как была:
Орел Поленты в ней обосновался,
До самой Червьи распластав крыла.[373]
Оплот, который долго защищался
И где французов алый холм полег,[374]
В зеленых лапах ныне оказался.[375]
Барбос Верруккьо[376] и его щенок,
С Монтаньей[377] обошедшиеся скверно,
Сверлят зубами тот же все кусок.
В твердынях над Ламоне и Сантерпо
Владычит львенок белого герба,
Друзей меняя дважды в год примерно;[378]
А та, где льется Савьо, той судьба
Между горой и долом находиться,
Живя меж волей и ярмом раба.[379]
Но кто же ты, прошу тебя открыться;
Ведь я тебе охотно отвечал, –
Пусть в мире память о тебе продлится!»
Сперва огонь немного помычал
По-своему, потом, качнув не сразу
Колючую вершину, прозвучал:
«Когда б я знал, что моему рассказу
Внимает тот, кто вновь увидит свет,
То мой огонь не дрогнул бы ни разу.
Но так как в мир от нас возврата нет
И я такого не слыхал примера,
Я, не страшась позора, дам ответ.
Я меч сменил на пояс кордильера[380]
И верил, что приемлю благодать;
И так моя исполнилась бы вера,
Когда бы в грех не ввел меня опять
Верховный пастырь[381] (злой ему судьбины!);
Как это было, – я хочу сказать.
Пока я нес, в минувшие годины,
Дар материнский мяса и костей,
Обычай мой был лисий, а не львиный.
Я знал все виды потайных путей
И ведал ухищренья всякой масти;
Край света слышал звук моих затей.
Когда я понял, что достиг той части
Моей стези, где мудрый человек,
Убрав свой парус, сматывает снасти,
Все, что меня пленяло, я отсек;
И, сокрушенно исповедь содеяв, –
О горе мне! – я спасся бы навек.
Первоначальник новых фарисеев,[382]
Воюя в тех местах, где Латеран,[383]
Не против сарацин иль иудеев,
Затем что в битву шел на христиан,
Не виноватых в том, что Акра взята,
Не торговавших в землях басурман,[384]
Свой величавый сан и все, что свято,
Презрел в себе, во мне – смиренный чин
И вервь[385], тела сушившую когда-то,
И, словно прокаженный Константин,
Сильвестра из Сираттских недр призвавший,[386]
Призвал меня, решив, что я один
Уйму надменный жар, его снедавший;
Я слушал и не знал, что возразить:
Как во хмелю казался вопрошавший.
«Не бойся, – продолжал он говорить, –
Ты согрешенью будешь непричастен,
Подав совет, как Пенестрино[387] срыть.
Рай запирать и отпирать я властен;
Я два ключа недаром получил,
К которым мой предместник[388] был бесстрастен».
Меня столь важный довод оттеснил
Туда, где я молчать не смел бы доле,
И я: «Отец, когда с меня ты смыл
Мой грех, творимый по твоей же воле, –
Да будет твой посул длиннее дел,
И возликуешь на святом престоле».
В мой смертный час Франциск[389] за мной слетел,
Но некий черный херувим[390] вступился,
Сказав: «Не тронь; я им давно владел.
Пора, чтоб он к моим рабам спустился;
С тех пор как он коварный дал урок,[391]
Ему я крепко в волосы вцепился;
Не каясь, он прощенным быть не мог,
А каяться, грешить желая все же,
Нельзя: в таком сужденье есть порок».
Как содрогнулся я, великий боже,
Когда меня он ухватил, спросив:
«А ты не думал, что я логик тоже?»
Он снес меня к Миносу; тот, обвив
Хвост восемь раз вокруг спины могучей,
Его от злобы даже укусив,
Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!»
И вот я гибну, где ты зрел меня,
И скорбно движусь в этой ризе жгучей!»
Свою докончив повесть, столб огня
Покинул нас, терзанием объятый,
Колючий рог свивая и клоня.
И дальше, гребнем, я и мой вожатый
Прошли туда, где нависает свод
Над рвом, в котором требуют расплаты
От тех, кто, разделяя, копит гнет.[392]
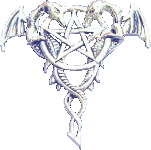
 2015-06-16
2015-06-16 218
218








