Круг третий (окончание) – Круг четвертый – Унылые
Читатель, если ты в горах, бывало,
Бродил в тумане, глядя, словно крот,
Которому плева глаза застлала,
Припомни миг, когда опять начнет
Редеть густой и влажный пар, – как хило
Шар солнца сквозь него сиянье льет;
И ты поймешь, каким вначале было,
Когда я вновь его увидел там,
К закату нисходившее светило.
Так, примеряясь к дружеским шагам
Учителя, я шел редевшей тучей
К уже умершим под горой лучам.
Воображенье, чей порыв могучий
Подчас таков, что, кто им увлечен,
Не слышит рядом сотни труб гремучей,
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
Тебя рождает некий свет небесный,
Сам или высшей волей источен.
Жестокость той, которая телесный
Сменила облик, певчей птицей став,
В моем уме вдавила след чудесный;[766]
И тут мой дух всего себя собрав
В самом себе, все прочее отринул,
С тем, что вовне, общение прервав.
Затем в мое воображенье хлынул
Распятый, гордый обликом, злодей,
Чью душу гнев и в смерти не покинул.
Там был с Эсфирью, верною своей
Великий Артаксеркс и благородный
Речами и делами Мардохей.[767]
Когда же этот образ, с явью сходный,
Распался наподобье пузыря,
Лишившегося оболочки водной, –
В слезах предстала дева, говоря:
«Зачем, царица, горестной кончины
Ты захотела, гневом возгоря?
Ты умерла, чтоб не терять Лавины, –
И потеряла! Я подъемлю гнет
Твоей, о мать, не чьей иной судьбины».[768]
Как греза сна, когда ее прервет
Волна в глаза ударившего света,
Трепещет миг, потом совсем умрет, –
Так было сметено виденье это
В лицо мое ударившим лучом,
Намного ярче, чем сиянье лета.
Пока, очнувшись, я глядел кругом,
Я услыхал слова: «Здесь восхожденье»,
И я уже не думал о другом,
И волю охватило то стремленье
Скорей взглянуть, кто это говорил,
Которому предел – лишь утоленье.
Но как на солнце посмотреть нет сил,
И лик его в чрезмерном блеске тает,
Так точно здесь мой взгляд бессилен был.
«То божий дух, и нас он наставляет
Без нашей просьбы и от наших глаз
Своим же светом сам себя скрывает.
Как мы себя, так он лелеет нас;
Мы, чуя просьбу и нужду другого,
Уже готовим, злобствуя, отказ.
Направим шаг на звук такого зова;
Идем наверх, пока не умер день;
Нельзя всходить средь сумрака ночного».
Так молвил вождь, и мы вступили в тень
Высокой лестницы, свернув налево;
И я, взойдя на первую ступень,
Лицом почуял как бы взмах обвева;
«Beati, – чей-то голос возгласил, –
Pacific![769], в ком нет дурного гнева!»
Уже к таким высотам уходил
Пред наступавшей ночью луч заката,
Что кое-где зажглись огни светил.
«О мощь моя, ты вся ушла куда-то!» –
Сказал я про себя, заметя вдруг,
Что сила ног томлением объята.
Мы были там, где, выйдя в новый круг,
Кончалась лестница, и здесь, у края,
Остановились, как доплывший струг.
Я начал вслушиваться, ожидая,
Не огласится ль звуком тишина;
Потом, лицо к поэту обращая:
«Скажи, какая, – я сказал, – вина
Здесь очищается, отец мой милый?
Твой скован шаг, но речь твоя вольна».
«Любви к добру, неполной и унылой,
Здесь придается мощность, – молвил тот. –
Здесь вялое весло бьет с новой силой.
Пусть разум твой к словам моим прильнет,
И будет мой урок немногословный
Тебе на отдыхе как добрый плод.
Мой сын, вся тварь, как и творец верховный, –
Так начал он, – ты это должен знать,
Полна любви, природной иль духовной.
Природная не может погрешать;[770]
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.
Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;
Но где она идет стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завет творца не соблюла.
Отсюда ясно, что любовь – начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.
А так как взор любви склонен всегда
К тому всех прежде, кем она носима,
То неприязнь к себе вещам чужда.
И так как сущее неотделимо
От Первой сущности,[771] она никак
Не может оказаться нелюбима.
Раз это верно, остается так:
Зло, как предмет любви, есть зло чужое,
И в вашем иле[772] вид ее трояк.
Иной надеется подняться вдвое,
Поправ соседа, – этот должен пасть,
И лишь тогда он будет жить в покое;
Иной боится славу, милость, власть
Утратить, если ближний вознесется;
И неприязнь томит его, как страсть;
Иной же от обиды так зажжется,
Что голоден, пока не отомстит,
И мыслями к чужой невзгоде рвется.
И этой вот любви троякий вид
Оплакан там внизу; но есть другая,
Чей путь к добру – иной, чем надлежит.
Все смутно жаждут блага, сознавая,
Что мир души лишь в нем осуществим,
И все к нему стремятся, уповая.
Но если вас влечет к общенью с ним
Лишь вялая любовь, то покаянных
Казнит вот этот круг, где мы стоим.
Еще есть благо, полное обманных,
Пустых отрад, в котором нет того,
В чем плод и корень благ, для счастья данных.
Любовь, чресчур алкавшая его,
В трех верхних кругах предается плачу;
Но в чем ее тройное естество,
Я умолчу, чтоб ты решил задачу».[773]
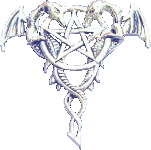
 2015-06-16
2015-06-16 251
251








