Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками... и летят в под-
.4 1
228 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы. С. 199-200.
229 Мандельштам О. Египетская марка. Л., 1928. С. 40. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
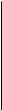
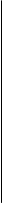

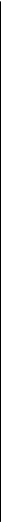

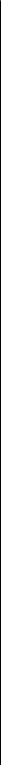

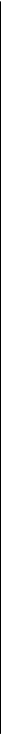
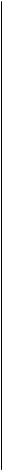 ставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста» (С. 65-66).
ставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста» (С. 65-66).
Эстетическая программа фрагментарной, разорванной поэтики, подчиненной прихоти индивидуального сознания, наносящего импрессионистические мазки на романное полотно, воспринимается как достаточно необычная своей обнаженностью в «Египетской марке». Это заставляет автора прямо декларировать свой прием, обнажать творческую лабораторию, подчеркивая, что за этим скрывается не только видение мира, характерное для взгляда импрессиониста, но и особые отношения между искусством и действительностью, миром художественным и реальным: их принципиальная не-разделенность, свободное перетекание одного в другое.
«Я не боюсь бессвязностей и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей» (С. 41).
После такого обнажения приема, почти лирического объяснения в любви к «бессвязностям и разрывам», совершенно логично — по логике импрессионистического романа — следует рассказ о том, как в доме боялись копоти керосиновых ламп, и в этом штрихе проявляется жизнь петербургской квартиры, ее особый запах, колорит, то, что сам поэт называл «хаосом иудейства».
Тот тип сознания, который является предметом изображения в романе, принципиально изменяет общепринятый масштаб событий, явлений, вещей. Хвойная веточка, вросшая в глыбу донного льда, разрезанного на кубы, замеченная мельком на подводе петербургского извозчика, чад керосиновых ламп, пропавшая жилетка, сцена самосуда толпы — все эти явления как бы уравнены в сознании повествователя, образуют для него общую картину бытия, и утрата одного из них была бы воспринята как утрата целостности. Такая субъективность обосновывается как эстетический принцип организации романного текста по принципам поэтическим и утверждается как единственно возможный способ наиболее достоверного выражения действительности:
«Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту.
Рыбий жир — смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга.
Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир» (С. 56).
Здесь и стремление выразить правду субъективного восприятия (такая-то правда как раз абсолютна), и обязательное для импрессиониста внимание к оттенкам красок, и аллитерация, столь характерная для Мандельштама-акмеиста.
Еще М. Пруст, основоположник импрессионистического романа, сделал законы субъективной памяти организующей основой романа, цементирующей его композиционную структуру, обеспечивающей композиционное единство импрессионистического произведения. Это привело к трансформации художественного времени в романе: повествователь как бы скользит по времени, свободно перемещается в художественном пространстве между прошлым и будущим; действительным, настоящим временем романа становится «утраченное время», время прошлого, пережитого. Конечно, в «Египетской марке» удельный вес «утраченного времени» несравнимо меньше, чем в прустовском романе, но его присутствие является, вероятно, характерным признаком импрессионистической эстетики. Мандельштам вводит прошедшее время в свой роман и переживает его почти в прустовской манере, любовно вглядываясь в оттенки цвета, осязая предметы, вдыхая запахи:
«Чтобы успокоиться, он обратился к одному неписанному словарику, вернее — реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:
— «Подкова» — так называлась булочка с маком.
— «Фрамуга» — так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля.
— «Не коверкай» — так говорили о жизни.
— «Не командуй» — так гласила одна из заповедей.
Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев» (С. 63).
Но помимо чисто прустовского внимания к «щепотке на заварку», когда высохший листочек чая, распрямляясь в горячей воде, может вызвать целую цепь ассоциаций, развернуть целый сюжет в сознании героя, прошедшее время в романе Мандельштама — это еще и время историческое. Этот аспект «утраченного времени» связан, в первую очередь, с темой Петербурга.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
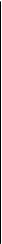

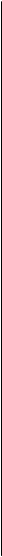

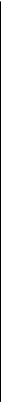

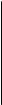
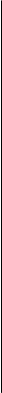
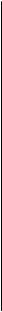

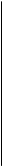 Образ Петербурга становится одним из лейтмотивов повествования, что вообще характерно для орнаментальной прозы: лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Этот образ создается по сугубо импрессионистическим принципам: воспринимающее сознание повествователя как бы аккумулирует грани предшествующей литературной традиции в трактовке Петербурга и накладывает его на современность, на живой образ города, при этом образ субъективен и подчинен только взгляду героя. Кроме того, именно взгляд художника-импрессиониста, для которого, кроме того, культурный и литературный, книжный мир не менее, а то и более реален, чем камни, мостовые, набережные, здания Петербурга, находит такой ракурс, при котором действительный и вымышленный города как бы сливаются, подчиненные воспринимающему сознанию — сознанию, способному соединить два образа — реальный и культурный, историко-литературный. На улицах Петербурга в «Египетской марке» появится и пушкинская пиковая дама, образ которой снижен «ботиками Петра Великого» и бессвязным бормотанием, и повествователь, совсем как пушкинский Евгений в «Медном всаднике», бросит в лицо не то царю, не то его творению:
Образ Петербурга становится одним из лейтмотивов повествования, что вообще характерно для орнаментальной прозы: лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Этот образ создается по сугубо импрессионистическим принципам: воспринимающее сознание повествователя как бы аккумулирует грани предшествующей литературной традиции в трактовке Петербурга и накладывает его на современность, на живой образ города, при этом образ субъективен и подчинен только взгляду героя. Кроме того, именно взгляд художника-импрессиониста, для которого, кроме того, культурный и литературный, книжный мир не менее, а то и более реален, чем камни, мостовые, набережные, здания Петербурга, находит такой ракурс, при котором действительный и вымышленный города как бы сливаются, подчиненные воспринимающему сознанию — сознанию, способному соединить два образа — реальный и культурный, историко-литературный. На улицах Петербурга в «Египетской марке» появится и пушкинская пиковая дама, образ которой снижен «ботиками Петра Великого» и бессвязным бормотанием, и повествователь, совсем как пушкинский Евгений в «Медном всаднике», бросит в лицо не то царю, не то его творению:
«Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына! За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку «драже» в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянского собрания ответишь ты, Петербург!» (С. 49).
Петербург — это и улицы, набережные, по которым ведут на самосуд случайного прохожего, и прочитанная в чертах реального пейзажа литературная традиция, и даже судьбы разночинцев-шестидесятников, от которых герой Мандельштама (да и сам автор) ведут свою родословную.
«Вот только одна беда — родословной у него нет, — размышляют вместе Парнок и повествователь. — И взять ее неоткуда — нет и все тут! Всех-то родственников у него одна тетя — тетя Иоганна.
Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной, позвольте, как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым «мог Господь прибавить ума и денег». Все это люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос. — Как же это? Без гроша, с высшим образованием?
Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачим, гагаринским пухом, под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под хрустальными замками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.
Но перо, снимающее эту пленку — как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться» (С. 61-62).
В сознании героя, в его восприятии Петербурга воплощается психология разночинца, человека 1840-1850-х годов, его неприятие и подспудный страх перед аристократией, «гагаринским пухом», «Тучковыми тучками», зеркалами барских квартир; он ощущает свое родство не только с Голядкиным, но и Евгением, которому «мог Господь прибавить ума и денег» — отсюда и вызов Петербургу, и такие крохотные детали, как драже в бумажном мешочке у курсистки на хорах, и бессвязный говор «каменной дамы». Все эти разномасштабные детали в импрессионистической прозе обретают один масштаб, уравниваются в сознании, становятся принципиально равноправными, скрепленные прихотливыми законами воспринимающего сознания.
Мандельштам предельно точно описывает принципы импрессионистической эстетики, исходя из которых строит свой роман. «На побегушках у моего сознания два-три словечка «и вот», «уже», «вдруг»; они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящие сковороды.
Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанию французского мужичка из Анны Карениной, железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столбе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности» (С. 67-68).
Так не заботится о красоте и округленности автор «Египетской марки», работая «бредовыми частичками», соединяя двумя-тремя словами, что на побегушках его сознания, разные эпизоды действительности, связывая «скобяными предлогами» цветовые мазки Петербурга, соединяя «инструментами сцепщика» несопоставимые, казалось бы, эпизоды. Это единственная возможность сохранить композиционную целостность романа: ведь четкого контура, противостоящего цветовым мазкам, художник-импрессионист не знает.
Модернизм
Экспрессионистические тенденции
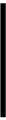
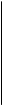


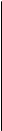
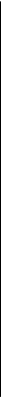

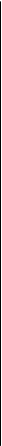



 Экспрессионистические тенденции
Экспрессионистические тенденции
Внутри модернизма в прозе 20-х годов рядом с импрессионизмом, активно взаимодействуя с ним, развиваются литературные тенденции, достаточно разнообразные по своим творческим и идеологическим устремлениям, определенная схожесть между которыми, тем не менее, позволяет условно объединить их под именем экспрессионистических.
О значении экспрессионистических тенденций в этот период свидетельствует их наличие в творчестве М. Горького («Рассказ об одном романе», «Карамора»), молодого В. Каверина («Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», рассказы первой половины 20-х годов), Ю. Тынянова («Восковая персона», «Подпоручик Киже»), А. Грина («Канат», «Крысолов», «Серый автомобиль», другие рассказы). Повести М. Булгакова «Дьяволиада», «Собачье сердце», «Роковые яйца» тоже представляют один из вариантов экспрессионистической эстетики, характеризующей литературную эпоху. Роман Ю. Олеши «Зависть» и его роль в литературном процессе тех лет показывают, сколь перспективна была подобная эстетическая система для решения важных, а подчас и трагических коллизий эпохи.
Что связывает этих художников, что позволяет поставить их произведения в один общий ряд? Прежде всего, наиболее общие принципы отображения действительности, приведшие к экспрессионистической эстетике или обусловившие появление ее черт в творчестве этих и многих других писателей.
Необходимо подчеркнуть, что экспрессионистическая эстетика или важнейшие ее элементы не были открытием художественной культуры XX в., подобно тому как элементы импрессионизма Вельфлин обнаружил в живописи Рембрандта и осмыслил как закономерное явление в развитии мирового искусства. Экспрессионизм тоже должен быть понят в более широком контексте, нежели оформившиеся теоретически течения в модернистском искусстве начала века. Наиболее близкой нам в хронологическом и духовном плане литературной традицией, несущей в себе элементы экспрессионистической эстетики, является творчество Н. Гоголя, автора «Носа» и «Портрета», В. Одоевского, А. Вельтмана, М. Салтыкова-Щедрина («Сказки», «История одного города»). Эту связь с классической традицией осознавали и писатели, о которых мы ведем речь: «Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"», — писал уже позднее, в
середине 60-х годов, В. Каверин. Теперь, в середине XX в., следовало бы добавить: «И из гоголевского "Носа"»230. Исследователь литературы 20-х годов Е. Б. Скороспелова обозначает данную тенденцию как «трагический гротеск» или «гофманиану». «Думается, — пишет она, — что об этой традиции можно говорить не только в связи с творчеством М. Булгакова, но и по отношению к ранним произведениям самого В. Каверина, первым опытам Л. Лунца, некоторым рассказам А. Грина и В. Катаева. Использование гротеска характерно и для раннего И. Эренбурга, хотя, если искать его предшественников, это, скорее, А. Франс.
Эти писатели никогда не объединялись организационно на какой-либо общей идейно-эстетической платформе. Несхожей была дальнейшая творческая судьба художников, большинство из которых сыграло выдающуюся роль в развитии советской литературы. Но в ряде произведений, написанных ими в начале 20-х годов, выражено сходное понимание действительности, создан своеобразный и обладающий известной целостностью художественный мир»231.
При всем различии творческой индивидуальности художников и проблематике произведений их объединяют общие черты экспрессионистической эстетики, которые И. Иоффе определил следующим образом: повышенная, сгущенная выразительность обостренных фраз, ритмов и линий; темы ударных моментов с резко вычерченными контурами; деформация внешнего мира как деформация представлений эмоциями. Исследователь выделяет еще один значимый момент, отличающий экспрессионизм от прочих модернистских эстетических систем: «В политематической композиции целого произведения экспрессионисты ради индивидуализации каждой темы применяют различные стилистические планы; каждая тема получает такую резко самостоятельную фактуру, которая исключает импрессионистическое мерцание, но сохраняет каждую плоскость независимой»^-.
Гротескность, фантастичность, невероятные преувеличения в экспрессионистической прозе вовсе не являются самоценными. За ними стоит стремление в метафоричной, а потому выразитель-
230 Каверин В. Здравствуй, брат. Писать очень трудно... М., 1965. С. 83.
231 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе
первой половины 20-х годов. М., 1979. С. 103-104.
232 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства.
С.323.
Модернизм
Экспрессионистические тенденции


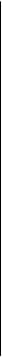
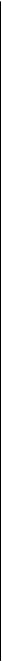
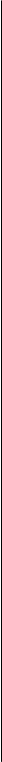

 ной, зримой, экспрессивной форме представить наиболее значимые, глубинные вопросы бытия: «Экспрессионистическая проза предпочитает проблемы общефилософские, проблемы человеческого сознания и интеллекта вообще, общие проблемы мировоззрения, морали, соотношения сознания и подсознания, культуры и варварства»233.
ной, зримой, экспрессивной форме представить наиболее значимые, глубинные вопросы бытия: «Экспрессионистическая проза предпочитает проблемы общефилософские, проблемы человеческого сознания и интеллекта вообще, общие проблемы мировоззрения, морали, соотношения сознания и подсознания, культуры и варварства»233.
Именно проблемы культуры и варварства ставит М. Булгаков, позволив профессору Преображенскому и доктору Борменталю превратить пса Шарика в Шарикова. Фантастический эксперимент нужен вовсе не сам по себе, но как наиболее зримое выражение тех социальных проблем пореволюционной действительности, которые волновали Булгакова. В повседневной обыденности он видел зловещие результаты деятельности антисистемы, когда буквально на глазах в течение нескольких лет превращались в ничто элементарные представления, составляющие даже самый поверхностный уровень повседневной бытовой культуры: он видел, как хамство, переходящее в бандитизм, возводится в доблесть и прикрывается демагогией о пролетарском социальном происхождении; как под напором этого хамства, поддерживаемого мандатами Швондеров, разрушается культура, быт, бытие. Фантастический сюжетный ход (превращение собаки в человека под скальпелем хирурга) давал возможность показать почти биологическую сущность осмысляемых писателем социальных процессов. Абсурдность происходящего выявляется Булгаковым с помощью фантастического гротеска и в «Роковых яйцах», и в «Дьяволиаде». Гротескный принцип типизации приходит в модернистской литературе на смену традиционным реалистическим средствам мотивации образа.
Принципы мотивации позволяют объединить столь различных художников, какими были, к примеру, В. Набоков, М. Булгаков, Е. Замятин, Ю. Олеша. Именно Олеша в своей знаменитой «Зависти» показывает самые разнообразные варианты модернистской детерминации характера.
Андрей Бабичев, о котором мы уже упоминали, мотивирован колбасой и Четвертаком: так снижается образ делового человека, инженера, «спеца», социальная роль которого характерна для нормативизма 20-х годов — вспомним образ Бадьина из «Цемента» Гладкова, отчасти пародируемый Олешей. Речь идет не о сознательной пародии, пародируется литературное клише, социальная
233 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства. С.324.
роль, ставшая социальной маской с заранее предопределенными перспективами развития.
Другой герой Олеши, Володя Макаров, приемный сын Андрея Бабичева, очарован автоматами, стремится превратиться в машинизированного человека, робота, ибо именно таким ему и Андрею Бабичеву видится человек будущего. Олеша использует форму письма, приоткрывая внутренний мир своего героя и обнажая сам механизм формирования явно ущербной личности. «Я — человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь — зверье! Породистые! Замечательно равнодушные, гордые машины... Я хочу быть машиной.. Чтобы быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа. Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась свирепее нас». В этой нарочитой, явно спародированной и сниженной детерминированности характера машины Олеша полемизирует с концепцияи А. Богданова, ЛЕФа, конструктивизма, футуризма, предельно упрощавшими человеческую личность. Гротескные образы Володи Макарова и Андрея Бабичева, в которых до апогея доведены требования отречения от своего «я», от сложного и многообразного мира личности, явились главными аргументами Олеши в полемике о концепции личности.
Для доказательства несостоятельности весьма распространенных тогда представлений о человеке — винтике, или, как говорили теоретики «левого фронта», «отчетливо функционирующем человеке», Олеша прибегает к гротескным образам: в каждом герое «Зависти» доводится до апогея какая-либо одна черта: Володя Макаров предстает функцией машины, Андрей Бабичев — функцией дела, Кавалеров воплощает в себе верх инфернальности, Иван Бабичев — пророк семейного счастья. Гротескные образы, характерные для экспрессионизма, оказываются подкреплены особыми принципами типизации, весьма далекими от реалистических. В художественном мире повести каждый из героев имеет лишь одно определяющее начало, которое и доводит до абсурда ту или иную черту характера. Для Ивана Бабичева в качестве такового выступает подушка, с которой он неразлучен, для его брата Андрея Бабичева — мечта о вкусной и дешевой колбасе (он любит колбасу так, как можно любить искусство, природу, женщину). Реальная картина мира искажается, характеры деформируются, нарушаются фабульные связи, мотивировки событий получают некий ирреальный смысл.
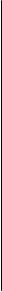
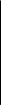
 Модернизм
Модернизм
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека

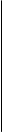
 Подобные принципы типизации проводят довольно четкую границу между импрессионистической и экспрессионистической эстетикой. Для импрессионизма характерен вообще отказ от объяснения фактов, фабульных связей чаще всего нет как таковых, художника интересует просто совокупность принципиально случайных, не связанных друг с другом эпизодов, в сложной вязи которых отражается прихотливый образ эпохи. Экспрессионистическая поэтика характеризуется строгой заданностью детерминант характеров и событий, логической основой сюжета, которые, правда, вовсе не носят правдоподобного, реалистического характера. Напротив, они фантастичны и ирреальны. Так, например, персонаж рассказа М. Горького «Рассказ об одном романе» порожден фантазией писателя, забывшего о нем, и поэтому он, погруженный в реальную жизнь, не имеет объема, существует лишь в плоскости, но не в пространстве, не имеет профиля. Жизнь и судьба подпоручика Киже, героя рассказа Ю. Тынянова (вроде бы «реальная», ибо на его похоронах за фобом шли жена и дети), определена опиской писаря и хитросплетением бумажных судеб бюрократической переписки, сложившихся весьма удачно для несуществующего героя. Но важнее всего то, что бумажная жизнь намного реальнее жизни живой: она повергает ниц человека во плоти и возносит бумажного подпоручика Киже, которого никогда никто не видел, но который живет вполне реальной жизнью, ибо не могут же официальные бумаги лгать: и живая жизнь подлаживается под циркуляр.
Подобные принципы типизации проводят довольно четкую границу между импрессионистической и экспрессионистической эстетикой. Для импрессионизма характерен вообще отказ от объяснения фактов, фабульных связей чаще всего нет как таковых, художника интересует просто совокупность принципиально случайных, не связанных друг с другом эпизодов, в сложной вязи которых отражается прихотливый образ эпохи. Экспрессионистическая поэтика характеризуется строгой заданностью детерминант характеров и событий, логической основой сюжета, которые, правда, вовсе не носят правдоподобного, реалистического характера. Напротив, они фантастичны и ирреальны. Так, например, персонаж рассказа М. Горького «Рассказ об одном романе» порожден фантазией писателя, забывшего о нем, и поэтому он, погруженный в реальную жизнь, не имеет объема, существует лишь в плоскости, но не в пространстве, не имеет профиля. Жизнь и судьба подпоручика Киже, героя рассказа Ю. Тынянова (вроде бы «реальная», ибо на его похоронах за фобом шли жена и дети), определена опиской писаря и хитросплетением бумажных судеб бюрократической переписки, сложившихся весьма удачно для несуществующего героя. Но важнее всего то, что бумажная жизнь намного реальнее жизни живой: она повергает ниц человека во плоти и возносит бумажного подпоручика Киже, которого никогда никто не видел, но который живет вполне реальной жизнью, ибо не могут же официальные бумаги лгать: и живая жизнь подлаживается под циркуляр.
Ирреальность, фантастичность героя (Шариков, подпоручик Киже, персонаж «Рассказа об одном романе») и сюжетных ходов, гротескность образов, обусловленная единственной детерминан-той характера, подчиняющей себе персонаж, являются важнейшим проявлением экспрессионистической поэтики. Следует подчеркнуть, чо экспрессионизм в прозе 20-х годов обнаружил большую «валентность» по тношению к альтернативным эстетическим системам, чем импрессионизм. Экспрессионистическое исследование действительности оказалось очень продуктивным, открывало перед художником возможность наиболее яркого, зримого постижения тех проблем, прежде всего социальных, которые были поставлены новой реальностю с ее подчас действительно невероятными смещениями общественных планов, социальных смылов, алогичными связями и сцеплениями событий. В экспрессионистическом контексте, подсказанном самой жизнью, естественным кажется и оживление литературного персонажа, недодуманного, недоделанного автором, и появление на улицах Москвы говоря-
щего черного кота, пытающегося заплатить кондуктору в трамвае, и наличие у бурого медведя-кузнеца из «Котлована» А. Платонова обостренного классового чутья. Характерным является то обстоятельство, что элементы экспрессионизма проникают в другие эстетические системы, обогащая их и активно взаимодействуя с ними. Явным примером такого взаимодействия является «Жизнь Клима Самгина» Горького, своего рода канон реалистической эстетики 20—30-х годов. Но элементы экспрессионистической поэтики, внедряясь в произведение, вовсе не разрушают его изнутри, но делают более зримой авторскую концепцию. Навязчивый мотив двойни-чества, характеризующий разорванность сознания Самгина и реализованный в самой фантастической картине его страшного сна из третьей части, когда два солнца освещают его путь и герой осознает, что не имеет тени, является важным средством выражения авторской позиции. Явно противореча реалистической поэтике жизнеподобия, характерной для нового реализма, элементы экспрессионизма, тем не менее, оказываются «валентны» ей и органично сочетаются с конструктивными элементами сугубо реалистической поэтики.
Экспрессионизм, взаимодействуя с альтернативными эстетическими системами, не растворялся в них, но развивался на протяжении 20—30-х годов вполне самостоятельно. Роман Е. Замятина представляет один из вариантов, притом наиболее плодотворных, этого развития.
«Мы» Е. Замятина:
полемика с химерической концепцией
мира и человека
Экспрессионистическая эстетика в литературе 20-х годов существует в резкой оппозиции к нормативной эстетике соцреализма. Как принципиально противоположные предстают реалистическая и экспрессионистическая концепции мира и человека. Химерическая, в сущности разрушительная и безнравственная в своей основе концепция, особенно характерная для литературы 20—30-х годов, вызвала и мощную ответную реакцию. В поисках антитезы утопическому роману соцреализма и в целом утопической идее литература обратилась к жанру романа-антиутопии.
1В - 4063
Модернизм
Мировая литература XX в. богата антиутопиями, произведениями, как бы предостерегающими человечество от бездумного вторжения в уязвимую плоть реальности, от безответственных и преступных в своей основе попыток насильственного преобразования бытия. Достаточно назвать здесь роман Дж. Оруэлла «1984», описывающий трагизм положения человека, живущего в тоталитарном обществе, показывающий, что было бы с Англией и англичанами, если бы там восторжествовал социализм. Но еще в большей степени антиутопия характерна для русской литературы XX в.: мы имели значительно больше материала для умозаключений на сей счет, чем многие другие. Даже В. Набоков в интервью А. Аппелю признался, что и он этому жанру отдал дань — при всем отсутствии интереса к социальной проблематике, при всем его нежелании делать литературу ареной политической борьбы.
— Есть ли у Вас, — спрашивает автор интервью у Набокова, — какое-либо мнение о русской, если к ней приложимо такое определение, антиутопической традиции, начиная с «Последнего самоубийства» и «Города без имени» в «Русских ночах Одоевского и до брюсовской «Республики Южного Креста» и «Мы» Замятина, — ограничусь лишь несколькими примерами?
— Мне эти вещи неинтересны.
— Справедливо ли сказать, что «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» — это своего рода пародийные антиутопии с переставленными идеологическими акцентами — тоталитарное государство здесь становится предельной и фантастической метафорой несвободы сознания — и что тема обоих романов — именно такая несвобода, а не политическая?
 2013-12-28
2013-12-28 711
711








