Иначе сложилась судьба социалистического реализма. За два десятилетия (середина 1930-х — середина 1950-х) сформировался соцреалистический канон, «Культура Два», монументальный стиль, реализовавшийся не только в литературе, но и в кинематографе, музыке, архитектуре. Рассмотрение его с идеологической точки зрения явно недостаточно, ибо идеология, вызвавшая его к жизни, уже принадлежит истории и возрождение ее в прошлом варианте, как кажется, вряд ли возможно. Его омертвение началось в середине 50-х годов, а завершилось в 80-е. Поэтому сейчас актуально обращение к нему с точки зрения эстетической, чем и занимаются исследователи соцреалистического канона — в основном зарубежные или же наши, работающие в западных университетах. Думается, что это величественное, мрачное и в то же время оптимистическое, изощренное и одновременно наивное явление ждет своего отечественного исследователя.
Своей неимоверной тяжестью оно придавило все остальное. Лишь во второй половине прошлого века художественное и фило-238
софское сознание стало воскресать после анабиоза, вспоминая, что было раньше: демократическую идею («Новый мир» 1960-х годов), русскую национальную идею («Наш современник» 1970— 1980-х годов). Оба направления при своей трагической для литературы этого периода оппозиционности были устремлены, в итоге, к общей цели: они воссоздавали в новых, постсталинских условиях забытые и утраченные стороны русской культуры и русского сознания. Оба направления, представляемые этими журналами, стояли на реалистических позициях. С их деятельностью связано появление и эстетико-философское осмысление таких явлений русской литературы второй половины XX столетия, как деревенская проза, а также военная, городская, лагерная проза. Разногласия, политико-идеологические, эстетические, личные, существовавшие между интеллигенцией, приверженной тому или иному направлению, сейчас, из исторической перспективы, кажутся малозначительными. Виднее сходство: огромна их роль в возрождении русской литературы и русского сознания, пусть и разных его сторон, которые тогда писателями и журналистами мыслились как взаимоисключающие.
Становление послесталинской литературы вполне естественно шло по реалистическому пути: А. Солженицын, Ю. Трифонов, В. Распутин, В. Астафьев, Ю. Бондарев, С. Залыгин... Однако реалистическая литература, сконцентрированная на социально значимом, не могла уловить те стороны жизни человека, которые были обусловлены не социальными, а какими-то иными сторонами бытия, часто подсознательными, неосознаваемыми или непознанными, иррациональными, мистически предопределенными, которые нуждались в своем воплощении с точки зрения опыта второй половины XX столетия. Ведь этот опыт показал и ограниченность научного знания, его неокончательность и, возможно, неподлинность; он показал, что мистическое и иррациональное пронизывают нашу жизнь и наука бессильна утвердить или опровергнуть сам факт их существования. На смену реалистическому взгляду, обращенному к рационально постижимым процессам, в последней трети XX в. пришел взгляд иной, часто утверждающий отказ от рациональной постижимое™ человеческого бытия. Это был шаг русской литературы конца XX в. в сторону модернистской эстетики. Началом такого освоения мира стали 80-е годы, проза сорокалетних, творчество В. Маканина, утверждающего иррациональные основы бытия («Где сходилось небо с холмами») и неомифологический роман А. Кима («Белка», «Отец лес»).
Завершил же столетие постмодернизм, разрушивший все эсте-тико-идеологические каноны, созданные последними двумя сто-
Преодоление раскола
Некоторые итоги
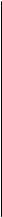
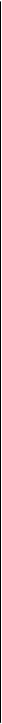

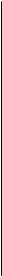
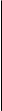
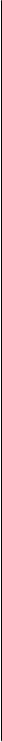
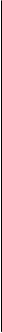 летиями (В. Сорокин), и осмысляющий современность сквозь призму сознания человека, дезориентированного в обломках прошлых эпох, среди которых и протекает жизнь современного человека (В. Пелевин). Реалистическая эстетика оказалась вытесненной.
летиями (В. Сорокин), и осмысляющий современность сквозь призму сознания человека, дезориентированного в обломках прошлых эпох, среди которых и протекает жизнь современного человека (В. Пелевин). Реалистическая эстетика оказалась вытесненной.
И это, думается, тоже неслучайно. На протяжении последней четверти века, а в последние десять лет — все более и более явно разрушались традиционные для русской литературы последних двух столетий отношения в системе «читатель — писатель». Современная русская культура на наших глазах резко меняет свои очертания. Изменился статус литературы: русская культура перестала быть «литературоцентричной».
Перед ныне живущими поколениями русских людей, привыкших видеть в литературе одну из самых важных форм общественного сознания, подобная ситуация может предстать как драматическая. Новый писатель, пришедший в литературу в 1990-е годы, часто не только не может, но и не хочет предстать реалистом, следовательно, мыслителем, всерьез озабоченным ролью человека в историческом процессе, философом, размышляющим о смысле человеческого бытия, историком и социологом, ищущим истоки сегодняшнего положения дел и нравственную опору в национальном прошлом. Если все эти темы и остаются, то в заниженном, комическом, переосмеянном варианте, как, к примеру, у В.Пелевина, в его романах «Жизнь насекомых» или «Чапаев и пустота». Роль писателя как учителя жизни на глазах оказалась поставлена под сомнение. В самом деле, чем писатель отличается от других? Почему он должен учительствовать? Поэтому читателями, традиционно рассматривавшими литературу как учебник жизни, а писателя — как «инженера человеческих душ», нынешнее положение осмысляется как ситуация пустоты, своего рода культурного вакуума.
Масштабы подобного можно себе представить особенно наглядно, если вспомнить, что два последних столетия, начиная с пушкинской эпохи, русская культура была именно литературо-центрична: словесность, а не религия, философия или наука, формировала национальный тип сознания, манеру мыслить и чувствовать.
В результате литература сакрализировалась, стала священным национальным достоянием. Формулы «Пушкин — наше все» или «Пушкин у нас — начало всех начал» определяли место литературы в национальной культуре и место писателя в обществе.
Но естественна ли была сакрализация литературы? Ее культ в сознании русской интеллигенции? Возможно, нет — ведь хотим
мы того или не хотим, русская литература XIX и XX вв. приняла на себя функции, вовсе не свойственные словесности. Она стала формой социально-политической мысли, что было, наверное, неизбежно в ситуации несвободного слова, стесненного цензурой — царской или советской. Вспомним мысль Герцена: народ, лишенный трибуны свободного слова, использует литературу в качестве такой триуны. Она стала формой выражения всех без исключения сфер общественного сознания — философии, политики, экономики, социологии. Писатель оказался важнейшей фигурой, формирующей общественное сознание и национальную ментальность. Он принял на себя право бичевать недостатки и просвещать сердца соотечественников, указывать путь к истине, быть «зрячим посохом» народа. Это означало, что литература стала особой формой религии, а писатель — проповедником. Литература подменила собой Церковь...
Подобная ситуация, сложившаяся в XIX в., стала особенно трагичной в XX столетии, в условиях гонения на Церковь. Литература оказалась храмом со своими святыми и еретиками, тексты классиков стали священными, а слово писателя могло восприниматься как слово проповедника. Литература как бы стремилась заполнить нравственный и религиозный вакуум, который ощущало общество и его культура. Но беда в том, что слово художника — не слово пастыря. Ничто не может заменить обществу Церковь, а человеку — слово священника. Литература, взяв на свои плечи непосильную ношу, «надорвалась» к концу века. Фигура писателя — учителя жизни оказалась вытеснена еретиком — постмодернистом. Отсюда и трагическое для общества ощущение утраты последней веры и культурного вакуума, который раньше заполняла литература — в ней находили ответы на «проклятые вопросы», она формировала общественное сознание, давала ориентиры движения в историческом потоке, определяла перспективы и указывала на тупики, являла образцы подвижничества или нравственного падения. Именно в литературе XIX столетия сформировались национально значимые образы, своего рода архетипы национальной жизни, такие, как «Обломов и обломовщина», «тургеневские девушки», «лишние люди» Онегин и Печорин. В XX в. ситуация почти не изменилась. Достаточно вспомнить широкие образы-символы, пришедшие из литературы в нашу жизнь в 80—90-е годы: «Манкурт» Ч. Айтматова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Пожар» В. Распутина, «Покушение на миражи» и «Расплата» В. Тендрякова — и «Раковый корпус», «Красное колесо», «Шарашка»,
16-4063
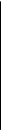 Преодоление раскола
Преодоление раскола
Творчество Л. И. Солженицына как итог столетия

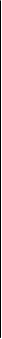
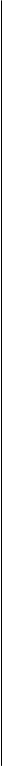
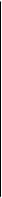

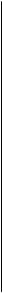

 «Архипелаг» А. Солженицына. Они сложились в своего рода «код» эпохи и стали категориями общественного сознания первой половины 90-х годов. И вдруг, внезапно, молниеносно, меньше чем за десятилетие, литература перестала быть религией, слово писателя — словом духовного пастыря.
«Архипелаг» А. Солженицына. Они сложились в своего рода «код» эпохи и стали категориями общественного сознания первой половины 90-х годов. И вдруг, внезапно, молниеносно, меньше чем за десятилетие, литература перестала быть религией, слово писателя — словом духовного пастыря.
Надолго ли? Думается, что нет. Исторический и культурный опыт XX столетия нуждается именно в реалистическом осмыслении — но с новых позиций. Такие позиции предложены тем типом реализма, который нашел свое воплощение в творчестве А. И. Солженицына.
Творчество А. И. Солженицына как итог столетия
В современной литературе Солженицын — единственная крупная фигура, чье воздействие на литературный процесс будущего века только лишь начинается. Он еще не понят и не осмыслен нами, его опыт не продолжен в современном литературном процессе. То, что это воздействие будет огромным, представляется совершенно несомненным. Во-первых, его творчество отразило важейшие исторические события русской жизни XX в., ив нем содержится глубокое их объяснение с самых разных точек зрения — социально-исторической, политической, социокультурной, национально-психологической. Возможно, что русские люди наступившего века будут изучать национальную историю по его произведениям. Во-вторых (и это самое главное), судьбу России ушедшего столетия Солженицын воспринимает как проявление Божественного промысла, и взгляд на русскую судьбу с мистической точки зрения тоже близок ему. Онтологическая символика в его рассказах, в эпопее «Красное колесо» трактуется как проявление Высшей воли. При этом писатель скрупулезно документален, и сама действительность, воспроизведенная с точностью до мельчайших деталей, обретает глубоко символический смысл, трактуется метафизически240. Это важнейший смысловой аспект его произведе-
240 Некоторые аспекты онтологической проблематики рассказов Солженицына и эпоса «Красное колесо» проанализированы в работе П. Е. Спиваковского «Феномен А. И. Солженицына: новый взгляд» (М., 1999).
ний, что открывает для него путь к синтезу реалистического и модернистского взгляда на мир.
Солженицын начал свой литературный путь в эпоху хрущевской «оттепели». Это был, как сейчас можно предположить, последний этап в развитии русской культуры, когда голос писателя, если воспользоваться лермонтовской строкой, «звучал как колокол на башне вечевой/во дни торжеств и бед народных». Толпы людей собирались у памятника В. Маяковскому слушать молодых поэтов — А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, что трудно представить себе теперь, а имена Вихрова и Грацианского, героев романа «Русский лес» Л. Леонова, были нарицательными. Воздействие писателя на общественное сознание оказалось почти столь же огромно, как во времена некрасовского «Современника». Такая ситуация характеризуется совершенно особыми отношениями в системе «читатель — писатель»: между этими двумя важнейшими фигурами литературного процесса происходит интенсивный взаимообмен идей и настроений. Такие моменты, вероятно, являются наиболее плодотворными для литературы и для общества: обмен мыслительной и эмоциональной энергией, когда появление нового романа или цикла стихов рождает моментальный ответ в виде читательского письма или журнальной рецензии, выводит литературу за рамки явления сугубо эстетического и превращает ее в сферу общественно-политической мысли. На рубеже 50-60-х годов решение собственно художественных задач было подчинено целям иным. Разрушение соцреалистического канона началось с того, что перед обществом и литературой встала проблема самоориентации в потоке исторического времени и художник оказался самой важной фигурой, приступившей к ее решению. Литература перестала быть средством эстетизации действительности и вновь обретала присущие ей функции познания мира.
А. Солженицын был тогда и остался по сей день писателем, стремящимся реализовать возможности прямого воздействия на общество писательским словом. Думается, что и литературное поприще было избрано им как общественная трибуна, с которой можно обратиться к современникам и потомкам. Литературный дар открывал возможность, оставаясь художником, говорить о проблемах политических, как бы балансируя между политикой и художественностью и совмещая их. «Конечно, политическая страсть мне врождена, — размышлял Солженицын уже значительно позже о первых днях своего пребывания на Западе после департации
16*
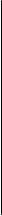
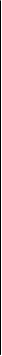 шшяш*
шшяш*
 Преодоление раскола
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
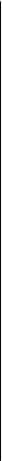

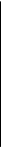
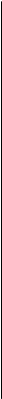
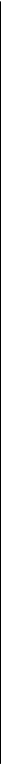 из СССР в 1974 г. — И все-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы»241. Тогда, в начале 60-х, он сумел реализовать возможности, данные короткой оттепелью писателю: заявил о себе, стал известен и заметен и не отступался от самого себя уже никогда. Мало того, сумел укрепить и сделать более значимой роль писателя-проповедника уже в брежневское время, когда и та незначительная свобода слова, что была дана хрущевской оттепелью, урезалась и урезалась с каждым годом.
из СССР в 1974 г. — И все-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы»241. Тогда, в начале 60-х, он сумел реализовать возможности, данные короткой оттепелью писателю: заявил о себе, стал известен и заметен и не отступался от самого себя уже никогда. Мало того, сумел укрепить и сделать более значимой роль писателя-проповедника уже в брежневское время, когда и та незначительная свобода слова, что была дана хрущевской оттепелью, урезалась и урезалась с каждым годом.
Отношения в системе «читатель — писатель», сложившиеся в литературе конца 50-60-х годов, давали Солженицыну возможность прямого обращения к самому широкому читателю и формирования общественного сознания. Это был тот момент, когда читательская аудитория видела (и не ошибалась!) в Солженицыне человека, способного отразить трагическую, запретную и неосмысленную ни в художественном, ни в социально-политическом аспекте правду национальной жизни — и не только лагерную. С самого начала писательского пути Солженицын смотрел шире, вынашивая в своем сознании не только «Архипелаг ГУЛАГ», но и замысел историософского романа о русской революции под условным названием «Р-17», воплотившегося десятилетия спустя в эпопее «Красное колесо». Однако его взгляд вовсе не исчерпывался лишь критикой «культа личности Сталина» или даже всей советской системы. Он смотрел еще шире и дальше: XX век интересовал его как переломный момент русской судьбы. Поэтому на первом месте в его творчестве была все же не проповедническая, а познавательная функция литературы.
Синкретизм как творческая доминанта определяет специфику художественности его произведений. Классический роман (нелюбимое жанровое определение писателя) или повесть не выдерживали чрезмерной смысловой нагрузки, поэтому после «В круге первом» и «Ракового корпуса» Солженицын создает новую крупную жанровую форму, с явным преобладанием документального материала — «Узлы» эпопеи «Красное Колесо». При этом включение в
повествовательную структуру авторской публицистики, прямое выражение авторской позиции по политическим и историософским проблемам, столь не характерное для реалистической русской прозы последних двух столетий, соседствует с традиционными для романиста формами психологического анализа, объектами которого выступают как реальные политические деятели, определявшие судьбы России, так и вполне заурядные граждане.
Русский характер в процессе деформаций
Предметом исследования А. Солженицына стал русский национальный характер в его разных личностно-индивидуальных проявлениях, охватывающих практически все слои русского общества в переломные моменты его бытия: политический Олимп, генералитет, дипломатический корпус, карательные аппараты, служащие разным режимам, советские заключенные, лагерные надсмотрщики, крестьяне антоновской армии, советский партаппарат разных десятилетий... Солженицын прослеживает изменения русской ментальности, показывает процесс мучительной ломки национального сознания. Можно сказать, что русский характер запечатлен им в процессе деформаций.
Эпос Солженицына дает материал для исследования конкретных форм этих деформаций и условий, приведших к ним. Принято считать, что это условия политические. Действительно, трудно найти писателя столь явно политизированного, сделавшего предметом художественного исследования документальное воспроизведение политических событий Августа Четырнадцатого или Апреля Семнадцатого. Но нам представляется, что энциклопедический по объему исторический материал нуждается не только в политическом осмыслении (оно, в частности, предложено самим Солженицыным, не желающим «переваливать работу исследования с автора на читателя»242), сколько в онтологическом и социокультурном. В конечном итоге, в реальных исторических лицах, ставших героями «Красного Колеса», таких как Ленин или Столыпин, и в характерах вымышленных, как Иван Денисович или дипломат Во-


 241 Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания (1974-1978)//Новый мир. 1998. № 9. С. 53-54.
241 Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания (1974-1978)//Новый мир. 1998. № 9. С. 53-54.
242 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: В 3 т. Вермонт; Париж, 1987. Т. 2. С. 607. Далее ссылки на «Архипелаг ГУЛАГ» с указанием тома и страницы даются по этому изданию.
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций
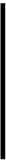
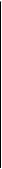
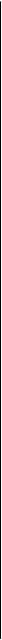

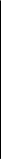

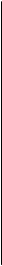
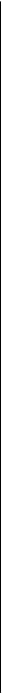 лодин («В круге первом»), Солженицын представляет грани национального характера, сформированного предшествующей историей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности, весь эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал по русской характерологии, требующий научного осмысления со стороны ученых, профессионально связанных с той областью знания, которая определяется как «русская идея».
лодин («В круге первом»), Солженицын представляет грани национального характера, сформированного предшествующей историей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности, весь эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал по русской характерологии, требующий научного осмысления со стороны ученых, профессионально связанных с той областью знания, которая определяется как «русская идея».
«Большевики перекипятили русскую кровь на огне», — приводит А. Солженицын слова Б. Лавренева, — и это ли не изменение, не полный пережог народного характера?!»243 Изменение, совершенное целенаправленно и вполне в прагматических целях: «А большевики-то быстро взяли русский характер в железо и направили работать на себя» («Россия в обвале». С. 170). Очевидно, что одной из самых чудовищных форм «перекипячения» русской крови стал архипелаг ГУЛАГ, выросший из страны и сделавший ее своей частью.
«Архипелаг ГУЛАГ» как опыт художественного исследования включает в себя и эту проблематику — показывает, как перекипала русская кровь. Писатель фиксирует оскудение народной нравственности, проявившееся в озлоблении и ожесточении людей, замкнутости и подозрительности, ставшей одной из доминант национального характера. И находит этому вполне естественные объяснения. Однако для читателя, индивидуальное становление которого пришлось уже на другую эпоху, существуют вещи, оказывающиеся выше разумения.
Одна из них — безусловное нравственное и интеллектуальное превосходство узников Архипелага над надсмотрщиками и тюремщиками. Его населяли лучшие — самые талантливые, самые думающие, не сумевшие или не успевшие усредниться или же в принципе неспособные к усреднению. В чем состояла необходимость селекции худшего и искоренения лучшего? Зачем власти нужна была отрицательная селекция национального характера: «легкое торжество низменных людей над благородными кипело черной вонючей мутью в столичной тесноте, — но и под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях <...> зловонило оно и там» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 596)? В чем истоки этого легкого торжества
243 Солженицын А. И. Россия в обвале. М., 1998. С. 171. Далее ссылки на это издание с указанием страницы даны в тексте.
низменных над благородными? Дает ли Солженицын ответ на этот вопрос?
Кроме того, вглядываясь в контуры Архипелага, очерченные Солженицыным, человек постсоветской эпохи не может не задуматься о бессмысленной изощренности его индустрии и не удивиться вместе с автором: зачем, скажем, нужна была столь многообразная система арестов с их избыточной выдумкой, сытой энергией, а жертва не сопротивлялась бы и без этого: «Ведь кажется достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 1. С. 22). Поражает и заставляет думать бессмысленная, казалось бы, изобретательность тюремщиков, создавших целую науку «тюрьмоведения»; безропотность арестантов 30-х годов. Не перестает удивлять и столь небольшой объем литературы о национальном сопротивлении режиму и почти полная неосмысленность современным литературно-критическим сознанием произведений о сопротивлении, таких как «Белые одежды» В. Дудинцева или «Последний бой майора Пугачева» В. Шаламова. Все факты бессмысленной растраты национальной энергии на создание индустрии ГУЛАГА (изощренность арестов, многообразие этапов, хитроумность «шмонов», садистская изобретательность пыточного следствия и все-все подобное, о чем свидетельствует автор «Архипелага»), существующей для еще более бессмысленной и нерачительной даже с экономической точки зрения растраты народных сил, свидетельствуют о некой национальной катастрофе, национальном поражении разума. Солженицын воспроизводит картину самоуничтожения нации, когда одна ее часть создала индустрию для уничтожения другой ее части, причем машина уничтожения оказалась сильнее ее создателей, захватывая в свои шестерни всех, и их самих в том числе.
Поиски ответа на эти вопросы заставляют обратиться к прошлому. Переживала ли Россия когда-либо нечто подобное? Думается, что да — вспомним Грозного, страшное помело опричнины, выметавшее целые деревни и города. Именно Иван Грозный воздвиг не только страшные застенки, где хозяйничал Малюта Скуратов, но и уничтожил Новгород, превратил палачество в атрибут государственной жизни, собрав вокруг себя целый класс таких же палачей — профессионалов и любителей. А Петр I, строящий на костях Петербург и превращающий в рабов литейных заводов рус-
Преодоление раскола
Русский характер в процессе деформаций


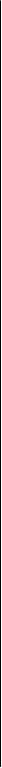
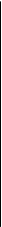
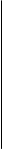

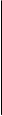
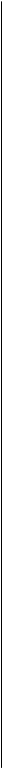 ских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность русской истории с мерцающими в ней эпизодами самоистребления нации — то в великой смуте XVII в. или в гражданской войне нашего столетия, то по прихоти тиранов — Ивана IV, Петра I, Ленина, Сталина. При этом периоды тирании находятся во внутренней связи между собой: их объединяет страшная жестокость, внешняя бессмысленность и мгновенное разделение нации на две группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых личностей из одной группы в другую). При этом периоды национального самоуничтожения сменяются периодами относительной стабилизации, когда народ как бы восстанавливает подорванные силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли опричнины? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха: «советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные потери, — они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство русского народа — может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, что — и навсегда» («Россия в обвале». С. 171).
ских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность русской истории с мерцающими в ней эпизодами самоистребления нации — то в великой смуте XVII в. или в гражданской войне нашего столетия, то по прихоти тиранов — Ивана IV, Петра I, Ленина, Сталина. При этом периоды тирании находятся во внутренней связи между собой: их объединяет страшная жестокость, внешняя бессмысленность и мгновенное разделение нации на две группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых личностей из одной группы в другую). При этом периоды национального самоуничтожения сменяются периодами относительной стабилизации, когда народ как бы восстанавливает подорванные силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли опричнины? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха: «советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные потери, — они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство русского народа — может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, что — и навсегда» («Россия в обвале». С. 171).
Кажется, что Солженицын, рассказывая об Архипелаге и о своем противостоянии Системе, просто воспроизводит один из ритмических тактов русской истории, показывая проявления общего в социальной конкретике нашего столетия. А общим этим оказывается, по словам Солженицына, «селективный противоот-бор, избирательное уничтожение всего яркого, отметного, что выше уровнем», «подъем и успех худших личностей» («Россия в обвале». С. 170—171). Иными словами, если вновь воспользоваться терминологией Л. Гумилева, предметом изображения у Солженицына становится проявление в русской истории «антисистемы — системной целостности людей с негативным мироощущением, выработавшей общее для своих членов мировоззрение», стремящейся к упрощению Бытия вплоть до его уничтожения, что создает «характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и неприкаянности». Формируется «система негативной экологии», стремящаяся к «аннигиляции культуры и природы».
Творчество Солженицына представляет собой антологию сложившейся в советское время антисистемы. «Архипелаг ГУЛАГ» являет опыт художественного исследования механизма этой антисистемы и ее эволюции.
Если принять подобную точку зрения, то она может объяснить сознание тех, кто властвовал Архипелагом, кто положил свою жизнь на то, чтобы быть надсмотрщиками над аборигенами
ГУЛАГа, выбравши добровольно «псовую службу» — лагерщиков. В результате целенаправленной селекции этого слоя и создавалось у них химерическое сознание, которое Гумилев мог анализировать в тех же условиях, что и Солженицын — в ГУЛАГе. «Пострадало от них# — пишет Солженицын, — миллионов людей куда больше, чем от фашистов, — да ведь не пленных, не покоренных, а — своих соотечественников, на родной земле. Кто нам это объяснит?» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 496).
Но вопрос в том, как был создан миллионный «кадр» палачей, портреты которых мы находим у Солженицына. В способности нации создать его и поставить на службу антисистеме, отлившейся в карательные формы тоталитарного государства, тоже, вероятно, проявляется некая историко-культурная закономерность, как бы свидетельствующая о готовности нации к самоистреблению.
Архипелаг, описанный Солженицыным, стал квинтэссенцией русского варианта господства массового человека, тотального унижения всего индивидуального и неравного массе. Описывая черты психологического склада людей, служащих ГУЛАГу, в их иерархии от полковника и ниже («может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? <...> вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь?» (Т. 2. С. 494), Солженицын воспроизводит характер массового человека, четко структурированный Ортегой. Его господство в лагере и в государстве обусловлено отрицательной селекцией (черта антисистемы): «у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умственный — у них сходство характеров разительное» (Т. 2. С. 497): спесь и самодовольство, тупость и необразованность, самовластие и самодурство, ощущение лагеря вотчиной, а заключенных — своими рабами, а себя — пролетарием. Формы государственного бытия и бытия ГУЛАГа (а это, как показывает Солженицын, явления вполне смежные) есть одно из проявлений химеры, возникшей в результате культурной аннигиляции.
 2013-12-28
2013-12-28 771
771








