_________
180 Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 87.
181 Андреев Л. Г. Импрессионизм. С. 136—137.
182 Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 88.
 Модернизм
Модернизм
Литературно-критические концепции модернизма
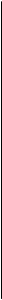
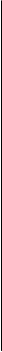 настолько верен своей идее, настолько поглощен ее воплощением, что сама мысль о времени отходит у него на второй план; идея настолько общезначима, что носит, скорее, вневременной, бытийный характер. Е. Замятин, полемизируя с идеологией антисистемы, воплощенной в нормативизме, относит действие своего романа на тысячелетие вперед. У А. Платонова в романе «Котлован» при всей очевидной современности действия и связи романа с конкретно-историческими реалиями времени — время художественное как бы выдвинуто в будущее или даже в вечность. Об этом свидетельствует и сам проект большого общепролетарского дома, куда на счастливое поселение войдут пролетарии города, и размышления инженера Прушевского о той башне, которую лет через двадцать придумает другой инженер и поставит в центре мира, куда на вечное счастливое поселение сойдутся пролетарии всей Земли. Чаще всего в эстетике экспрессионизма авторсая идея, ее утверждение или отрицание, не локализовано в конкретном историческом моменте или, тем более, импрессионистическом мгновении, но развернуто в бытийное, онтологическое время, характерное, скорее, для мифологического сознания.
настолько верен своей идее, настолько поглощен ее воплощением, что сама мысль о времени отходит у него на второй план; идея настолько общезначима, что носит, скорее, вневременной, бытийный характер. Е. Замятин, полемизируя с идеологией антисистемы, воплощенной в нормативизме, относит действие своего романа на тысячелетие вперед. У А. Платонова в романе «Котлован» при всей очевидной современности действия и связи романа с конкретно-историческими реалиями времени — время художественное как бы выдвинуто в будущее или даже в вечность. Об этом свидетельствует и сам проект большого общепролетарского дома, куда на счастливое поселение войдут пролетарии города, и размышления инженера Прушевского о той башне, которую лет через двадцать придумает другой инженер и поставит в центре мира, куда на вечное счастливое поселение сойдутся пролетарии всей Земли. Чаще всего в эстетике экспрессионизма авторсая идея, ее утверждение или отрицание, не локализовано в конкретном историческом моменте или, тем более, импрессионистическом мгновении, но развернуто в бытийное, онтологическое время, характерное, скорее, для мифологического сознания.
Экспрессионистическая эстетика предполагает и свою концепцию героя, и концепцию творческой личности. Художник-экспрессионист оказывается поэтом-демиургом, творящим не искусство, но реальность, пересоздающим ее. Это обусловлено тем, что, решая вопрос об отношении искусства к действительности, экспрессионисты видели свою задачу в прямом вторжении в действительность: связи между литературой и реальностью представлялись самыми прямыми. Венгерский искусствовед И. Маца, политэмигрант, живший в 20-е годы в России, так описывал концепцию творческой личности, предложенную данной эстетической системой: «Подлинный» художник (т.е. экспрессионист) должен знать, что существование жизни (или мира, космоса и пр.) возникает только посредством ощущения, и что таким образом человек имеет мистическую власть над миром. Поэтому подлинный художник не подчиняется вещи, не копирует явления, а проектирует их на самого себя. Он — не пассивный зритель мира, не размножает явлений, не воспроизводит их, а производит, творит. Вот философская основа экспрессионизма...»183
Эта философская основа, связанная с преобразованием реальности объективной в реальность художественную, когда последняя трактуется как более действительная, чем первая, предопределяет концепцию героя художественного произведения. «Персонажи почти лишены конкретной индивидуализации, — пишет Л. Копелев. — Преобладают не столько типизированные, сколько условно-символически обобщенные лирические или гротескные образы»184, что вполне естественно, ибо образ становится выражением идеи, средством ее воплощения. В таком случае «бесцельным оказывается исследование человеческой души и различных состояний, в которые она вовлекается, противополагая себя миру. Отныне целью является выражение не многообразных построений души, но единого великого чувства»185. В такой системе художественных координат личность как раз лишается того, что было альфой и омегой реализма: социально-бытовых, конкретно-политических и прочих мотивировок характера. Экспрессионизм «отрывает человека от повседневности его обстановки. Он освобождает его от общественных уз, от семьи, от обязанностей, нравственности. Человек должен быть только человеком, он перестает быть гражданином, но он и не просто гражданин вселенной. Между ним и космосом нет преграды. Отброшены мелочные заботы повседневной жизни»186.
В литературном импрессионизме концепция творческой личности выражена совершенно иначе. Она обусловлена прежде всего способностью личности к восприятию и субъективной интерпретации окружающего. С этим связан основной принцип импрессионизма, принцип постоянного баланса и хрупкого равновесия между субъективным впечатлением, являющимся отражением реальности, и самой реальностью. Поэтому в литературе импрессионизма трудно говорить собственно о герое: главным, а иногда и единственным героем там бывает субъект повествования, «лирический герой», а предметом изображения является не столько действительность, сколько воспринимающее эту действительность сознание.
183 Маца И. Искусство современной Европы. М.; Л., 1926. С. 27. 182
184 Копелев Л. Драматургия немецкого импрессионизма. С. 72.
185 Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 88.
,86Тамже.С88.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...

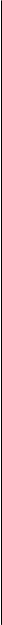
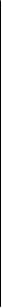 Модернистские литературно-критические
Модернистские литературно-критические
концепции в литературном процессе
20-х годов
Литературный процесс 20-х годов обусловлен полемикой между двумя противоположными как идеологически, так и эстетически направлениями: реалистическим и модернистским. Реалистический поток к концу 20-х годов все более и более обретал черты нормативности, т.е. нормативизм постепенно вытеснял собственно реалистическую тенденцию. Шел, увы, закономерный процесс культурной аннигиляции: соцреализм, переставший быть реалистической эстетикой, претендовал на то, чтобы предложить единственно возможное выражение реалистического взгляда на мир — наличие иных творческих концепций, отличных от нормативной соцреалистической, не предполагалось. Шло формирование и активное внедрение в жизнь монистической концепции советской литературы. Вытеснение реализма соцреалистической эстетикой выражалось в том, что собственно реалистическая тенденция начинала все более и более совпадать с господствующими представлениями о назначении искусства, о социальном заказе, о вульгарно понимаемой классовости искусства. Он обслуживался широким спектром официальной критики самых разных оттенков— от вульгарной рапповской до «перевальской», которая стремилась представить наименее ортодоксальную соцреалистическую позицию, условно говоря, «соцреализм с человеческим лицом». Альтернативный реалистическому модернистский поток существовал как бы в другой плоскости: не столько в политической, сколько в эстетической, существовал, скорее, в рамках писательских статей, трактующих о творчестве, о проблемах искусства.
Дистанция между нормативизмом и модернизмом определена, в первую очередь, решением вопроса о принципах отношения искусства к действительности, захватывая при этом более широкие эстетические проблемы: о социальном заказе, о роли художника в жизни общества, о степени его свободы или несвободы, политической ангажированности или неангажированности. Речь шла о том, что такое искусство: зеркало реальности или эстетическая действительность, живущая по своим собственным законам, часто отличная от законов мира социального? Противопоставлялись, по сути дела, два противоположных начала в искусстве, взаимодействие
которых и определяло во многом движение литературного процесса: искусство как орудие политической борьбы и искусство как самоценный художественный мир, во многом автономный от мира реального, и значимость его определяется отнюдь не прагматическими политическими или любыми другими общественными целями.
«Едва ли кто в настоящее время открыто согласится с определением «искусство — подражание природе», или вежливее «искусство — зеркало природы», — писал М. Кузмин в начале 20-х годов. — Непрерывные бунты самого же искусства против такого определения уменьшили его ценность, подкопались под его прочность, и оно полиняло в глазах завзятых природолюбцев. Наивная «всамделишность» всегда предполагает самоограничение и предел»187. Далее автор формулирует принципиальную для многих «нереалистов» — участников литературного процесса начала 20-х годов позицию, когда искусство трактуется как суверенный по отношению к действительности мир: «Законы искусства и жизни различны, почти противоположны, разного происхождения. Достижения в искусстве — всегда жизнь, реальная и подлинная, более реальная, чем, может быть, действительность, убедительная и настоящая»188. С точки зрения художника, именно в искусстве возможно освобождение от «понятий времени и пространства», т.е. эмансипация от политического времени и пространства, его преодоление — как шаг в вечность, и следовательно, преодоление художником через творчество географического пространства и физического времени, отпущенного всякому живому человеку. Это всегдашняя мечта и художника-творца, и всего человечества, и ее, по мысли М. Куз-мина, «можно наблюдать только в области искусства, простейших чувств, исконных движений духа и анатомическом строении человеческого тела. Конечно, каждый художник живет во времени и пространстве и потому современен, но интерес и живая ценность его произведений заключается не в этом.
Самоубийственно цепляться за то, от чего хочешь освободиться.
Поезд, поставленный не на свои рельсы, неминуемо сходит с них»189.
Такими не своими рельсами искусства были, с точки зрения Кузмина, любые разновидности теории социального заказа. Ко-
117 Кузмин М. Условности. Пг., 1923. С. 11-12. '"Тамже.С.31.
|МТам ж.- С /.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...
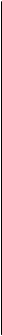
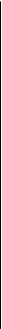 нечно, эта мысль выражена в наиболее резкой форме, но она хотя бы отчасти разделяла с многими. Так, например, Б. Пильняк полагал, что прагматико-политический подход к искусству — удел шестидесятников, и в 20-е годы XX в. воспринимается как архаизм. Они «понимают искусство, — писал он о питомцах многочисленных «инкубаторов для партийной литературы», — как его понимали в годах шестидесятых, — их и отодвигают на литературной полке к шестидесятым годам, т.е. литературе, как искусству, они не нужны, там их нет, и они делают — неплохую в сущности, — работу для талантливого писателя, который отберет их и обработает их матерьял»190. Литература «не передатчица фактов, а сама — факт», — вторил ему Ник. Никитин191.
нечно, эта мысль выражена в наиболее резкой форме, но она хотя бы отчасти разделяла с многими. Так, например, Б. Пильняк полагал, что прагматико-политический подход к искусству — удел шестидесятников, и в 20-е годы XX в. воспринимается как архаизм. Они «понимают искусство, — писал он о питомцах многочисленных «инкубаторов для партийной литературы», — как его понимали в годах шестидесятых, — их и отодвигают на литературной полке к шестидесятым годам, т.е. литературе, как искусству, они не нужны, там их нет, и они делают — неплохую в сущности, — работу для талантливого писателя, который отберет их и обработает их матерьял»190. Литература «не передатчица фактов, а сама — факт», — вторил ему Ник. Никитин191.
Такое отношение к искусству — как ко второй реальности — роднило художников, стоявших на нереалистических творческих позициях. Но за этим пунктом намечалось весьма существенное расхождение на два потока — весьма близких, часто то сливающихся, то расходящихся, но, тем не менее, имеющих свое собственное русло.
Дистанция между этими двумя тенденциями определена той творческой задачей, которую ставит перед собой художник. Одна из них — увидеть мир, его оттенки, его первозданную красоту; другая — выявить в наиболее зримой форме некую идею или комплекс идей философского, эстетического, поэтического плана. Речь идет об импрессионистической и экспрессионистической эстетике, которые, часто пересекаясь, заимствовали друг у друга выразительные средства.
Импрессионистический дуализм — зыбкая грань между реальностью и субъективным сознанием, эту реальность воспринимающим, — в этот период разрешается чаще всего в пользу субъективного. Искусство трактуется именно как «искусство видеть мир», если воспользоваться знаменитой формулой А. Воронского. Искусство учит людей видеть мир, и в этом проявляется его миссия противостояния антисистемной идеологии. «Конечно, парадокс Уальда, что "природа подражает искусству", и остается парадоксом, и лондонские закаты не учились у Тернера, но мы-то выучились видеть их глазами этого фантаста», — говорил М. Кузмин192.
Но это свойство импрессионистической эстетики — видение многообразия мира, многообразия цветов, оттенков, которое часто воспринимается как фундаментальное качество его, — на самом деле является лишь производным. В центре импрессионистического произведения — всегда особый тип воспринимающего сознания, которое и является в первую очередь предметом изображения. Действительность попадает в поле зрения импрессиониста лишь постольку, поскольку она отразилась в воспринимающем сознании. Специфика восприятия и организует законы художественного мира; субъективность сознания — его единственный закон.
Поскольку реальность образуется лишь в памяти, «цветы, которые мне показывают сегодня, в первый раз не кажутся мне подлинными цветами»193, — вспомним еще раз эту мысль М. Пруста, абсолютизирующую эстетический принцип субъективности, характерный для импрессионизма.
«Сейчас, когда записываю это, пожар в Парфентьеве мне уже не кажется таким, каким он был в реальности», — признавался Б. Пильняк194, приоткрывая дверь в лабораторию своего творчества. Он говорил о том же, о чем и М. Пруст: о принципиальной субъективности импрессиониста, возведенной в художественный принцип. И если Прусту нужно вспомнить цветы, чтобы те обрели реальность для его художественного мира, стали бы «настоящими», а не из жизни, заняли бы подобающее им место в сознании автора, то и Пильняку, чтобы увидеть истинный пожар, нужно возвратиться к нему памятью. Припоминание ощущения — зрительного, слухового, даже запаха — принципиально для импрессиониста.
Это определяет концепцию художественного времени в литературе импрессионизма. Это время — припоминаемое, ориентированное в прошлое. Его реальные параметры сдвинуты, мгновение здесь может по законам субъективной памяти перерасти в вечность, сравняться с вечностью по значимости, может не кончиться, длиться постоянно. «Настоящее мгновение, — говорит О. Мандельштам в статье о Ф. Виллоне, — может выдержать напор столетий и сохранить свою целостность, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней — иначе оно завянет. Виллон умел это делать. Колокол Сорбонны, прервавший его работу над РеШ ТеМатепХ, звучит до сих
190 Пильняк Б. Отрывки из дневника//Писатели об искусстве и о себе. Сб. статей.
М.;Л., 1924. № 1.С. 85.
191 Никитин Н. Вредные мысли//Там же. С. 121.
192 Кузмин М. Условности. С. 152.
Цит. по:. Андреев Л. Г. Импрессионизм. С. 137. Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...
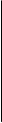
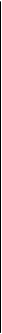
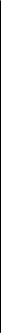
 пор»195. И это не просто образ, к которому прибегает Мандельштам. В модернистской концепции художественного времени отразились эйнштейновские представления о мире реальном, характерные для человека нового столетия. Поэтому субъективность импрессионистического сознания обрела опору в философских и научных идеях, получив право на существование в литературной реальности, отразившись, прежде всего, в поэтике произведения. В высказываниях участников литературного процесса в первую очередь звучит мысль о принципиальном отличии законов литературной реальности и жизненной. «Правдоподобие искусства совсем иное, нежели правдоподобие жизни, — утверждал Ник. Никитин. — Литература, как рампа, все извращает. Она изменяет законы пространства и времени. Из хроникерского петита делается трагедийный фарс, из версты делают Россию, из минуты — вечность»196.
пор»195. И это не просто образ, к которому прибегает Мандельштам. В модернистской концепции художественного времени отразились эйнштейновские представления о мире реальном, характерные для человека нового столетия. Поэтому субъективность импрессионистического сознания обрела опору в философских и научных идеях, получив право на существование в литературной реальности, отразившись, прежде всего, в поэтике произведения. В высказываниях участников литературного процесса в первую очередь звучит мысль о принципиальном отличии законов литературной реальности и жизненной. «Правдоподобие искусства совсем иное, нежели правдоподобие жизни, — утверждал Ник. Никитин. — Литература, как рампа, все извращает. Она изменяет законы пространства и времени. Из хроникерского петита делается трагедийный фарс, из версты делают Россию, из минуты — вечность»196.
Поэтике жизнеподобия была противопоставлена поэтика смещения планов, поэтика принципиальной ареальности. Многие из участников литературного процесса одним из основоположников такой эстетики считали А. Белого. Вл. Лидин, полагая, что новая поэтика обусловлена, в первую очередь, революционным мироощущением, так говорил о Белом: «Новая русская литература, возникшая после трех лет молчания, в 21-м году, силой своей природы, должна была принять и усвоить новый ритм эпохи. Литературным провозвестником (пророчески) этого нового ритма был, конечно, Андрей Белый. Он гениально разорвал фактуру повествования и пересек плоскостями мякину канонической формы. Это был тот литературный максимализм (не от формул и комнатных вычислений), который соответствовал ритму наших литературных лет»197. И в этом смысле Лидин, вероятно, прав: структура русского модернистского романа, созданная Белым в начале века, показала свою продуктивность в творчестве Б. Пильняка, Е. Замятина, Б. Пастернака, О. Мандельштама (роман «Египетская марка»).
Специфика модернистской поэтики с ее ареальностью и смещением планов, в том числе поэтика импрессионистическая, связана с особым типом мироощущения. Мандельштам назвал это мироощущение эллинизмом и связал его со стихией русского языка. Эллинизм для Мандельштама — особое чувствование бытия, в
котором на первый план выходит предмет, как бы одухотворенный авторским сознанием, согретый им. «Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим теологическим теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развивает вокруг себя как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «Я». В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом»198. Такое одушевление окружающего мира, превращение «предмета» в «утварь» характерно именно для импрессионистической идеологии. Начать с того, что творит эту эллинистическую — в бергсоновском смысле слова — систему человеческое «Я», сознание, воспринимающее мир, освобождающее предметы, явления, события от временной зависимости. Именно это сознание и одушевляет предметы, делая их достоянием своего внутреннего духовного опыта, достоянием не столько внешнего мира, сколько внутренней жизни. На эту важнейшую черту импрессионистической эстетики указывал, в частности, Л. Андреев, рассуждая об импрессионизме М. Пруста: «Писатель уверял, что консервация впечатлений происходит в таких объектах, в которых рассудок не в состоянии воплотиться»199, т.е. опредмеченный, одухотворенный реальный мир есть важнейшее условие импрессионистической эстетики. Ведь «импрессионизм есть двуединство, единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного. В этом двуедин-стве субъективное занимает позиции предпочтительные — отсюда и сам принцип «впечатления». Но впечатление всегда направлено, всегда исходит от чего-то, извне»200. Для Мандельштама таким источником впечатления и является «эллинистически» опредмеченный мир: его предметы становятся «утварью», преломившись в


 195 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 95.
195 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 95.
196 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 120-121.
197 Лидин Вл. Об искусстве и о себе//Писатели об искусстве и о себе. С. 130.
198 Мандельштам О. О поэзии. С. 40.
199 Андреев Л. Импрессионизм. С. 131.
200Там же. С. 65-66.
Модернизм
Модернистские литературно-критические концепции...
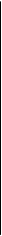
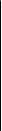
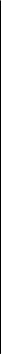 воспринимающем сознании, освещенные им. Вероятно, такое «вещное» восприятие мира было характерно для художников 20-х годов, тяготеющих к импрессионистической эстетике: Ник. Никитин, например, почти дословно повторяет мысль Мандельштама: «Я совсем не сторонник быта... я понимаю его совсем не так, как он понимается и «левыми», и «жизнестройцами»; их понимание быта для меня бытовщина, но я люблю мир видимый, я сторонник вещей, и не люблю поггшпси1и$'ов в колбе, а люблю человека, я люблю здания, где можно жить, где обжито, а не конструкции и чертежи»201.
воспринимающем сознании, освещенные им. Вероятно, такое «вещное» восприятие мира было характерно для художников 20-х годов, тяготеющих к импрессионистической эстетике: Ник. Никитин, например, почти дословно повторяет мысль Мандельштама: «Я совсем не сторонник быта... я понимаю его совсем не так, как он понимается и «левыми», и «жизнестройцами»; их понимание быта для меня бытовщина, но я люблю мир видимый, я сторонник вещей, и не люблю поггшпси1и$'ов в колбе, а люблю человека, я люблю здания, где можно жить, где обжито, а не конструкции и чертежи»201.
Импрессионистическое восприятие мира, будь оно выражено в художественном тексте или в частном письме, в воспоминании о самых обыденных мелочах жизни, всегда наполняет мир особым ощущением, одушевляет и оживляет все предметы и явления, которых касается взгляд художника-импрессиониста, — наполняет их особым, судьбоносным смыслом. Эпизод, которого обычный человек не заметит, обретает свой вес и значение, становится, преломленный сознанием писателя, фактом его художественной биографии. Б. Пильняк, например, так вспоминает о двух, казалось бы, совершенно незначительных эпизодах, из которых родились рассказы. Первый из них связан с возвращением от режиссера А. Д. Дикого: «Я слез на Страстной площади с трамвая — я помню это место на Страстной, я остановился выколотить трубку, набил ее английским табаком, закурил, вдохнул запах «вирджиниа», — и понял, что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха табака фабрики Кэпстэн. Через год рассказ был написан: «Старый сыр». Я поехал с Курда-сан в Крым к его соотечественникам, поднимавшим с Черного моря «Черного принца». В вагоне был синий свет, лицо Оттокичи Куродо было зеленым — я понял, что еду не по железной дороге, но по сюжету.Через полгода был написан рассказ «Синее море»202. Художник-импрессионист как бы формирует новую систему ценностей, в которой запах табака или отсвет вагонной лампы, запечатленный воспринимающим сознанием, значит не меньше, а то и больше, чем сюжет.
Для А. Белого таким началом творческого процесса был звук: «В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже предрешены в звуке. В нем переживается не форма, не содержа-
ние, а формосодержание». Самые разнообразные импрессионистические мазки действительности, которыми столь богата проза Белого — и «растирание красок, образы, и чудо с натуры — дерева, носа, стола, обоев, жестов» — все это может существовать лишь тогда, когда окрашено звуком, из которого потом родится музыкальная красочная симфония. «То, что я утверждаю о примате «звука» — мой выношенный тридцатилетний опыт», и если некоторый зримый образ не звучит, «если я не зарисую его в нескольких звуковых фразах, я его безвозвратно теряю»203. Даже в наборе цветных коктебельских камушков, «который я складывал в орнамент оттенков, звук темы искал связаться с краской и со звуком слов... коллекции камушков оказались пакетиками красочной инсценировки «Москвы». К коллекции психологических и сюжетных зарисовок на тему «старая, рассыпающаяся Москва»... присоединились: синтез воспоминаний, пережитых как звук музыкальной мелодии, и он же, собранный в красочных транскрипциях (коллекция моих камушков, которую одобрил художник Богаевс-кий). Фон фабулы стоял готовым; надо было из фона, так сказать, вывести фабулу, и она вынырнула неожиданно, ибо камушки, как мозаика, сложили мне давний образ 1909 года... Когда я говорю о синтезе материала, пережитом как звук, из которого рождается образ, я надеюсь, что меня поймут: речь идет не о бессмысленном верещании телеграфного провода, а о внутреннем вслушивании некоторой звучащей симфонии, подобной симфонии Бетховена; это ясность звука и определяет выбор программы; я в этом периоде работы уподобляю себя композитору, ищущему текст для превращения музыкальной темы в литературно-сюжетную»204. Приоткрывая свою творческую лабораторию, художник показывает импрессионистическую по сути своей картину мира, открытую им, создает целую концепцию подсознательного восприятия бытия, когда из пестрой мозаики цветов, звуков, красок, запахов складывается некая целостность, объемная картина, сотворенная заново сознанием художника. При этом открыто декларируется важнейший принцип импрессионистической эстетики: право писателя на предельную субъективизацию, право на смещение грани между субъективным и объективным в пользу субъективного, право на преобразование жизни по законам объективной
201 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 116.
^Пильняк Б. //Как мы пишем. Л., 1930 (М., 1989). С. 109.
203 Белый А. Там же. С. 15-19. 204Тамже. С. 13.
Модернизм
«Синтетизм» Е. Замятина

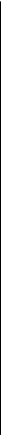
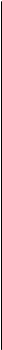
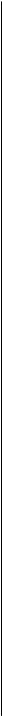
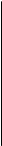 памяти, по законам воспринимающего сознания. Отсюда и резкие переходы во времени из 1924 г., когда собирается коллекция коктебельских камушков, к 1909 г., к музыкальной теме будущего романа «Москва».
памяти, по законам воспринимающего сознания. Отсюда и резкие переходы во времени из 1924 г., когда собирается коллекция коктебельских камушков, к 1909 г., к музыкальной теме будущего романа «Москва».
Нужно, конечно, помнить, насколько полемичным в отношении к реалистическим концепциям не только РАПП, но и «Перевала» выглядели эти программные заявления, как явно противоречили они господствующим представлениям о социальном заказе. Импрессионистическая эстетика стремилась к теоретическому самоопределению — пусть не в форме научных эссе, но в доверительном разговоре автора с читателем.
«Синтетизм» Е. Замятина
Две эстетические системы, родившиеся на европейской почве в резкой полемике друг с другом, когда экспрессионизм возникал как реакция на импрессионистическое творчество, на русской почве вовсе не были противопоставлены, а в размышлениях участников литературного процесса часто неотделимы друг от друга. То же и в литературе: грань между импрессионистическим и экспрессионистическим творчеством провести очень трудно, часто даже в одном произведении обнаруживаются черты и той и другой эстетики.
Даже Е. Замятин, один из немногих в литературе 20-х годов сумевший достаточно целостно и полно изложить эстетические принципы нового художественного мироощущения, которое он назвал «синтетическим», склонен, скорее, не к противопоставлению, а к объединению импрессионистической и экспрессионистической тенденции. Это имеет достаточно очевидные объяснения: элементы импрессионизма в современной литературе, по словам Ю. Айхенваль-да, обусловлены стремлением «заметить жизнь»; но сама действительность 20-х годов фантастична, нереальна — экспрессионистична. Взгляд художника-импрессиониста направлен на познание действительности, экспрессионистичной по самой своей сути.
Поэтому реализм осмысляется Замятиным как эстетика явно архаичная: «Очень удобен Вересаевский тупик — и все-таки это уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир и очень труден Эйнштейнов — и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду». Кризис реализма обусловлен кризисом позитивистского мировоззрения, характерного для предшествующих эпох. «Все реалистические фор-192
мы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не геаИа, а геаНога — в сдвиге, в искажении, в кривизне, необъективности»205. Поэтому новое искусство, «синтетизм», являясь по своей глубинной сути экспрессионистическим, направленным на борьбу с энтропией искусства, «наследственной сонной болезнью» русской реалистической литературы, все же неизбежно включает в себя и элементы импрессионистической эстетики, связанной с умением видеть, ощущать, чувствовать вещь, цвет, его оттенки, даже запах. И хотя в работах Замятина часто проявляется ирония в отношении к «импрессионизиро-ванному, раскрашенному фольклором реализму»206 многих современных писателей, он все же уверен, что для современного искусства, для которого характерен синтез фантастики с бытом, взгляд художника-импрессиониста тоже весьма полезен: «Каждую деталь — можно ощупать: все имеет меру и вес; запах; из всего — сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос и колбас — фантазм, сон»207, характерный как раз для импрессионистической прозы, принципиально отказывающейся от обобщения действительности, стремящейся не к синтезу, не к созданию целостной, пусть и далекой от «геаНа» картины, искаженной и фантастической, к которой всегда стремится экспрессионизм.
 2013-12-28
2013-12-28 698
698








