— Может быть, это так234.
Думается, что та же проблематика интересовала и Е. Замятина, автора романа «Мы», о котором со свойственной ему небрежностью отозвался Набоков — и вполне несправедливо.
«Мы» — одна из самых знаменитых антиутопий XX в. Роман Замятина показывает, что случится с обществом, если общество в своих членах будет уничтожать личностное, индивидуальное начало и превращать их в абсолютно идентичных человекоединиц, «нумеров». Сообщество, подвергшее своих индивидов полной, биологической идентификации, предстает в романе Замятина.
234 Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 165.
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
Этот роман критика 20-х годов трактовала как злобный памфлет, направленный против советской власти. В нем описаны события самого отдаленного будущего, отодвинутого от момента современности и «тысячелетней войной», и многими веками сооружения стеклянной стены, отделившей «цивилизованный мир» от мира, где царствует дикое состояние свободы и некоторые люди продолжают еще жить свободными — могут любить кого угодно и жить так, как, в общем-то, того хотят. Но жители чудного города, описанного в «Мы», мыслят личностную свободу чудовищным рудиментом, ибо жизнь, частная и общественная, должна основываться на строго логических, математически исчисленных законах — тогда все и смогут быть вполне счастливы.
Источником человеческих несчастий является неравенство — так пусть все будут равны! Но человек не может быть равен даже самому себе, и становление романного жанра как раз и связано с исследованием литературой того самого неразрешимого внутреннего тождества со множеством неизвестных, которое пытается решить для себя, наверное, каждый человек — и чем сложнее его внутренняя организация, тем безуспешнее эти попытки. Так возможно ли равенство всех со всеми? Возможно, отвечает главный герой романа, повествователь, ведущий дневник для неведомого ему читателя. Возможно, если будут упразднены причины не только социального или имущественного неравенства, но и обусловленного самой природой. Что делает человека несчастным? Зависть. Но все жители Единого Государства равны, завидовать нечему. Есть, правда, иная форма зависти — ревность, но и с ней тоже можно справиться. Оказывается, все равны и в любви, и каждый «нумер», мужской или женский, может получить розовый билетик, дающий право на обладание объектом своих желаний. В этом случае в комнате со стеклянными стенами, в которых живут «нумера», на час спускаются шторы... Нельзя только заводить детей без разрешения государства и создавать семью, ибо она — основа неравенства, зависти и ревности со стороны других «нумеров».
Жители Единого Государства лишены имени (главного героя зовут Д-503), досуга, права свободного выбора, права любого несанкционированного в «бюро хранителей» проявления личностного, индивидуального начала. «Нумера» маршируют мерными рядами по четыре, восторженно отбивая такт под звуки труб Музыкального Завода, поющих Марш Единого Государева; они строем ходят на лекции и в аудиториумы — и счастливы своим исчисленным рациональным счастьем, невзирая на то, что при исчис-
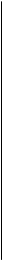
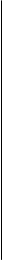 Модернизм
Модернизм
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
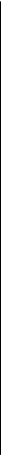
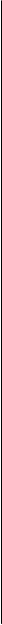
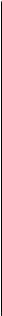
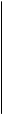
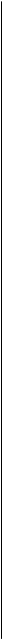 лении его начисто сокращен индивидуальный остаток. «Я» больше не существует — есть «Мы».
лении его начисто сокращен индивидуальный остаток. «Я» больше не существует — есть «Мы».
Гибельность для человека подобного жизнеустройства Замятин показывает, обращаясь к изображению не только форм общественного бытия, которые не примет ни один уравновешенный человек («нумер» вместо имени, общедоступный розовый билетик вместо естественных человеческих отношений, стеклянная стена дома, шествие строем на работу, публичные воспитательные казни инакомыслящих, всевластие бюро хранителей, невозможность семьи и т.д.). Его герой проходит еще и испытание любовью и не выдерживает его — совсем как герой тургеневского романа. Расцветшую в его душе любовь (пусть и к женщине, которая всего лишь использует его в борьбе с Единым Государством) убивают, подвергая Великой Операции, которую необходимо пройти всем «нумерам»: из мозга удаляются те участки, которые ведают эмоциональной сферой. В результате в романе мы видим кольцевую композицию: герой приходит к той же самодовольности математического счастья, с которым он брался за составление своих записок и сомнение в котором принесла ему столь незапланированная и неподдающаяся алгоритмам любовь к женскому «нумеру» 1-330. Наблюдая за пыткой своей бывшей избранницы в присутствии Благодетеля, верховного правителя, Д-503 недоумевает по поводу своих прошлых, совсем еще недавних метаний: «Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа)».
С кем или с чем спорил Замятин? С новой властью, стремящейся к насильственному упорядочению жизни и к полной нивелировке индивидуумов, к насильственной регламентации всех форм бытия? Да, безусловно. Но сами эти идеи были прямо выражены не в официальных государственных или партийных документах, а в творческих манифестах литературных организаций, проводящих и даже невольно пародирующих в стремлении отличиться официальные, только что формирующиеся концепции новой власти. Литературные манифесты той эпохи давали прекрасный материал для того, чтобы посмотреть, что будет с человеком, если новая власть продержится не семьдесят лет, а, скажем, тысячу. В сущности, Замятину не пришлось даже ничего выдумывать: достаточно было взять манифест Пролеткульта, одной из самых значительных литературных организаций первых лет революции.
Пролеткультовцы полагали, что класс, вставший у власти, обладает совершенно особым, новым и невиданным ранее типом сознания: «методическая, все растущая точность работы, воспитываю-228
щая мускулы и нервы пролетариата, придает психологии особую настороженную остроту, полную недоверия ко всякого рода человеческим ощущениям, доверяющуюся аппарату, машине, инструменту». Не напоминает ли сознание такого человека то, что случилось с героем Замятина после Великой Операции?
«Машинизирование не только жестов, не только рабоче-производ-ственных методов, но машинизирование обыденно-бытового мышления... поразительно нормализует психологию пролетариата.. Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии поразительную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, В, С, или 325, 0, 75 и т.п....» Эти отдельные абстрактные человекоединицы в концепциях Пролеткульта «настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движения этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные нормализированные шаги, есть лица без экспрессии, душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометрами и таксометрами». Все это писалось теоретиками Пролеткульта вполне серьезно и вовсе без ужаса перед подобной перспективой, напротив, с восторгом. Замятин приложил эту перспективу на ближайшее тысячелетие — и ужаснулся.
Экспрессионистическая эстетика, получившая столь сильное развитие в литературе 20-х годов, во многом основана на взаимодействии с социалистическим реализмом; мало того, это взаимодействие и явилось причиной столь сильного и бурного развития экспрессионистической эстетики. Суть в том, что экспрессионизм явился реакцией на ту концепцию мира и человека, которую предложил соцреализм и которая была так же выражена в пролеткультовских и лефоских концепциях — реакцией, основанной на резкой полемичности этих тенденций. Закрепощение героя идеей «золотого века» в литературе нормативизма, героя, столь свободного в своем развитии по первоначальному, собственно реалистическому проекту, но фатально обреченному на поиски и обретение официально признанного идеала уже в творчестве А. Толстого, как, скажем, фатально обречен Рощин прийти к большевикам и стать красным военспецом с самого начала трилогии «Хождение по мукам», дало в экспрессионизме концепцию личности прямо противоположного плана: отрицание рационализма личности, заранее предугаданные идеи всечеловеческого счастья и утверждение героя, способного сомневаться. Условно говоря, экспрессионизм
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
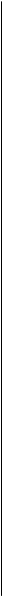

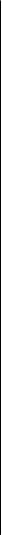
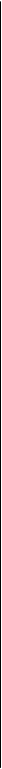
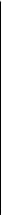
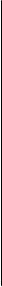
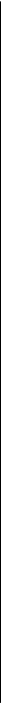 утверждает право человека на критическое восприятие информации, которую на него обрушивает пропаганда, утверждает право сомнения: вспомним усомнившегося Макара А. Платонова, задумавшегося на фоне всеобщего темпа труда Вощева из «Котлована». Напротив, подчинение себя коллективу, партии, некой всеобщей идее, пусть и несомненно гуманистической, приводит личность и общество, состоящее из таких личностей, к полному краху, как показал это Замятин в романе «Мы».
утверждает право человека на критическое восприятие информации, которую на него обрушивает пропаганда, утверждает право сомнения: вспомним усомнившегося Макара А. Платонова, задумавшегося на фоне всеобщего темпа труда Вощева из «Котлована». Напротив, подчинение себя коллективу, партии, некой всеобщей идее, пусть и несомненно гуманистической, приводит личность и общество, состоящее из таких личностей, к полному краху, как показал это Замятин в романе «Мы».
Экспрессионистическая эстетика в силу своей выразительности, заостренности на определенной проблеме, фантастичности и гротескности по самой природе своей полемична. Художники, ей принадлежащие и ощущающие себя ее проводниками, часто берут роль еретиков, критиков настоящего, оказываются в оппозиции к господствующим идеологическим концепциям. В доведении до абсурда этих концепций видится им своя миссия в литературе: предостережение общества от слепоты, от глухогоисполнительства, от массового психоза подчиненности власти большинства или аппарату партии — во имя этого берут они в руки перо. Неудивительно, что судьба экспрессионизма, столь мощного в 20-е годы, совершенно лишалась какой-либо перспективы в 30-е. Неудивительно и другое: подавляющее большинство произведений, принадлежащих экспрессионистической эстетике, оказались за пределами советской литературы и официальных ее историй.
Стилевая организация модернистского романа
Творческие задачи, которые ставили перед собой художники, работавшие в рамках модернистской эстетики, определяли и стилевую организацию произведения. Наиболее характерной для модернизма 20-х годов стала орнаментальная проза, художественным принципом которой является организация прозаического текста по законам поэтической речи.
Ю. Тынянов, теоретик и практик орнаментальной прозы 20-х годов, писал о том, что иногда, в особенности в периоды сближения прозы и поэзии, поэзия могла заимствовать у прозы те или иные звуковые приемы. Практика 20-х годов подтвердила, что влияние может идти, и весьма продуктивно, и в другую сторону: от поэзии к прозе. Собственно, русский орнаментализм первоначально 230
и возник как попытка эксперимента, как попытка построить прозаическую речь по поэтическим принципам.
Этот эксперимент был связан с мыслью Ю. Тынянова, высказанной им, в частности, в работе «Проблемы стихотворного языка», о том, что не все факторы слова равноценны, что динамическая форма произведения создается не их слиянием, а их взаимодействием.
В результате одна группа факторов выдвигается за счет другой. В самом деле, в произведениях, построенных по принципу орнаментальной поэтики, слово выступает не только как денотат, но и как самостоятельный элемент в художественной системе. «Речь в произведении "расстилается" над характерами и сюжетом», считает Н. Кожевникова235. Это оказывается возможным благодаря так называемому закону тесноты поэтического ряда, описанного Ю. Тыняновым. Суть его состоит в том, что слово, попадая в поэтический контекст, резко расширяет свое семантическое поле, вступает в метафорические отношения с другими словами и актуализирует такие значения, которые не могут быть учтены ни одним словарем. Поэтический контекст, таким образом, проявляет смысловую глубину и неисчерпаемость слова, делает его насыщенным множеством угадываемых художником и читателем смыслов. Феномен орнаментальной прозы построен именно на таком обращении со словом, когда прозаический контекст создается на принципах поэтического контекста. Он подчинен не логике сюжета, но логике метафор, обнажающих в слове «бездну пространства» их смыслов, делает произведение неисчерпаемым.
Исследователи выделяют целый ряд признаков, которые сближают орнаментальную прозу с поэзией: это специфический характер слова, которое стремится ко множественности смыслов и неисчерпаемости значения; это организация повествования, основанная не на сюжетных причинно-следственных связях, а на ритмических повторах, лейтмотивах образов, ассоциативных связях. Лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета.
Все эти качества оказываются следствием того, что орнаментальная проза построена не на эпических, а на лирических принципах типизации. Как и в лирике, здесь преобладает не столько ориентация на чужую речь, способную лишь замутишь метафору,
235 Кожевникова Н. Л. Из наблюдений над неклассической (орнаментальной) прозой//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 1.
■■
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
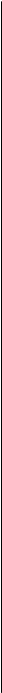
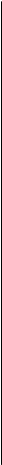
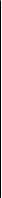
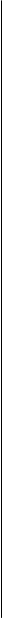 сколько на сознание поэта (хотя, разумеется, возможны и исключения, особенно в произведениях, принадлежащих импрессионистической эстетике). Предметом изображения здесь является не столько реальная действительность, сколько ее отражение в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Пропорция между выражением и изображением явно смещена в сторону выражения. Исследуется мир, основанный на метафорических соответствиях, переходах из одного в другое. Активно эксплуатируется принцип отстранения слова, разрабатываемый в это время на теоретическом уровне В. Шкловским («О теории прозы», 1929).
сколько на сознание поэта (хотя, разумеется, возможны и исключения, особенно в произведениях, принадлежащих импрессионистической эстетике). Предметом изображения здесь является не столько реальная действительность, сколько ее отражение в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Пропорция между выражением и изображением явно смещена в сторону выражения. Исследуется мир, основанный на метафорических соответствиях, переходах из одного в другое. Активно эксплуатируется принцип отстранения слова, разрабатываемый в это время на теоретическом уровне В. Шкловским («О теории прозы», 1929).
Еще раз подчеркнем: подобный принцип организации повествования делал орнаментализм весьма притягательным для нереалистических эстетических систем, прежде всего модернистских. Наиболее очевидно это проявляется в экспрессионистической и импрессионистической поэтике: орнаментальная проза является наибоее адекватным способом выражения того мироощущения, которое лежит в основе модернистской эстетики.
Именно такой — лирический — тип организации повествования эксплуатирует Б. Пильняк, прежде всего, в романе «Голый год», хотя для него эта манера оказывалась наиболее продуктивной на протяжении всей его творческой жизни, проявляясь и в «Красном дереве», и в «СГкей», и даже в «Повести непогашенной луны». «Голый год» лишен сюжета, строится по принципу рифмовки образов, их ассоциативной скрепленности. Весь роман пронизывают центральные образы-символы: метель, характеризующая общее неприкаянное состояние мира; солдатские пуговицы, которые по принципу метафорического взаимодействия с другими образами обращаются то в глаза, то вообще закрывают собой лицо персонажа; кожаные куртки — образ, созданный по принципу метонимии и ставший одним из центральных.
Орнаментальному стилю подчинена и вся архитектоника романа: чередование глав и триптихов, характеристика в оглавлении «тональности» частей триптиха («самая светлая» и «самая темная»), нарочитое обнажение приема, которое обусловлено стремлением показать как бы незаконченность романа, его принципиальную незавершаемость, разорванность, в которой отразились разорванность и незавершенность самой эпохи: «Глава VII (последняя, без названия)», или «Триптих последний (Материал, в сущности)», «Вне триптиха, в конце».
Подобный принцип стилевой организации текста давал возможность Пильняку сделать его максимально полифоничным: роман как бы впитывает в себя голоса, звучащие в Китай-городе или в Ордынине городе, оказывается способным включить в себя без какой бы то ни было сюжетной мотивировки страницы летописи или частушку, отрывок газетной статьи и фрагмент философского сочинения «Бытие разумное, или Нравственные воззрения на достоинства жизни», автором которого является герой романа Семен Матвеев Зилотов.
К орнаментальной прозе обращается и М. Булгаков в романе Белая гвардия». Именно орнаментализм как проводник элементов импрессионистической поэтики давал возможность писателю как можно более полно воплотить проблематику своего романа. Изображая «драму субъективно честных людей, втянутых в кровавую авантюру», Булгаков противопоставляет хаосу исторических катаклизмов «идиллию внутрисемейной жизни Турбиных»: «Простым, ежедневным отношениям Турбиных М. Булгаков стремится придать особый смысл»236. Поэтому столь велика роль деталей, характеризующая их домашний мир: печь со старинными изразцами, кремовые шторы, голубые гортензии, «красного дерева бронзовые пастушки на фоне часов, играющие каждые три четверти часа», мебель красного бархата, «чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок». «Все эти детали домашнего обихода, — отмечает современный исследователь, — становясь лейтмотивами повествования, призваны «приподнять» простые родственные отношения, романтизировать семью как воплощение гармонии и устойчивости»237.
Эстетика орнаментальной прозы как раз и дает Булгакову возможность сделать скрепами бытия эти детали домашнего уюта; в мире, где сломаны все социальные связи, в мире, который перед писателем и перед героями предстал как страшный кровавый хаос, как бесприютная степь, где даже ветер на все лады выводит имя Петлюры, лишь дом воплощает надежность, незыблемость, вечность. Выход из его стен сулит гибель. Поэтому, построив свой роман на принципах поэтической прозы, художник смог изменить пропорции реального, представив хрупкое и беззащитное, скажем, старинные часы или изразцы печи, как опору, дающую воз-
236 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа.
М., 1985. С. 60-61.
237 Там же. С. 61.
■
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
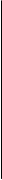
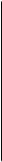
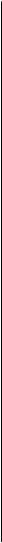
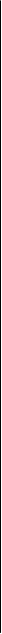
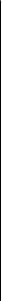
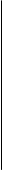
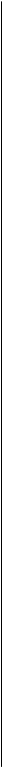 можность личности не потерять себя в страшную эпоху русской смуты. Булгаков прибегает к приему, характерному для орнаментализма, как бы меняющего местами значимое с незначимым. Именно лейтмотивный принцип организации повествования и превращение обыденных, казалось бы, явлений, предметов, даже имен в широкие образы-символы, дают возможность воплотить в романе идиллическое жанровое содержание и в то же время включить идиллию в исторический контекст и противопоставить ее кровавому хаосу анархии.
можность личности не потерять себя в страшную эпоху русской смуты. Булгаков прибегает к приему, характерному для орнаментализма, как бы меняющего местами значимое с незначимым. Именно лейтмотивный принцип организации повествования и превращение обыденных, казалось бы, явлений, предметов, даже имен в широкие образы-символы, дают возможность воплотить в романе идиллическое жанровое содержание и в то же время включить идиллию в исторический контекст и противопоставить ее кровавому хаосу анархии.
Разумеется, такими широкими образами-символами становятся не только приметы домашнего уюта. Литературные и общекультурные реминисценции играют в контексте романа роль лейтмотивов. «Белую гвардию» пронизывает тема Апокалипсиса, его центральные образы включены в ткань повествования, его проблематика ассимилируется романом: это и мысли о вселенском масштабе происходящего, идея о личной ответственности каждого за свои деяния, и трагическая мысль о конце одного мира и начале нового. Из литературных источников для «Белой гвардии» наиболее существенны темы «Капитанской дочки» Пушкина. Центральные образы и сюжетные ходы переосмыслены писателем, включены в романную полифонию и аранжированы в ней. Такое цитирование классических текстов, подключенность к общекультурным источникам также характеризует орнаментальную прозу.
Если Б. Пильняк в «Голом годе» и М. Булгаков в «Белой гвардии» обращаются к орнаментальным принципам организации повествования, создавая импрессионистическую эстетику, то продуктивность поэтической прозы для экспрессионизма демонстрирует роман Ю. Олеши «Зависть».
Ю. Олеша решает сложные социально-психологические коллизии времени: он стремится сопоставить крайности той концепции личности, что была предложена литературой 20-х годов. В образе Андрея Бабичева воплощен крайний утилитаризм, характерный для эстетических построений ЛЕФа, Пролеткульта, РАПП. Герой воплотился в своего роду «функцию» дела. В художественном мире романа ему противостоит его брат, Иван Бабичев, который стремится к утверждению мира чувств в противовес рациональному голому расчету. Проблематика романа, обусловленная этим конфликтом, заставляет Олешу обратиться к поэтическим принципам организации текста. Это оказывается связанным с тем, что текст организован не объективно, что характерно для эпического рода литературы, а сориентирован на воспринимающее сознание «с его 234
ассоциативностью, смещением временных пластов, свободным передвижением в пространстве, сменой ракурсов, сближением «далековатых» явлений». Это заставляет исследователя констатировать, что «повествование в «Зависти» тяготеет к лирическому типу изображения с присущими способами увеличения внутреннего объема текста», что внутри него «создаются условия «художественной тесноты», подобные «тесноте стихового ряда», что связано «с использованием принципа повтора, в частности «рифмовки»238. Этому принципу подчинено соотношение двух частей романа, которые как бы отражаются друг в друге: образ-символ зеркала, появляясь в конце первой части, «мотивирует зеркальный прием в композиции произведения: вторая часть не столько углубляет и развивает действие первой... сколько повторяет многие положения и мотивы, углубляет их, превращает драму в комедию»239. Субъективный, лирический принцип организации повествования, связанный с ориентацией на субъективное сознание героя (Кавалерова в первой части и Ивана Бабичева во второй), заставляет сокращать систему персонажей. Она строится по принципу пар-антиподов, выражающих крайние представления о сущности человеческой личности, существующие в общественном сознании 20-х годов (Андрей Бабичев — Иван Бабичев, Володя Макаров — Николай Кавалеров, Валя — Анечка Прокопович). Центральные образы-лейтмотивы, такие, как Четвертак, дешевая общественная кухня, или Офелия, фантастическая машина, созданная для разрушения трезвого мира делового расчета, подушка, с которой не расстается Иван Бабичев, символизирующая домашний уют и покой, колбаса и черемуха, создают композиционное единство романа.
Организация текста по поэтическим принципам дает возможность Олеше не столько прямо и объективно изобразить действительность, сколько заострить и довести до предела крайние позиции в общественном сознании эпохи. Пренебрежение исконными общечеловеческими ценностями, утилитаризм, рассмотрение человека как придатка к огромному идустриальному механизму отвергаются Олешей, нарочито снижаются. В результате конечной целью такого человека, смыслом его жизни становится вкусная и дешевая колбаса или гигантская общественная кухня, которые в поэтическом контексте явно трактуются как низменные устремле-
238 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа.
С. 81.
239 Там же. С. 81-82.
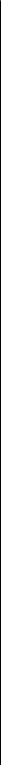

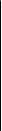
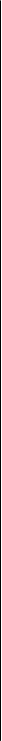 Модернизм
Модернизм
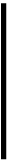 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
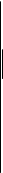 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||

|
ния. Экспрессивное отрицание таких позиций оказывается возможным благодаря орнаментализму, создающему особую систему координат, в которых традиционные ценности, воплощенные, например, в образе-символе черемухи, о которой мечтает Кавалеров, сталкиваются с явлениями, недостойными поэтического контекста (кухня, колбаса). Но и чувственность Кавалерова или Ивана Бабичева не является выходом из тупика, в котором оказалось общество, строящее Четвертак, по крайней мере, они совершенно бессильны перед ним, а машина Офелия — лишь плод воображения героя. И та и другая позиции трактуются ущербными. Возможен ли их синтез?
В романе Олеши синтез не намечается, да и вряд ли художник видел в этом свою цель. В его задачу входила, скорее, констатация неудовлетворительности и неполноты той и другой позиции, что характерно для экспрессионистической эстетики, направленной на выражение, как можно более зримое и гротескное определенной идеи. Модернистская эстетика лишь фиксирует несовершенство общественной жизни, ставит и заостряет проблему. Ее разрешение — задача эстетики реалистической.
(вместо заключения)
Некоторые итоги
В основном предметом размышлений в этой книге были два десятилетия: 1920-1930-е годы. Конечно же, мы с неизбежностью обращались и к более раннему периоду (началу века) и к последующему — вплоть до 1940-1950-х годов, когда, с одной стороны, политическое давление на литературу и любые другие сферы гуманитарной мысли достигло своего апогея, с другой — советская партийно-государственная политика практически исчерпала себя, оставаясь целиком в рамках прежней историко-культурной парадигмы, созданной в 30-е годы. Именно на переломе века — и хронологическом, и историко-культурном — в недрах литературного процесса формируется идеология эстетического и философского противостояния соцреалистическому канону. В качестве примера подобного противостояния можно рассматривать роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».
А что же было потом? Какое развитие получили те социокультурные тенденции, воплощение которых на уровне литературного процесса мы попытались описать? Как сложилась историческая судьба массового человека? Как продолжалось (и продолжалось ли) эстетическое бытие химерической культурной конструкции соцреализма? Как складывались судьбы собственно реалистической и модернистской эстетики? Как все это отразилось в конкретном литературном творчестве?
Положение массового человека, ощущавшего себя гегемоном революции и хозяином национальной исторической жизни в 20-е годы (бытие его отражено М. Булгаковым в «Собачьем сердце»; пороки, легко поддающиеся манипуляции О. Бендеру, показаны в «Двенадцати стульях»; наивная философия вскрыта М. Зощенко в рассказах и повестях 20-х годов, а бытийный трагизм — А. Плато-
Преодоление раскола
Некоторые итоги

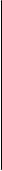
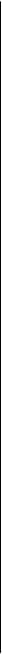
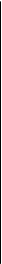
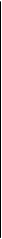
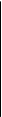
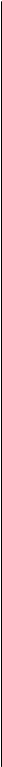 новым в романах «Котлован» и «Чевенгур»), к середине 30-х годов меняется. Мнимая власть, которой он якобы обладал над историей и культурой, концентрируется в руках партии, а затем и в руках ее лидера, И. В. Сталина. Он и становится главным «художником» советской эпохи, единым автором «монументального стиля», создающегося в рамках «Культуры Два». Но время от времени массовому человеку предоставляли возможность вновь испытать иллюзию сотворчества и сопричастности власти: главным образом в политических кампаниях травли писателей, где ему предоставлялась возможность выступить в жанре обличительного письма на газетной полосе. Классическим образчиком такого выступления стало «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.», опубликованное в газете «Социалистическая индустрия» в 1969 г. и направленное против либерального курса к тому времени оставшегося в полном одиночестве советского «оттепельного» журнала. Фразеологическим оборотом, вошедшим в современный русский язык, стала фраза массового человека «не читал, но осуждаю», произнесенная во время кампании травли Б. Пастернака и его романа «Доктор Живаго», удостоенного Нобелевской премии. Массовому человеку вообще удавалось говорить лапидарно. Вероятно, последним его афоризмом стала фраза «не могу поступиться принципами», произнесенная в начале горбачевской перестройки. Однако его роль в социокультурной ситуации последующего времени несопоставима с той, которую ему довелось сыграть в 20-е годы.
новым в романах «Котлован» и «Чевенгур»), к середине 30-х годов меняется. Мнимая власть, которой он якобы обладал над историей и культурой, концентрируется в руках партии, а затем и в руках ее лидера, И. В. Сталина. Он и становится главным «художником» советской эпохи, единым автором «монументального стиля», создающегося в рамках «Культуры Два». Но время от времени массовому человеку предоставляли возможность вновь испытать иллюзию сотворчества и сопричастности власти: главным образом в политических кампаниях травли писателей, где ему предоставлялась возможность выступить в жанре обличительного письма на газетной полосе. Классическим образчиком такого выступления стало «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.», опубликованное в газете «Социалистическая индустрия» в 1969 г. и направленное против либерального курса к тому времени оставшегося в полном одиночестве советского «оттепельного» журнала. Фразеологическим оборотом, вошедшим в современный русский язык, стала фраза массового человека «не читал, но осуждаю», произнесенная во время кампании травли Б. Пастернака и его романа «Доктор Живаго», удостоенного Нобелевской премии. Массовому человеку вообще удавалось говорить лапидарно. Вероятно, последним его афоризмом стала фраза «не могу поступиться принципами», произнесенная в начале горбачевской перестройки. Однако его роль в социокультурной ситуации последующего времени несопоставима с той, которую ему довелось сыграть в 20-е годы.
 2013-12-28
2013-12-28 726
726








