Ода
Занавес
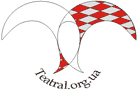
Из историй и теории жанра
Ода— один из главных жанров классицизма. Возникла она в античной литературе и представляла собой в ту пору песню с широким лирическим содержанием: могла воспевать подвиги героев, но могла рассказывать и о любви или быть веселой застольной песней.
Отношение к оде как к песне в широком смысле было сохранено во французском классицизме. В русской теории классицизма в понятие «ода» вкладывается уже более определенный, узкий смысл. Сумароков, Тредиаковский, а вслед за ними Державин, говоря об оде, имеют в виду лирическое стихотворение, воспевающее героев. В греческой поэзии ода была представлена Пиндаром, во французском классицизме — Малербом, в русской литературе — Ломоносовым.
Ода утверждается ими как жанр героической, гражданской лирики, с обязательным «высоким» содержанием и торжественным, «возвышенным» стилем его выражения. От оды как жанра высокой лирики они отличают собственно песню. Песня в их понимании — это лирическое стихотворение, посвященное только любви. Она не требует ораторского слога, характеризуется простотой и ясностью.
Ода как жанр высокой торжественной поэзии получает в литературе классицизма периода его расцвета преимущественное развитие. Это связано с тем, что эпоха, с которой было связано развитие классицизма, провозгласила торжество общих интересов над интересами личными. Торжественная ода со времен античности воспевала важнейшие события внешней или внутренней жизни государства. Именно поэтому жанр высокой оды больше отвечал задачам эпохи национального единения чем, к примеру, жанр любовной или застольной песни. Переживания человека, вызванные событиями его личной жизни — любовью, разлукой с близкими, их смертью,— были отодвинуты на второй план. Всеобщий интерес могли вызвать лишь те переживания поэта, в которых отражались события общенационального, общегосударственного масштаба.
Поэт-декабрист В. К- Кюхельбекер очень точно определил особенности высокой оды и считал обращение к жанру мерилом гражданственности поэта. Он писал в одной из своих статей: «В оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в супостатов, блажит праведника, клянет изверга». Поэт в оде — носитель общенационального сознания, выразитель мыслей и чувств эпохи.
Именно это сделало ее ведущим жанром гражданской поэзии классицизма, хотя она и сохраняла за собой особенности хвалебного произведения. В этом отношении ода классицизма перекликалась с одой античных поэтов.
Ода в классицизме была жанром строгой формы. Ее обязательным признаком был лирический беспорядок, предполагавший свободное развитие поэтической мысли. Обязательными для ее структуры стали и другие постоянные элементы:' похвалы определенному лицу, нравоучительные рассуждения, предсказания, исторические или мифологические образы, обращения поэта к природе, музам и др. Они входили в композицию оды независимо от ее основной темы и состаэляли особенность не только русской или французской оды/ Они были присущи и восточной, к примеру арабской,"
В этом отношении ода напоминала ораторскую речь: она должна была обладать той же степенью доказательности и эмоционального воздействия. Строилась ода, подобно ораторскому слову, из трех обязательных частей: приступа, т. е. введения темы, рассуждения, где эта тема развивалась с помощью примеров-образов, и краткого, но эмоционально сильного заключения. Каждая из трех частей имела свои особенности построения. Но в любом случае доводы в пользу главной мысли должны располагаться, по словам Ломоносова, «таким образом, чтобы сильные были напереди, которые послабее, те в середине, а самые сильные на конце».
Выработанная теоретиками классицизма поэтическая схема оды сохранялась на протяжении всего ее развития, начиная с творчества Ломоносова и кончая творчеством его последователей в конце XVIII—начале XIX века. И все-таки высокое совершенство русской оды определялось не тем, что авторы ее точно следовали внешней схеме, включали или не включали те или иные элементы в ее композицию.
Признаком настоящей поэзии является правдивая передача автором душевного волнения геронт. А это требует от поэта хорошего знания психологии человека и человеческих нравов, понимания того, как говорил Ломоносов, «от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается». Кроме того, слушатель, по мнению того же Ломоносова, проникнется тем же настроением, что и поэт, только в том случае, если последний «сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет»1. Поэтому непременным условием развития лирической темы в оде, как, впрочем, и в любом другом лирическом стихотворении, является искренность поэта, неподдельность его чувств.
Что касается построения оды, то восторг поэта не исключал тщательного обдумывания ее основных мотивов и соответствующих им композиционных частей. Не исключал он и обдумывания способов воздействия на слушателя, чтобы вызвать в нем ответные чувства. Однако все это должно было оставаться за пределами текста оды.
Сама же ода, обращенная к слушателям, сохраняла у подлинных мастеров характер свободной импровизации, когда одна мысль вызывала другую. Впечатление «лирического беспорядка», создававшееся таким развитием темы, было внешним. Поэт, переходя от одной мысли к другой, подчинял построение оды раскрытию главной идеи, главного чувства. Это и определяло композиционное единство всех ее частей, подобно драме или поэме. Именно поэтому оды разных авторов, имея много общего в построении, не повторяли друг друга. Их своеобразие, их несхожесть определялись личностью поэта, его взглядами на жизнь, его поэтическим мастерством.
Зарождение жанра высокой оды в России относится исследователями к концу XVI века. В XVII веке значительным фактом панегирической литературы стал сборник Симеона Полоцкого «Рифмологион»2. Дальнейшую разработку жанр оды получил в начале XVIII века у Ф. Прокоповича. Крупный церковный деятель, сподвижник Петра Первого, горячий патриот, Феофан Прокопович воспел в своих одах важнейшие события эпохи: Полтавскую победу, открытие Ладожского канала и др. С ним связана постановка в литературе темы Петра Первого как просвещенного монарха, строителя и героя. Она будет потом подхвачена Кантемиром, Ломоносовьш и другими поэтами — вплоть до Пушкина с его поэмами «Полтава» и «Медный всадник».
Русская ода классицизма создавалась на сплаве опыта / древнерусской, античной и европейской поэзии. Создавалась она применительно к условиям и задачам русской ^ национальной жизни XVIII века. Наиболее строгие образ- 1 цы жанра принадлежат Ломоносову. Сумароков в своих торжественных одах внешне следовал Ломоносову. Однако его оды отличались большей простотой и ясностью стиля, выявляли иные тенденции в развитии этого жанра.
Рассматривая историю русской оды, Ю. Тынянов справедливо видел два направления в ее развитии. Одно он связывал с именами Ломоносова, Петрова, Державина и видел его особенность в наличии витийственного начала, другое — с именами Сумарокова, Майкова, Хераскова, Капниста, у которых наметилось отступление от ораторских интонаций. Признавая существование разных стилистических тенденций в осмыслении и использовании жанра оды в русском классицизме, Ю. Тынянов вместе с тем считал, что «внесение в оду резко отличных средств стиля не уничтожило оды как высокого вида, а поддерживало ее ценность»1. Действительно, обращение к жанру поэтов-декабристов вернуло оде ораторские интонации. В дальнейшем она неизменно сохраняла за собой особенности жанра высокой поэзии.
 2013-12-28
2013-12-28 2724
2724








