Еще один вывод из того же основания. Раз мы имеем превышаемую и превышающую степень у противоположностей (простого и сложного, абстрактного и конкретного, формального и материального, тленного и нетленного и так далее), то, значит, невозможно прийти ни к чистой инаковости противоположных вещей, ни к совпадению двух в точности равных противоположностей: все состоящее из противоположностей располагается по степеням различия, одного имея больше, другого
==115
меньше и приобретая природу той из противоположных вещей, которая пересилила другую. На этом основании достигается рассудочное знание вещей: мы познаем, что в одной вещи сложность пребывает в некой простоте, в другой вещи—простота в сложности, в третьей тленность обнаруживается в нетленности, в четвертой наоборот и так далее, как мы разъясним в книге «Предположений», где об этом будет идти речь подробнее7. Но уже немногого сказанного достаточно, чтобы показать чудесную силу знающего незнания.
<ВСЯ ТЫ ПРЕКРАСНА, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОЯ...»

ПОСКОЛЬКУ мы празднуем праздник рождества Приснодевы и поем эти слова сегодняшнего песнопения1, наша беседа будет о красоте. Здесь первыми приходят на ум слова Дионисия2 из того места, где он говорит о красоте: надо заметить, что «добро» по-гречески называется кάλος, a «прекрасное»—кάλλς, как если бы доброе и прекрасное были родственны. К тому же греческое слово кαλώ значит «зову»; в самом деле, доброе зовет к себе и влечет, так же как и прекрасное3. Мы называем прекрасное еще благообразным от «образа», благовидным от «вида» и благолепным от «лепоты», то есть того, что лепо и пристойно; ведь пристойное приятно и прекрасно.
Если внимательно рассмотреть, то прекрасное мы постигаем, каждым по-своему, более духовными из наших чувств, через которые происходит и познание. Недаром мы говорим, что красивы бывают цвет и фигура, а также голос и речь,—стало быть, красоту каким-то образом постигают зрение и слух,—но мы не называем красивыми ни запах, ни вкус, ни что-либо только осязаемое; эти чувства не так близки разумному духу, они косные, неодухотворенные и принадлежат нашему животному существу. Конечно, всякое вообще человеческое чувство благороднее, чем у животных, от соединения с разумным духом,—более благородная сила облагораживает соединенное с ней, как солнечный луч освещает воздух,— но все же более тонкие чувства соединяются с умом прямее. Зрение тянется к прекрасной форме и цвету, а слух—к прекрасным согласиям, и это так у человека потому, что соразмерность, которой мы наслаждаемся в пропорциях, непосредственнее просвечивает через эти два чувства; хорошо упорядоченные и пропорциональные вещи, то есть такие, где в многообразии просвечивает единство пропорции или согласия, по той же причине приятны.
Суть красоты, говорит Дионисий, лежит как бы в созвучии различного4. Он рассуждает о том, что существуют некие исхождения Бога в творение, и благодаря их действию все сотворенное совершенствуется,
==116
уподобляясь Богу, потому что эти исхождения все собой формируют; так от первотепла идет все теплое. Первое исхождение, совершаясь в небесном уме, соответствует постижению истины. Эта истина потом теплеет и воспринимается в виде добра, после чего пробуждается влечение к ней. В самом деле, движению желания обязательно предшествует двоякое постижение: одно—отвлеченное понимание теоретическим разумом самой по себе истины, а второе—понимание практическим разумом распространения истины в•виде добра; только после этого возникает порыв влечения к добру. В толковании на Дионисия, которому принадлежат эти слова, Альберт Великий приводит пример: как врачебное искусство ничего не достигнет никакими трудами, если ему не поможет сила природы, так не проснется и влечение, если его не направит постижение истины.
Постижению истины в виде истины будет соответствовать исхождение света; постижению истины в виде добра будет соответствовать исхождение красоты; порыву желания будет отвечать исхождение приятного, или желанного, как по порядку излагает Дионисий. И помня, что Цицерон в первой книге «Об обязанностях» определяет прекрасное как благородное5, то есть влекущее нас своей внутренней силой и пленяющее достоинством, мы должны видеть в понятии прекрасного три стороны: во-первых, сияние формы,—будь то существенной или случайной,—проясняющее соразмерные и определенные части материи, как тело называется прекрасным от чистоты цвета, сияющей в пропорциональных членах6; во-вторых, способность пробуждать влечение к себе, а именно, поскольку прекрасное есть добро и конечная цель; в-третьих, способность собирать все воедино, единит же прекрасное цельностью своей формы, сияние которой и делает вещь прекрасной. Красота сама по себе есть то, существование чего является причиной всего прекрасного и творит всякую красоту. По своему субъекту7 прекрасное и благородное—одно и то же; они различны по своему виду или модусу: в виде красоты их общий субъект есть сияние формы, проясняющей пропорциональные части материи, или разные материи, или действия; а в виде благородного он есть то, что пробуждает влечение к себе.
Красота и прекрасное, по Дионисию, тождественны в Боге; ведь красота в Боге—первая и верховная, откуда природа красоты излучается во все прекрасное; форма всего прекрасного она потому, что делает все прекрасным, как белизна—белым. По Альберту, высшая и первая красота есть сущность Бога, которая есть сам Бог8.
Итак, во всем прекрасном, как мы говорили, есть согласие, или соразмерность, и ясность, или блеск,—согласие как субъект, ясность как сущность9. Добродетель несет в себе ясность, в силу которой она прекрасна, даже если никем не признана, потому что и тогда способна восприниматься как что-то блестящее; и недаром Цицерон называл прекрасное благородным. Поскольку прекрасное в своем субъекте сливается с добром, красота всем желанна; ведь добру присуще быть желанной целью, вызывающей к себе влечение, почему философ и определяет:
==117
добро есть то, к чему все стремится10. Благородное же—это то доброе, которое сверх того увлекает нас своей силой и достоинством.
Прекрасное, еще раз повторяет Дионисий, есть некий блеск и ясность, разлитые по соразмерным вещам; поскольку она последняя цель, то есть добро, красоте присуще звать к себе, поскольку форма—собирать и соединять; ведь форме свойственно собирать, потому что она соединяет и заключает в единую цельность развернутые во множество потенции материи. Красота, зависящая только от одной формы, совершеннее, чем то, красота чего складывается из многих форм; ведь чем меньшее число причин участвовало в совершенстве вещи. тем выше ее достоинство. Затем Дионисий говорит, что красота, поскольку она взаимообратима с добром,—причина движений духа, в той мере, в какой он движим влечением, а влечение и есть или собственно дух, или что-то принадлежащее к его сущности. Когда ангелу является красота добра, он жадно стремится открыть ее всем, а потом—как можно быстрее вернуться к наслаждению ею, так что здесь описывается круг: явление совершается в его центре; нисхождение откровения есть полет по прямой линии до крайних пределов сущего, или путь провидения; наконец, возвращение есть как бы отраженное движение, и в красоте добра круг замыкается. Как человек, обнаруживший сокровище, возможно быстрее сообщает другу свою радость, а потом возвращается, чтобы перечесть сокровище или насладиться им, так ангелы движутся круговым, прямым и обратным движением; и души движутся подобным же образом и столькими же движениями11. Как, когда Солнце светит взору, он благодаря ему видит разнообразные краски, но пожелав разглядеть сам солнечный свет, отвращается от всего окрашенного, так душа благодаря свету действующего ума видит отдельные вещи, но если хочет разглядеть сам свет, отвлекается от отдельного и обращается к первому свету. Это и будет круговым движением, по Альберту12. Взор—подобие человеческого ума, солнечное сияние подобно свету действующего ума, умопостигаемое подобно цвету. Таким же образом движение исходит от красоты первого начала и к нему же возвращается, потому что действующий ум делает все силой божественного света, мерцающего в нем. И когда потенциальный ум 13 воспринимает свет действующего ума и возвращается от отдельных вещей к себе самому, вглядываясь в себя, то первым, в меру своего понимания, он осознает в себе при этом то, что он воспринял и что своим действием дало ему существовать.
Движение всего чувственного совершается от красоты и к красоте, таково движение всякого роста, всех положений, образов жизни, чувств, души, природы, малости, величия, всех пропорций, смесей, свойств и всего вообще. Все, что существует, существует благодаря красоте и добру и через красоту и добро, к красоте и добру сводится; и все, что живет и возникает, по причине добра и красоты и живет и возникает. К доброму и прекрасному все обращено, все им движимо и хранимо, его силой и посредством него все приходит к бытию, и в нем всякое начало, от которого выводятся подобия. Словом, говорит в заключение Дионисий,
==118
все существующее существует в красоте и добре; и все еще не существующее сверхсущно заключено в красоте и добре, в котором начало и конец всего. А потом: прекрасное и доброе недаром всем желанно, всеми любимо и всех влечет; через него и благодаря ему низшее движимо любовью к превосходнейшему и от этого само в него превращается, равное дружелюбно прилепляется к подобному себе, высокое в любовной заботе соединяется с малым, а все в отдельности любит само себя ради своего продолжения и сохранения; и все, что творит и волит, и творит и волит силой влечения к прекрасному и доброму. Завершает же он так: с верой и с полным правом мы скажем, что творец всего по величию своей доброты все любит, все делает, все усовершенствует, все сохраняет, все исправляет. В обильном многообразии выражений славный Ареопагит учит нас, что одно и то же есть добро, к которому все стремится, и абсолютно прекрасное, то есть сама красота. Абсолютность добра и красоты он поясняет на примере Солнца, когда от чувственного света переходит к умопостигаемому свету, говоря, что этот свет действует в чувственной природе. Поистине прекрасно все, что он пишет о прекрасном.
Обратим и мы внимание на то, что, когда нашими более духовными чувствами, то есть зрением и слухом, мы п;тигаем высшую ступень красоты, наш разумный дух волнуется восхищением, его силы пробуждаются и он в разумном порыве устремляется к прекрасному, едва прикоснувшись к нему чувством, как человек, ощутивший кончиком языка сладкое, движим желанием напитаться им. Все в мире хочет добра, которое есть и прекрасное; к нему обращается всякая вещь сообразно своей природе—как существующая, как живущая или как разумная,—но умная природа, будучи по самой своей сути причастна природе доброго и прекрасного, ведь оно ее форма, не может ни питаться, ни жить иначе, как в потоке добра и красоты; поэтому жизнь ее—в добром и прекрасном, которое она созерцает и вкушает.
Опять-таки у всех живущих разумом существ мы находим способность суждения о прекрасном. Люди говорят: прекрасна эта вот округлая фигура, прекрасна эта роза, прекрасен тот кипарис, прекрасен этот вот напев. Ясно, что если бы судья, которым тут является ум, не имел в себе идеи прекрасного, свернуто содержащей всякую чувственную красоту, он не мог бы судить о прекрасных вещах, утверждая, что это вот прекрасно, а то—прекраснее. Таким образом, ум есть некая универсальная красота или идея идей, тогда как отдельные идеи или виды—это по-разному определенные красоты. Как огонь свертывает в себе форму и идею всего теплого, так ум есть сила, способная свертывать все умопостигаемые идеи. Ведь умная природа, будучи первым излучением прекрасного, поскольку она есть образ Бога, а он—сама красота, изначала свертывает в себе все природные красоты, развертывающиеся своими идеями и видами во вселенной.
Абсолютная красота, которая есть Бог, вглядывается в саму себя и воспламеняется любовью к самой себе. В самом деле, как смог бы быть
==119
высшей красотой источник всего прекрасного, которого все прекрасное заслуженно называет своим отцом, если бы сам не сознавал, что он прекрасен? Ведь понимание прекраснее чувства, поэтому бесконечная красота не может не знать себя; а если красота созерцает или понимает сама себя, то следствием может быть лишь совершенная любовь. Вот—троичность в единой сущности красоты: источник красоты рождает понимание красоты, откуда любовь14. Этот вот наш телесный глаз может увидеть сам себя только в зеркальном отражении; наоборот, дух не видит прочих вещей, если сначала не увидит сам себя, потому что все прочее он видит через себя, так что если бы зрение нашего глаза было умным пониманием, оно сперва видело бы само себя, а все остальное—в себе. Поистине умная природа знает, что она—умная, иначе она не была бы умной, и знать это есть видеть себя; уже потом она в себе видит все остальное умным видением, подобно тому как чувство постигает все ощущаемое чувственным образом.
Живая красота, божественная и вечная жизнь, та самая жизнь, которая есть Бог, пожелала явить свою славу, а это и есть форма красоты, и пожелала потому, что красота есть добро, добру же свойственно сеять самого себя. Так красота, зовя к себе ничто, чтобы оно, приобщившись к добру и красоте, явило божью славу, сотворила все. Красота влечет к себе; и вот все, привлеченное из ничто красотой, поскольку поднимается из ничто к красоте, постольку поднимается из ничто к бытию. Поэтому ничего не существует непричастного красоте, как и добру. Форма, дарующая бытие, есть таким образом не что иное, как причастность красоте, и ступени сущего располагаются по мере усвоения им красоты. Через акцидентальную красоту, к которой мы прикасаемся чувствами в покрове мира и внешних образах, мы приходим к красоте субстанциальной формы. Все существующее—произведение абсолютной красоты, сформированное по ее подобию, и это формирование совершается привлечением. Пророки говорят, что небесный Израиль поселится в красоте мира; в другом месте читаем о красоте праведности. Давид поет, что у Бога красота полей и что исповедание и красота перед лицом его'5. Отсюда мы можем вывести, что в царстве красоты заключено все прекрасное, какое только есть и может быть, и красота есть все бытие всего существующего, вся жизнь всего живущего и все понимание всякого ума. Как в единице свернуто содержится всякоз число, в числе—всякая пропорция и соразмерность, а в пропорции—всякая гармония, порядок и согласие, и значит, вся красота, которая светится в порядке, пропорции и согласии, точно так же, когда мы говорим, что Бог един, то это единое есть само сверхсущное единство, и тем самым красота, заключающая в себе все прекрасное16. Мы говорим также, что Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы: стало быть, свет этот—не что иное, как единство. И если бы существовало простое имя, означающее свет и единство, оно пристало бы Богу: оно заключило бы в себе всю красоту—и то, что в красоте материально, скажем, пропорция, и то, что в ней формально, скажем, блеск; первое потому, что единство, второе потому, что свет.
К оглавлению
==120
Что такое небесные силы, как не красоты в царстве Божьем? Сила велика постольку, поскольку прекрасна. Уродство не от царства красоты. Безобразие душ—уродство, искажающее форму их красоты; оно не от красоты, потому что от первой красоты может исходить только прекрасное и доброе. Безобразие—от приемлющих, благолепие—от дарителя форм. Если взор вглядится в царство красоты, он увидит, что красота всего прекрасного такова, что красота одного не затмевает и не умаляет красоту другого, поскольку сама по себе красота не исчисляется и не может быть малой или большой, но малы или велики прекрасные вещи в меру своего приобщения к красоте. Если видеть красоту Божьего царства или иерархии воинствующей церкви в царстве небесном, она явится там в своей чистоте как вознесенная над всяким пространственным или временным определением: красота истинной действительности вещей, мест, положений и всего в царстве красоты не иная, как духовная и вечная. Красота невинности, чистоты, юности, мужества, целомудрия, доблести и так далее, всего в отдельности,—это не путаные и разрозненные области, но прекрасные и упорядоченные в небесном царстве. Прекрасные обители в том царстве—это прекрасные добродетели, в них обитают красоты добродетельных душ, каждая в приличествующем ей сообразно добродетели месте. И двенадцать колен Израиля, то есть видящих Бога, в царстве Иерусалима, то есть видения мира, восседают в едином царстве сообразно месту каждого колена и питаются там красотой сообразно красоте своей добродетели.
В этом прекрасном мире—который потому и называется κοσμος— умный дух охотится за красотами добродетелей, которыми он украшает свою природную красоту. Любовь есть последняя цель красоты; красота хочет быть любима. Бог есть сама красота, поэтому он хочет быть любим. Но только красота его, самого по себе достойного любви, есть благодать; и поэтому абсолютную красоту не увидит никто без благодати. А наша забота должна быть о том, чтобы от красоты чувственных вещей восходить к красоте нашего духа, охватывающей все чувственные красоты; сознавая нашу красоту, восхищаться источником всякой красоты, подобие которой представляет эта наша; оставлять все безобразное, то есть грехи,—потому что сам дух наш свидетельствует об их безобразии, и это свидетельство называется совестью,—и стремиться к тому, чтобы наша красота в неослабной любви к красоте источника уподоблялась ей; ведь живая умная красота, созерцая или понимая абсолютную красоту, влечется к ней несказанным желанием, и чем жарче горит желание, тем больше она к ней приближается, все больше и больше уподобляясь этому своему прообразу. Желание, или любовь, постоянно изменяет любящего по образу любимого; это восхождение совершается благодаря влекущей силе красоты, или славы Бога. Потому что нет славы, кроме как в красоте его царства; быть в этой славе значит быть в видении красоты и соединяться с ней любовью. Также и слова нашего песнопения—«вся ты прекрасна, возлюбленная моя»,—надо толковать в отношении души, которая во всех своих способностях, в цельности и в
==121
полноте совершенства выходит без единого омрачающего пятна из юдоли бедствий и которую ее супруг, абсолютная красота, встречает прекраснейшим словом, а именно называя ее своей возлюбленной. Поистине душа, которая настолько любит красоту, что всю себя отдает красоте, так что в ней не найти темного пятна,—-такая душа как возлюбленная приходит в объятия первой красоты. Так что эти пять слов можно в широком смысле объяснить как слова царя красоты, который хочет иметь своей избранной возлюбленной только душу, всю и во всем, всем существом своим прекрасную и томящуюся любовью. Потом эти слова прилагаются к славной приснодеве Марии, которая выше всех, вполне и совершенно прекрасна всяким образом красоты. Она от начала своего существования отдала себя в супруги абсолютной красоте; она прежде всех была привлечена высшей красотой как возлюбленная ее; и, украсившись красотами всех добродетелей, она ближе, чем все дщери иерусалимские, по жребию занимающие места вокруг Иерусалима, поднялась, как матерь истинного Соломона, к солнцу царя красоты,—царя красоты вечного мира. К ней мы и обращаемся, движимые благоговением, чтобы, зная нашу немощь, она молилась за нас вечно благословенному сыну своему Иисусу.
Так скажем мы здесь о красоте.
ПРОСТЕЦ О МУДРОСТИ
А ПЛОЩАДИ в Риме к пышному ритору подошел бедный простец1 и, дружелюбно улыбнувшись, заговорил с ним так: 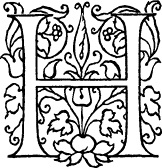
ПРОСТЕЦ. Удивляюсь твоей важности: изучая в непрестанных трудах и занятиях бесчисленные книги, ты не пришел к смирению. Это, конечно, потому, что наука мира сего, в которой ты надеешься превзойти всех, есть некое безумие у бога, и она надмевает; а истинное знание смиряет2. Мне хотелось бы, чтобы ты пришел к нему, ведь в нем сокровище радости.
РИТОР. Как самонадеянно ты, бедный простец и совершенный невежда, принижаешь словесные занятия, без которых нет совершенства!3
ПРОСТЕЦ. Не самонадеянность, славный ритор, мешает мне молчать, а жалость: вижу, что ты отдался в поисках мудрости огромному пустому труду, и если смогу удержать тебя от него, так чтобы ты и сам увидел свою ошибку, ты, думаю, порадуешься спасению из старой сети4. Тебя увлекло мнение авторитета, и ты уподобился коню, который волен по природе, но хитро привязан за узду в конюшне, где ест только то, что ему дадут. Ведь твой разум, прикованный к авторитету писателей, питается чужой, а не естественной пищей5.
РИТОР. Если пища мудрости не в книгах мудрецов, то где же?
==122
ПРОСТЕЦ. Я не говорю, что там ее нет; я говорю, что там нет естественной пищи. Люди, которые первыми начали писать о мудрости, выросли не на книжной пище, которой еще не было, они стали совершенными мужами6 на естественном питании; но далеко превзошли мудростью прочих, которые думают, что достигли совершенства благодаря книгам.
РИТОР. Хотя допускаю, что без книжного учения можно что-то познать, однако вещи трудные и великие—ни в коем случае; недаром науки возросли путем постепенного приращения.
ПРОСТЕЦ. Вот я и говорю: ты идешь за авторитетом и обманываешься. Кто-то написал слово, и ты веришь. Я же тебе скажу: мудрость возглашает на улицах и площадях, и голос ее о том, что она живет в вышних7.
РИТОР. Как слышу, хотя ты простец, но считаешь себя мудрым.
ПРОСТЕЦ. Вот, пожалуй, разница между тобой и мной: ты, не будучи знающим, считаешь себя им и потому гордишься, а я знаю, что простец, и потому смиреннее тебя. Тут я, возможно, оказываюсь умнее8
РИТОР. Как могло случиться, что ты пришел к знанию своего незнания9, если ты простец?
ПРОСТЕЦ. Не из твоих, а из Божьих книг.
РИТОР. Что это за книги?
ПРОСТЕЦ. Те, которые он написал своим перстом.
РИТОР. Где они?
ПРОСТЕЦ. Повсюду.
РИТОР. Значит, и на этой площади?
ПРОСТЕЦ. Вот именно! Я как раз и сказал, что мудрость возглашает на площадях.
РИТОР. Я бы хотел услышать, как.
ПРОСТЕЦ. Если бы я увидел, что ты увлечен, а не просто любопытствуешь, то рассказал бы тебе что-то важное.
РИТОР. Можешь в краткое время дать мне уловить твою мысль?
ПРОСТЕЦ. Могу.
РИТОР. Тогда прошу, войдем в эту ближайшую лавку цирюльника, чтобы поговорить спокойнее сидя.
Простец согласился. И когда они вошли в лавку и сели лицом к площади, он начал свою речь словами: ПРОСТЕЦ. То, о чем я тебе уже сказал,—что «мудрость возглашает на площадях, и голос ее о том, что сама она живет в вышних»,—попробую показать тебе теперь так... Вот сначала скажи мне: что, замечаешь ты, Делают на этой площади?
РИТОР. Вижу, что там считают деньги, в другом углу взвешивают Товар, напротив мерят масло и прочее.
ПРОСТЕЦ. Все это—действия того разума, которым люди превосходят животных; ведь животные не умеют считать, взвешивать и мерить. Теперь подумай, ритор, через что, в чем и из чего это делают, и скажи мне.
==123
РИТОР. Через различение.
ПРОСТЕЦ. Верно. Но через что различение? Не через единое ли ведется счет? 10
РИТОР. Как это?
ПРОСТЕЦ. Не так ли, что единица—это единожды единое, два— дважды единое, три—трижды единое, и так далее?
РИТОР Да.
ПРОСТЕЦ. Значит, каждое число возникает через единое?
РИТОР. Видимо, так.
ПРОСТЕЦ. И как начало счета—единое, так начало взвешивания—минимальный вес, а начало измерения—минимальная мера. Такой вес называется унцией, а мера—петитом". Не правда ли, что как через единое исчисляют, так через унцию взвешивают, а через петит мерят? И точно так же: от единого счет, от унции взвешивание, от петита измерение. И опять-таки: в едином счет, в унции взвешивание, в петите измерение. Не так ли?
РИТОР. Конечно.
ПРОСТЕЦ. Через что же постигается единое, через что—унция, через что—петит?
РИТОР. Не знаю. Знаю только, что единое не постигается числом, потому что число после единицы; так же и унция не постигается весом, а петит—мерой.
ПРОСТЕЦ. Прекрасно, ритор. В самом деле, как простое" по природе прежде сложного, так сложное по природе позже простого"; поэтому сложное не может измерить простого, а только наоборот. Отсюда и выходит, что то, через что, из чего и в чем исчисляется все исчислимое, непостижимо числом, а то, через что, из чего и в чем взвешивается все весомое, непостижимо через вес. Равным образом и то, через что, из чего и в чем измеряется все измеримое, непостижимо мерой.
РИТОР. Ясно это вижу.
ПРОСТЕЦ. Перенеси теперь этот голос мудрости, возглашающей на площадях, в вышние, где мудрость имеет свое жительство, и обнаружишь вещи, намного более сладостные, чем во всех твоих великолепнейших книгах.
РИТОР. Не понимаю; разве что объяснишь, что хочешь всем этим
сказать.
ПРОСТЕЦ. Говорить не смею, потому что тайны вечной и несотворенной премудрости нельзя открывать походя каждому14; разве что попросишь от всего сердца.
РИТОР. Очень хочу тебя слушать и загораюсь уже от малого, сказанного тобой. Твое начало обещает что-то важное в дальнейшем. Поэтому прошу, продолжай.
ПРОСТЕЦ. Не знаю, можно ли открывать такие тайны и показывать, как проста такая возвышенная глубина; но не могу не выполнить твою просьбу... Вот, брат: высшая мудрость в том, чтобы знать, по подобию сказанного выше, что непостижимое постигается непостижимо.
==124
РИТОР. Ты говоришь чудно и несообразно.
ПРОСТЕЦ. Вот поэтому и нельзя многим сообщать сокровенное: оно им кажется несообразным, когда его показываешь. Тебя удивляет, что я сказал что-то противоречивое; послушай, и вкусишь истину. Я говорю только, что так же, как сказано выше о едином, унции и петите, надо сказать в отношении всеобщего начала всех вещей в мире; ведь это всеобщее начало и есть то, через что, в чем и из чего начинается все, что может начаться, но его нельзя постичь через что бы то ни было, имеющее начало; и оно же есть то, через что, в чем и из чего понимается все умопостижимое, но его разум не постигает; и, равным образом, оно—то, через что, в чем и из чего говорится все, что можно сказать, но само оно несказанно; и точно так же оно—то, через что, в чем и из чего определяется все определимое и кончается все конечное, но само оно не определяется никаким пределом и не кончается никаким концом. Можно составить бесчисленные подобные справедливейшие суждения и наполнить ими все твои риторические томы и другие к ним добавить без числа, чтобы ты увидел, что мудрость жительствует в вышних. В самом деле, ведь вышнее есть то, выше чего не может быть. Но только бесконечность есть такая высота. Поэтому, хотя все люди по природе стремятся к знанию и страстно ищут мудрость, она познается только так, что она выше всякого познания, и не постигается, и никаким словом не выражается, и никаким умом не понимается, и никакой мерой не измеряется, и никаким концом не кончается, и никаким пределом не определяется, и никакой пропорцией не соразмеряется, и никаким сравнением не сравнивается, и никаким очертанием не очерчивается, и никаким образом не изображается; и во всяком движении она недвижима, и во всяком воображении невообразима, и во всяком ощущении неощутима, и во всяком влечении неувлекаема, и во всяком вкусе невкушаема, и во всяком слышании неслышима, и во всяком видении невидима, и во всяком восприятии невоспринимаема, и во всяком утверждении неутверждаема, и во всяком отрицании неотрицаема, и во всяком сомнении несомненна, и во всяком мнении немнима. И поскольку во всякой речи она неизреченна, невозможно помыслить конца всем этим выражениям, потому что ни в каком помышлении не помыслимо то, через что, в чем и из чего все вещи.
РИТОР. Поистине это выше того, что я ожидал от тебя услышать. Прошу, продолжай вести меня туда, где я мог бы с еще большим наслаждением вкусить вместе с тобой крупицу этих высших созерцаний: вижу, с какой ненасытимостью ты говоришь об этой мудрости, и думаю, что это в тебе действует высшее наслаждение, которое не влекло бы тебя так, если бы ты не вкушал его внутренним вкусом16.
ПРОСТЕЦ. Это—вкус мудрости, сладостнее которой нет ничего для разума. И никак нельзя считать мудрыми тех, в чьих речах только слова, но нет этого вкуса. А со вкушением говорят о мудрости те, кто знает, что через нее—все, но так, что она—ничто из всего; ведь всякий внутренний вкус через мудрость, из нее и в ней, сама же она, жительствуя в вышних, не вкушаема никаким вкушением, поэтому вкушается она невкушаемо,
==125
будучи выше всего вкушаемого: чувственного, рассудочного и умного. Вкушать невкушаемо и в отдалении—это подобно тому как какой-нибудь запах можно назвать предвкушением невкушаемого: как запах, расходящийся " от пахнущего предмета, будучи воспринят в ином, влечет нас тянуться к нему,—например, при запахе от благовония мы тянемся к этому благовонию,—так вечная и бесконечная мудрость, отражаясь во всем, влечет нас в каком-то предвкушении ее плодов. Чудное стремление тянет нас к ней. Поскольку она есть духовная жизнь ума, несущего в себе какое-то врожденное предвкушение ее, в силу которого он с такой страстью разыскивает этот источник своей жизни,—а без предвкушения не искал бы, и даже если бы нашел, не знал бы, что нашел,—то он и тянется к ней как к своей собственной жизни, и сладостно каждой душе постоянно восходить к началу, пусть недостижимому, своей жизни. Жить все счастливее—ведь это и значит восходить к жизни. И когда ищущий свою жизнь начинает видеть, что это—жизнь бесконечная, он тем больше радуется, чем яснее видит, что его жизнь бессмертна. Тогда получается, что недоступность или непостижимость его бесконечной жизни делается его желаннейшим постижением,—как если бы человек имел сокровище своей жизни и пришел к пониманию того, что это его сокровище неисчислимо, неоценимо, неизмеримо. Знание непостижимости есть радостное и самое желанное постижение,—конечно, когда оно относится не к постигающему, а к самому желанному сокровищу жизни; так, если кто-то любил бы какую-нибудь вещь за то, что она достойна любви, то ему было бы радостно находить в любимой вещи бесконечные и невыразимые основания для любви. Самое радостное постижение любящего—когда он постигает, что желанность любимого непостижима: ведь если любить любимое за что-то понятное, радость ни в коем случае не будет так велика, как если сознавать, что желанность любимого совершенно неизмерима, бесконечна, беспредельна и непостижима. Есть радостное постижение непостижимости и сладость умудренного незнания в том, чтобы каким-то образом знать это, не зная в точности, как.
 2020-05-25
2020-05-25 138
138








