До 1994 года все еще оставалось неясным, кто же меня выдал, когда же, наконец, все прояснилось, то оказалось, что этот человек заработал на мне шестьдесят четыре тысячи долларов. В течение нескольких лет главными подозреваемыми оставались в моих глазах четыре человека. Одним из них была Елена. Она присутствовала при моей первой встрече с Ласло — венгром, явившимся по заданию англичан ко мне на квартиру в Копенгагене, — и, как я опасался, могла ненароком обмолвиться об этом в посольстве, что, естественно, должно было бы насторожить КГБ. Другим подозреваемым был Майкл Бэттани. Я не исключал того, что, пронюхав каким-то образом, что это мне он обязан тюремным заключением, Бэттани каким-то образом навел КГБ на мой след. На роль третьего предполагаемого виновника моего разоблачения как английского агента вполне подходил Эдуард Ли Говард — бывший сотрудник ЦРУ, перешедший в 1985 году на сторону Советского Союза: ему также могло быть известно о том, кем я являлся в действительности. Наконец, имелось еще некое анонимное лицо, через которое могла произойти утечка информации во время судебного процесса над норвежским шпионом Арне Трехолтом, проходившего в начале 1985 года.
Впрочем, нельзя было сбрасывать со счетов и еще одну вещь. По целому ряду причин западногерманская служба безопасности интересовалась моей персоной, в связи с чем обратилась однажды к датчанам с запросом, являюсь ли я полностью идентифицированным сотрудником КГБ или нет. Датчане ответили, что я был им, когда работал в Копенгагене. Но ранее, в 1982 году, та же датская служба безопасности, желая помочь англичанам, которые стремились без всяких помех выдать мне въездную визу, с тем чтобы я смог работать в Лондоне, официально сообщила им, что я не вхожу в число полностью идентифицированных сотрудников КГБ. Возможно, на данное противоречие обратили внимание внедренные в соответствующие учреждения тайные агенты восточногерманской Штази и через Берлин сообщили об обнаруженной ими странности в Москву.
Однако впоследствии мы убедились в несостоятельности всех этих догадок и предположений, и, таким образом, вопрос о том, кому или чему обязаны мы моим провалом, так и оставался еще долгое время открытым, несмотря на все усилия английских спецслужб докопаться до истины.
Но всему, как известно, приходит конец, в том числе и неведению. Предавшим меня Иудой оказался сотрудник американской разведки Олдрич Эймс. Известный своим коллегам как Рик, он в начале 1994 года был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и приговорен затем к пожизненному заключению. В 1989 году я дважды встречался с ним, не подозревая о том, что 18 мая 1985 года, через день после того, как я был вызван в Москву на допрос, он получил свои первые десять тысяч долларов в качестве платы за то, что направил КГБ по моему следу.
Будучи старшим сотрудником контрразведки, занимавшимся Советским Союзом, он присутствовал на нескольких беседах, которые проводились со мной в ЦРУ, и, вынужден признаться, произвел на меня благоприятное впечатление. У него была благородная внешность, и я считал его воплощением открытости, честности и благопристойности, которые, как считают многие из нас, характеризуют американскую нацию. Чего я не мог, однако, знать, так это того, что он был посредственным оперативником и, кроме того, запутался в своих личных делах: разошелся с первой женой, запьянствовал и связался с колумбийкой на одиннадцать лет моложе его, отличавшейся чрезмерной тягой к роскоши. К 1985 году он был уже по уши в долгах и остро нуждался в деньгах.
И вот в этот самый момент сотрудник КГБ, работавший на него, решил с полным на то основанием, что дождался, наконец, своего звездного часа, заявил своему «хозяину», что отныне они меняются ролями и теперь Эймсу придется работать на него, а не наоборот, как было прежде. Ясно, что при этом заблудшему янки было обещано солидное вознаграждение со стороны КГБ, в обмен на которое от него желали получить на первых порах хоть какую-то действительно ценную информацию.
К счастью для него, он оказался в состоянии дать КГБ как раз то, что и требовалось. Англичане на протяжении нескольких лет добросовестно делились с американцами исключительно важной информацией, которой я их снабжал, и, вероятно, ЦРУ со свойственной ему педантичностью сложило все полученные им документы в одну папку. Эймс, заглянув в это досье, сообщил курировавшему его советскому разведчику, что на англичан работает некий осведомитель, имеющий доступ к сверхсекретным материалам КГБ, но кто именно, этого, слава Богу, сказать он не смог. Когда же он или, возможно, кто-то еще, уже в Копенгагене, добавил к этой информации, что «данное лицо» связано самым непосредственным образом с датчанами, КГБ, проанализировав полученные им сведения, вышел на меня.
Я считаю, что мне крупно повезло. Да, Эймс разрушил мою карьеру, подпортил мне жизнь, но все-таки не убил меня, тогда как несколько других бывших сотрудников КГБ, также выданных им, нашли смерть от его же руки. К 21 февраля 1994 года, когда ФБР арестовало Эймса и его вторую жену, он получил от советской стороны свыше двух миллионов долларов. Я нисколько не сомневаюсь, что у него не дрогнул бы ни один мускул на лице, если бы меня казнили по его милости. Я помню, как во время совещаний в ЦРУ он не смущаясь, нагло смотрел мне в глаза, мне — человеку, которого он предал.
Эймс, переходя на другую сторону, руководствовался сугубо корыстными интересами, я же в подобной ситуации руководствовался исключительно идейными и нравственными соображениями. Я уже упоминал выше, что одно из выдвинутых мною условий сотрудничества с англичанами заключалось в моем абсолютном бескорыстии, и, хотя впоследствии, после того как я тайком перебрался в Англию, английское правительство, взяв меня под свою опеку, проявило необычайную щедрость, материальные выгоды никогда не были для меня побудительным мотивом. Мои действия диктовались не стремлением к личному обогащению, а той ненавистью и презрением, которые я питал к тирании, являющейся неотъемлемой чертой коммунизма. Самим ходом истории подтвердилась моя правота: советский общественный строй не способен обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.
В Англии неизгладимое впечатление произвел на меня высочайший уровень профессионализма, отличавший всех без исключения людей, с кем довелось мне вместе работать и в различных подразделениях Национальной службы безопасности, и в министерстве иностранных дел. Сотрудники указанных учреждений — и мужчины, и женщины — получили отличное образование, тонко разбирались во всем, что касалось сферы их деятельности, и, обладая высоким интеллектом, быстро, интуитивно, я бы сказал, — схватывали все, что им говорили, и глубоко вникали в суть проблем, тревоживших их собеседников. Я уверен, что то, что посчастливилось мне наблюдать, — не один лишь результат хорошей профессиональной подготовки, а проистекает скорее всего из прирожденных свойств их натуры. Что же касается идеологии, то, на мой взгляд, сотрудники служб безопасности и разведчики обладают значительно более широкими познаниями и более трезвым подходом к проблемам современности, чем остальное население страны, поскольку даже сейчас многие англичане, как представляется мне, все еще слепо верят в коммунизм и по-прежнему не замечают того зла, которое он несет с собой. Офицеры, с которыми я сталкивался по работе, всегда помнили о своем долге и о той огромной ответственности, которая на них лежит. Подчас у меня возникало ощущение, что сама интуиция безошибочно выводит их на единственно правильное решение, отвечающее интересам страны. И еще одно: они никогда не боятся самостоятельно принимать решения, не прибегая к консультациям с начальством, что также принципиально отличает их от их же коллег в Советском Союзе.
В первые дни моего сотрудничества с англичанами я испытывал огорчение оттого, что ни один из тех, с кем я был напрямую связан, не говорил свободно по-русски, и лишь впоследствии мне стало известно, что среди сотрудников спецслужб имеется немало блестящих лингвистов, чем разительно они отличаются от остальной части населения. Я знаю, например, одного сотрудника, который свободно владеет и арабским, и польским, и еще одного, одинаково бойко изъясняющегося и на французском, и на немецком, и на финском. Для курировавшего меня офицера Эндрю не представляло никакой сложности перейти в разговоре со своим собеседником на любой из пяти языков: немецкий, русский, чешский, сербскохорватский и шведский.
Однако больше всего поразили меня в англичанах их неизменные учтивость и доброжелательность. Поскольку они не предвидят от встречи с вами чего-то нежелательного и потому априори считают вас хорошим человеком.
И это тоже совсем не похоже на то, что всегда наблюдалось в Советском Союзе, где суровая, трудная жизнь настолько огрубила, ожесточила и измотала граждан, что они живут в постоянном страхе перед очередными напастями и боятся стать жертвами чьей-то злобы или, по крайней мере, сарказма. Я и сам был подвержен подобным комплексам, всегда настороже, готовый ответить ударом на удар. Поэтому, оказавшись в Англии, я несколько раз повел себя самым непозволительным образом: заранее ожидая какой-нибудь нелицеприятной или саркастической реплики в свой адрес, я бывал резок порой в разговоре с друзьями, пока не понял, наконец, что никто не собирается меня обижать или ставить в неловкое положение, что все настроены дружелюбно.
Другой характерной чертой англичан, как мне представляется, является чувство ответственности или обязательность, невмешательство в личную жизнь и терпимость, уважение к иностранцам. Ни в одной стране мира, если не считать Новой Зеландии, да и то лишь с известной натяжкой, не наблюдается столь высокой культуры поведения, как в Англии, — вежливость, обходительность и чувство такта англичан общеизвестны. Мне не раз приходилось убеждаться также и в искренности и непосредственности англичан, не утративших еще способность любоваться такими обыденными вещами, как плывущие по небу облака, солнечный закат, море, не говоря уже о цветах или пейзажах. Я не сомневаюсь, что такими же точно людьми были и мои соотечественники в России девятнадцатого века, но коммунизм разрушил все, что было, и вверг людей в столь ужасные условия, что им уже стало не до сантиментов или любования природой.
Конечно, если подойти к англичанам с позиций значительной части российского населения, то им свойственно и немало причуд, таких, например, как озабоченность достоинствами и недостатками хвойных и широколистных деревьев, цветущей желтыми цветами сурепицы, серых белок и канадских гусей. Однако только в процветающем обществе, не озабоченном какими либо серьезными проблемами, люди могут волноваться из-за таких в общем-то мелочей. В связи с этим мне невольно приходит на память один сельский житель в Норфолке, который при встрече со мной пожаловался на то, что жить становится изо дня в день хуже и хуже, И все потому, что повсюду открываются неизвестно зачем ресторанчики и вдоль улиц устанавливают рядом фонари. Если бы ему довелось пожить хотя бы пару-другую недель где-нибудь в российской глубинке, он бы, не сомневаюсь, по-иному заговорил, и то, на что он сейчас сетовал, показалось бы ему пределом мечтаний.
А чего не любят англичане? Что вызывает их неудовольствие? Да сущие пустяки! Об этом, в частности, можно судить по некоторым их досадливым репликам. Например: почему третья радиопрограмма прекращает вещание вскоре после полуночи? Почему люди никак не научатся правильно держать вилку? Почему во время званых обедов разговор на серьезные темы откладывается до кофе; ведь люди к тому времени настолько устают, что уже ничего не соображают.
Оглядываясь назад, я ничуть не сожалею по поводу сделанного мною выбора в пользу Запада. Напротив, я сожалею только о том, что не сделал этого раньше, сразу же после вторжения советских войск на территорию Чехословакии в 1968 году. Это событие предопределило дальнейшее течение моей жизни, и как хотелось бы мне теперь, чтобы я тогда же выполнил свой долг. Кроме того, я с болью в сердце думаю о том, что позволил КГБ перехитрить себя в 1985 году. Обрушившаяся на меня беда не только разрушила мое семейное счастье, но избавила меня от работы в КГБ. Я же между тем не прочь был служить там до тех пор, пока Горбачев будет находиться у власти, поскольку это позволило бы мне, разъясняя Западу специфику происходящих в Советском Союзе перемен, содействовать сближению двух столь разных миров.
Но больше всего я скорбел и страдал оттого, что столь долгое время был оторван от семьи. Шесть долгих невосполнимых лет я лишен был возможности видеть своих дочерей. Самое же худшее заключалось в том, что наш брак — союз двух сердец — не выдержал испытания разлукой. В течение всех этих шести лет у каждого была своя жизнь, и, как я ни старался потом вновь связать воедино наши жизни, это оказалось невозможным. КГБ все делал для того, чтобы настроить Лейлу против меня. Не гнушаясь заведомой ложью, его сотрудники внушали ей, будто я увлекся молоденькой секретаршей и прочие-прочие вещи, призванные отвратить ее от меня. Решительно отвергая подобные измышления как сущий вздор, она, тем не менее, не знала, верить или нет тому, что ей говорили, но, как бы то ни было, это глубоко травмировало ее.
Она, безусловно, страдала еще и оттого, что я скрыл от нее в свое время, что работаю на англичан. Хотя сама она никогда не заговаривала об этом, я убежден, что она расценила это как явное недоверие к ней с моей стороны и считала — вполне справедливо, кстати, — что я попросту обманул ее. К тому же она придерживалась того мнения, что жениться и заводить детей, подвергаясь ежечасно огромному риску, — жестоко и безответственно. В том тяжелейшем положении, в котором оказалась она — женщина, брошенная на произвол судьбы мужем, к тому же изменником родины, которой стали чураться ее прежние друзья, — многое что могло прийти ей на ум, и если она не прониклась враждебностью ко мне, то это вовсе не значит. что у нее не появилось желания наказать меня за все причиненные мною страдания и муки.
Когда я начал ей звонить, то понял из ее слов, что ей очень хотелось бы побыстрее приехать ко мне в Англию, чтобы мы смогли, наконец, воссоединиться. Впоследствии, однако, мне стало ясно, что больше всего она хотела покинуть Советский Союз, где жить стало просто невозможно. Она хотела, чтобы у наших детей было более светлое будущее, чем то, на которое они обречены в Советском Союзе. Она хотела, чтобы дочери получили превосходное образование. И еще она хотела, чтобы, перебравшись на Запад, могла все же время от времени посещать Россию. Но это — не все. Ей хотелось также, приехав в Англию, дать мне понять, что она не тихая, смиренная жертва каких бы то ни было обстоятельств, а человек с твердым, решительным характером, способный постоять за себя, высказать мне все, что она думает по поводу случившегося, и, возможно, доказать, что всегда и во всем я был не прав.
Лейла прилетела в Лондон в воинственном настроении духа и, не скрывая своей враждебности, стала чуть ли не с порога требовать от меня объяснений и оправданий. Хотя это и не вызвало у меня особого восторга, я тем не менее надеялся, что она успокоится и постепенно все уладится. Я старался преодолеть ее отчужденность изъявлением любви к ней и детям. Мы совершали поездки за рубеж: в Америку, Рим, на Канарские острова.
Я одаривал девочек дорогими вещами, вроде тех же компьютеров. Они же, в свою очередь, воспринимали меня как некую важную персону, и только. Как я ни старался, они не видели во мне отца, и в конце концов, я вынужден был признать, что, живя вдали от меня, они были так привязаны к матери, что я, несмотря на все старания, так и оставался для них посторонним человеком. Лейла же со своей стороны не предпринимала каких-либо усилий, чтобы изменить такое положение вещей.
В конце концов я вынужден был признать, что, какие бы прекрасные чувства ни питала Лейла ко мне когда-то, мои собственные действия, длительная разлука и происки КГБ до основания разрушили их, и, таким образом, нас уже более не связывало ничто, что могло бы оправдывать наше совместное проживание. Поэтому в 1993 году я обратился к адвокату, чтобы он, проделав все, что положено в таких случаях, разрубил, наконец, гордиев узел. Мы оба — и Лейла и я — оказались, как думаю я, жертвами «холодной войны», изматывавшей души и ставившей порой людей в невыносимые условия.
Все это — издержки моей работы на Запад. Что же касается плюсов, то к ним относится, в частности, то, что моя жизнь теперь стала значительно более интересной, чем в ту пору, когда я служил в КГБ. Я смог, как и хотел, внести свой вклад в ослабление позиций советской коммунистической системы и сокращение ее возможностей подрывать устои Запада. Я никогда не осмеливался даже мечтать, что данная система рухнет чуть ли не в одночасье, как это, однако, случилось, и ни в коем случае не считаю, что то, что я делал, могло каким-то образом ускорить ее конец. И тем не менее я испытываю глубокое удовлетворение от сознания того, что развернувшиеся на моей родине события подтвердили мои выводы о том, что советский строй в основе своей губителен, в чем Запад теперь убедился воочию.
Что касается отношения ко мне в России, то я никогда не надеялся, что там меня поймут или оценят. Главное, что я всегда поступал по совести и был честным по отношению к Западу. После семидесяти лет упорной и массированной коммунистической пропаганды советские люди столь глубоко прониклись идеями коммунистической доктрины, что стали считать ЦК КПСС и КГБ олицетворением государственной власти, и каждый, кто выступал против них, автоматически становился врагом народа. При таком положении вещей я никак не мог рассчитывать на то, что кто-то из моих соотечественников поймет меня, наконец. Полагать же, что у меня на родине настанут когда-нибудь такие времена, что я смогу получить отпущение всех моих мнимых грехов, мне и вовсе казалось чистейшим безумием. Однако после внезапного крушения коммунизма многое изменилось. Кое кто из тех, кому были известны обстоятельства дела, стали оправдывать мою линию поведения, и с 1990 года один или два журналиста одобрительно отозвались обо мне в газетных публикациях.
В то же время нашлись и такие, кто обрушился на меня со злобными нападками, — и не потому, что им не нравилось то, что я совершил, а лишь в силу того, что самим им так и не удалось содеять чего-либо путного. Поскольку им очень хотелось бы оказаться в моем положении, они бесновались от зависти и злобы.
Я по-прежнему убежден, что пойти на сотрудничество с Западом — это единственное, что оставалось мне сделать, если я не хотел изменить чувству долга. Работая в КГБ, я часто задавался вопросом: почему так мало сотрудников таких учреждений, связанных с советской внешней политикой, как КГБ, ГРУ и Министерство иностранных дел, перешло в другой лагерь? Главная причина этого, по моему мнению, вполне очевидна и состоит в том, что советская система проявила исключительную эффективность в деле подбора кадров для работы за рубежом или промывания мозгов. Непосредственно этим занимались и различные подразделения КГБ, включая те же отделы кадров, и имевшийся при Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза особый отдел кадров — только для загранработников. Все эти громоздкие аппараты успешно справлялись с поставленной перед ними задачей. По той или иной причине те, кто направлялся на работу за рубеж, не собирались, как правило, переходить на другую сторону ни по идеологическим соображениям, ни по каким-либо другим. Одних удерживало то, что у них оставалось на родине изрядное число ближайших родственников, служивших, фактически, заложниками. У других, при всем их интеллекте, имелись шоры на глазах, и если они и стремились к успеху, то только у себя на родине, мысль же о том, чтобы опубликовать книгу за рубежом или сотрудничать с правительством иностранного государства, их никак не прельщала.
Примером последнего типа людей может служить Михаил Любимов. Несмотря на присущую ему высокую культуру и глубокую любовь к Англии, ее литературе и традициям, он продолжал сохранять верность многим безумным левацким идеям. В 1976–1977 годах, уже отслужив в Лондоне, он все еще всерьез рассуждал о Троцком и вопреки тому, что видел на Западе, лелеял мечту стать генералом КГБ. У него было два совершенно несовместимых желания: во-первых, занять видное место в литературных кругах, прослыв человеком, способным на память читать лучшие образцы английской поэзии, и, во-вторых, получить звание генерала и войти в состав кагэбэшной элиты.
На протяжении последних тридцати с лишним лет перешло в другой лагерь, как мне представляется, человек пятнадцать. Большинство моих соотечественников решились на этот шаг по весьма банальным причинам: один — потому что утерял секретный документ КГБ, другой — чтобы удрать от жены, третий — из-за стремления к более комфортабельной жизни, и так далее. У меня нет никаких сомнений в том, что я — один из немногих, кто пошел на сотрудничество с Западом исключительно из идейных соображений, целенаправленно, в течение длительного времени готовясь к этому шагу.
Говорю это не из желания похвастать или снискать признание своих заслуг, наоборот, все это свершилось по воле судьбы. Мне просто повезло, что я вовремя смог распознать правду и уйти из-под влияния тлетворной пропаганды, превращающей людей в зомби. Немалую роль в процессе формирования моего сознания сыграло то обстоятельство, что, изучив немецкий, я получил возможность читать западные газеты, когда мне был всего лишь двадцать один год. Это позволило мне значительно раньше моих сверстников знакомиться с тем, что происходило в мире. Не осталось бесследным и мое пребывание в Восточном Берлине: видя возведенную стену, разделившую Берлин на две части, и будучи свидетелем ненависти и отчаяния, которые испытывали простые люди, оказавшись в тисках коммунизма, я пришел к выводу, что коммунистическая система и незаконна, и преступна.
В ту пору я подходил к оценке сравнительно недавних исторических событий с романтических, идеалистических позиций. Так, я пришел к выводу, что последнюю попытку противостоять коммунистической угрозе и защитить страну от захвата ее тоталитарными силами предприняли белогвардейцы, участвовавшие в гражданской войне, — такие, как адмирал Колчак и генерал Врангель. Осознав, сколь тяжелую ношу взвалили они на свои плечи, и полностью разделяя взгляды этих людей, я встал на их сторону, они стали моими героями.
Работая за границей, я всегда помнил, что англичане и французы были нашими союзниками в двух мировых войнах, и со временем убедил себя в том, что в какой-то мере я вправе считать себя уцелевшим с тех времен белым офицером, так и не изменившим своей клятве хранить верность entente cordinale (Сердечное согласие, Антанта).
В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что непорядочно и бесчестно с моей стороны служить коммунистическому режиму, и принял решение поступить в конце концов так, как подсказывали мне сердце и совесть.
Я верю, что спасение России — только в сближении с Западом. Такие восточноевропейские страны, как Польша, Венгрия, Чешская Республика, Словакия и Эстония, денно и нощно мечтают о том, чтобы присоединиться к западному альянсу и перенять у Запада экономическую и политическую системы. Россия, я убежден, должна будет рано или поздно сделать то же самое и строить свою дальнейшую жизнь не на основе полностью дискредитировавшего себя эксперимента, осуществлявшегося в коммунистическую эру истории нашей страны, а на основе опыта старой, дореволюционной России, повторявшей в значительной мере путь, уже пройденный западным миром.
На страницах этой книги я частенько осмеивал КГБ за его некомпетентность, бесчестность и неспособность осознать подлинные реалии западного образа жизни. Однако это ни в коем случае не означает, что я недооценивал той огромной опасности, которую таит в себе это учреждение — громоздкое, типично советское ведомство с колоссальным бюджетом и многотысячным штатом сотрудников. Даже если из каждых ста человек, работавших в КГБ, восемьдесят или девяносто были никчемными людьми, бесполезными во всех отношениях, то и остававшихся двадцати или десяти кагэбэшников было бы более чем достаточно, чтобы наводить на всех страх и ужас. Когда я работал в лондонском отделении КГБ, у нас было немало бездарей, но, наряду с ними, в нашем же коллективе имелись и такие весьма яркие, одаренные личности, как Михаил Богданов, Юрий Кобаладзе или Леонид Никитенко, способные творить подлинные чудеса на «невидимом фронте». К этому следует также добавить, что КГБ опирался не только на своих штатных сотрудников, но и на тайных агентов. Взять хотя бы того же Олдрича Эймса, нанесшего своей стране значительный урон. Мало чем отличались от него предатели Англии Джеффри Прайм и Майкл Смит. Думаю, немало хлопот cвoей стране доставил бы и Майкл Бэттани, не будь его предложения о сотрудничестве отвергнуты советской разведкой.
По моему мнению, если я смог оказать ощутимую помощь западным спецслужбам, то в значительной мере благодаря тому, что имел возможность подробно докладывать им о деятельности КГБ на территории западных стран. Информация, которую я поставлял, существенно расширила и углубила их знания о КГБ в целом, о советской системе и о месте, занимаемом Комитетом госбезопасности в ее структуре. Англичане узнавали от меня буквально все, что касалось операций, осуществлявшихся указанной организацией в Англии. Сведения о слабых сторонах КГБ, полученные англичанами от меня, были для них не менее ценными, поскольку позволяли им сберечь значительные денежные средства. Я могу смело сказать, без всяких преувеличений, что предоставленная мною информация избавила английских налогоплательщиков от необходимости раскошелиться еще на несколько миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, налогоплательщики должны испытывать благодарность ко мне не только в Англии, но и в Соединенных Штатах, Германии, Франции, Голландии и в Скандинавских странах, спецслужбы которых также смогли благодаря мне сэкономить огромные суммы. Поскольку я поставлял англичанам самую свежую информацию разведывательного характера, тексты годовых отчетов и рабочих планов, они были, как ни парадоксально это, куда лучше осведомлены о состоянии дел в лондонском отделении КГБ, чем Москва. Знакомство с используемыми КГБ методами работы и с образом мышления сотрудников этого учреждения облегчало жизнь МИ-5 и МИ-6 и помогло Лондону составить более ясное представление о далеко не дружелюбных шагах, предпринимавшихся КГБ в отношении английского посольства в Москве.
Разоблачением Майкла Бэттани, единственного, кстати, сотрудника МИ-5, приговоренного к тюремному заключению за всю историю этой организации, как полагаю, внес значительный вклад в обеспечение безопасности Англии. Информация, касающаяся нелегалов, — о системе их подготовки, фальшивых паспортах и прочих документах и о применяемых ими методах оперативной работы — привела в восьмидесятых — девяностых годах к ряду арестов. Помог я англичанам и ознакомиться с характером деятельности тех советских спецслужб, с которыми я не был непосредственно связан. В частности, мне удалось вынести тайком из здания посольства годовой отчет сектора КР, в задачи которого входило внедрение советских агентов в английские разведслужбы. Я сообщил своим английским друзьям множество фактов относительно сектора Х, занимавшегося добыванием секретных сведений о технологических и научных разработках, в результате МИ-5 арестовала Майкла Смита, отбывающего ныне двадцатипятилетний срок тюремного заключения.
Что касается моей деятельности на более широком, уже политическом поприще, то я помог сотрудникам западных спецслужб получить более полное, чем прежде, представление о менталитете советских руководителей. Кроме того, я показал им, сколь тенденциозны, необъективны и слабы в аналитическом плане политические отчеты, составляемые сотрудниками КГБ, отметив, что этим, в частности, объясняется совершенно превратное представление Москвы о Западе. Я довел также до сведения английского министерства иностранных дел, полагавшего ранее, будто внешняя политика СССР разрабатывается советским Министерством иностранных дел, что в действительности ее определяет Международный отдел Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Мною была предоставлена англичанам и обширная информация о советской политике в отношении многих других, помимо Англии, государств и огромнейших регионов нашей планеты, среди которых не последнее место занимали Арктика, Антарктика и мировые океаны. Сообщенные мною сведения относительно «активных мероприятий», предпринимавшихся КГБ с целью манипулирования общественным мнением в странах Запада, побудили Англию и Соединенные Штаты принять соответствующие контрмеры.
На основании имевшихся у меня данных я смог заверить английское правительство и МИ-5, что проводимые ими мероприятия по пресечению шпионской деятельности советских граждан в Англии приносят свои плоды. Введение англичанами «дипломатического потолка», или установление предельной численности сотрудников советского посольства, и сокращение числа фиксировавшихся отныне различного рода «щелей», открытых для советских дипломатов, значительно ослабили позиции КГБ в этой стране. Достаточно сказать в этой связи, что если в шестидесятых годах в Лондоне насчитывалось сто двадцать советских шпионов, то в девяностых годах их было всего лишь тридцать шесть человек — разница поистине огромная. Англия достигла значительно больших успехов в обеспечении безопасности нации, чем другие западные страны. Само мое пребывание в Англии в качестве ее агента служило надежной гарантией того, что ни в английское правительство, ни в английские спецслужбы не проникнет ни один советский разведчик.
Сотрудничество со мной, не сомневаюсь, позволило английским разведслужбам и министерству иностранных дел Англии чувствовать себя значительно более уверенно, чем раньше.
Что же касается моего будущего, то оно и впредь будет связано с Западом. Когда я пишу эти строки, вынесенный мне в России смертный приговор все еще остается в силе, так что о моем возвращении на родину в ближайшее время не может быть и речи. Чем дольше живу я в Англии, тем глубже врастаю корнями в английскую почву и тем менее вероятным становится мое возвращение в страну, где я родился. Скажу еще только, что мне, не взирая на вышесказанное, очень хотелось бы поездить по родной земле и посетить хотя бы некоторые из тех мест, в которых я никогда не бывал, включая Армению, Заволжье и древние города Подмосковья, образующие знаменитое Золотое Кольцо.

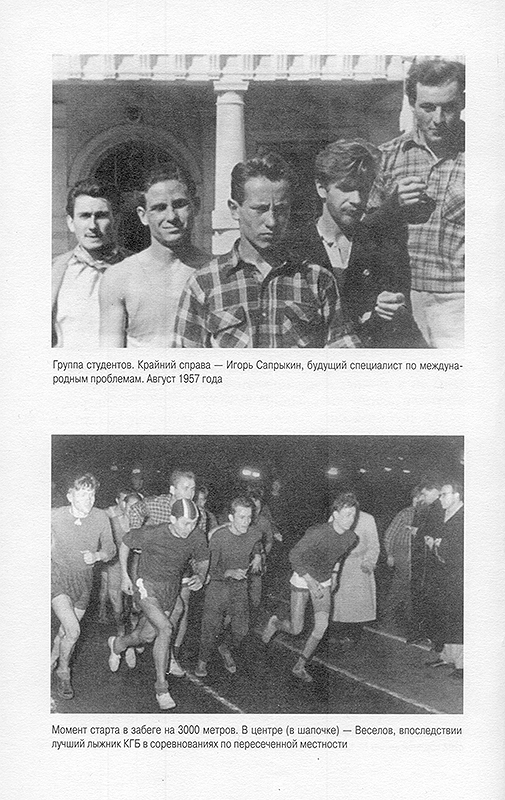






[1] Двадцати сантиметровые спаренные скорострельные зенитные орудия
 2020-06-10
2020-06-10 88
88







