Мы знакомы с метафорой систем главным образом по кибернетической парадигме, введение которой в нашу область обычно приписывают Грегори Бейтсону. Норберт Винер (1950) ввел слово "кибернетика" для обозначения нарастающей массы знаний о структуре и потоке в системах обработки информации. Он вывел его из греческого корня (кибернетес)*, имеющего значение "кормчий корабля". Таким образом, кибернетика, по его разумению, была наукой руководства, контроля через некое подобие последовательных циклов исправления ошибок, которое позволяет держать курс корабля. Большая часть ранних исследований по кибернетике проводилась в рамках разработок систем наведения ракет во время Второй мировой войны. Используя метафору кибернетики для "наведения" своего мышления, мы концентрировали свое внимание на "нацеленности" терапии. Другими словами, мы были склонны представлять предлагаемую нами помощь как помощь в контролировании явлений и процессов для достижения специфической цели.
Делая первые профессиональные шаги, мы твердо придерживались принципов "стратегической терапии" (Erickson & Rossi, 1979; Haley, 1963, 1973, 1976; Madanes, 1981, 1984; Watzlawick, Weak-land, & Fisch, 1974), многие идеи которой были заимствованы из кибернетики. Наше мышление терапевтов "стратегических кибернетических систем" концентрировалось на том, как семьи могут быть вовлечены в повторяющиеся циклы незавершенного поведения. Наши интересы были направлены на неверно сбалансированные иерархические структуры. Мы задавались вопросом о том, что может сделать терапевт, чтобы прервать эти паттерны и направить семьи в русло здоровой, а не болезненной стабильности.
Оглядываясь назад, мы видим, что наша работа того времени направлялась не столько кибернетикой вообще, сколько "кибернетикой первого порядка". С нашей сегодняшней точки зрения, те-
 *Это то же греческое слово, от которого происходит наше слово "governor" ("губернатор", а также "регулятор" — Прим перев), обозначающее как механический регулятор верхнего предела скорости двигателя, так и человека, который управляет штатом
*Это то же греческое слово, от которого происходит наше слово "governor" ("губернатор", а также "регулятор" — Прим перев), обозначающее как механический регулятор верхнего предела скорости двигателя, так и человека, который управляет штатом
ории кибернетики первого порядка призывают терапевтов рассматривать семьи как машины (термостаты, управляемые ракеты или компьютеры). Такой взгляд предполагает, что терапевт изолирован от семьи и способен ее контролировать, давать отстраненные, объективные оценки неблагополучия и приводить проблемы в порядок, подобно тому, как механик приводит в порядок забарахливший двигатель. В те времена мы не замечали и не беспокоились о тех аспектах работы, которые сегодня нам кажутся отстраненными или механистичными. Мы были взволнованы тем, что нашли способ говорить о людях в контексте их взаимодействия. Кроме того, практики, разработанные Джеем Хейли и командой MRI*, срабатывали, и одно только это притягивало к ним.
Когда наша терапевтическая работа направлялась метафорами кибернетики первого порядка, мы концентрировали свои начальные усилия на том, чтобы добиться специфической цели для каждой семьи. Мы полагали, что часто неудачи людей в достижении своих целей объясняются тем, что они зацикливаются в повторяющихся паттернах поведения, все настойчивее и настойчивее пытаясь применить одно и то же "решение".
Мы полагали, что если обнаружим повторяющийся паттерн, то наша работа будет заключаться в разработке стратегической интервенции, которая разрушит его и перенаправит членов семьи в сторону новых моделей поведения. Это поможет им достичь своей цели, которая представлялась нам в виде некоего нового и более удовлетворительного гомеостатического баланса. Мы также полагали, что наша работа состояла в том, чтобы убедить семью принять разработанную нами интервенцию, подобно тому, как задача врача — убедить пациента принять выписанное им лекарство. Большинство приходящих к нам людей были удовлетворены тем, что мы делали, руководствуясь этой моделью. В течение нескольких лет она нам тоже нравилась. Но постепенно мы начали подвергать сомнению эффективность нашей практики.
Оглядываясь назад, мы думаем, что идея контроля над целью побуждала нас становиться в еще более контролирующую позицию по отношению к людям, с которыми мы работали, особенно когда ощущали, что цели не достигались. Похоже, что когда наша работа определялась метафорой "направления", она побуждала людей относиться к себе более механистично и с усиленным контролем. Теперь мы полагаем, что эта модель заставляла нас как ав-
 *Mental Research Institute — Институт психических исследований
*Mental Research Institute — Институт психических исследований
торов искусных интервенций излишне доверять происходящим изменениям, тогда как люди, с которыми мы работали, вполне могли ощущать себя пассивными получателями "мудрости" извне и слишком мало доверять себе. Итак, хотя люди обычно достигали своих целей, теперь нам кажется, что терапевтический опыт не укреплял их ощущения своего личного соучастия.
Не было ничего необычного в том, что терапевты описывали свои терапевтические сеансы исключительно в контексте проблемы и того, что они сделали для ее разрешения, или цели и того, что они сделали, чтобы ее достичь. Иногда казалось, что стратегия достижения специфической цели вынуждала как людей, с которыми мы работали, так и нас самих, не замечать интересные и полезные возможности, которые лежат чуть в стороне от дороги к конкретной цели.
Линн Хоффман (1988), вспоминая свою работу в рамках кибернетики первого порядка, отмечает, что, когда она писала "Основы семейной терапии" (Foundations of Family Therapy; Hoffman, 1981), то разворачивала картину этой работы, представляя семью как машину, а терапевта — как ремонтника: "Если перед вами такая целостность, ее легче рассматривать в терминах дисфункции... Предполагалось, что терапевт знает, какой должна быть "функциональная" структура семьи, и ему следует изменять ее в соответствии с этим". Она также пишет об "общей тенденции объективировать патологию" в американской семейной терапии того времени, приводя DSM-III и "дисфункциональные семейные системы" в качестве примеров объективированных патологий.
Полагая, что ищем в людях силу и ресурсы, мы вынуждены согласиться с Хоффман: кибернетика первого порядка слишком настойчиво призывала нас концентрироваться на дисфункциональном в жизни людей, которые приходили к нам на терапию. Она также побуждала нас рассматривать дисфункцию как фокус терапии. Оценивая, что необходимо людям для достижения цели, мы невольно концентрировались на том, что у них не в порядке.
Кибернетика второго порядка
К тому времени, как Хоффман уже писала свою книгу, другие люди (Dell, 1980, 1985а; Кеепеу, 1983; Keeney & Sprenkle, 1982; Watzlawick, 1984) начинали обдумывать системы в другом ключе.
В прологе и эпилоге книги она (Hoffman, 1988) пыталась "выявить путь к модели, менее ориентированной на контроль, — модели, которая не помещала бы терапевта вне семьи или над семьей". Это новое направление мысли получило название "кибернетика второго порядка", или "кибернетика кибернетики". Она развивалась по мере того, как люди начали понимать, что терапевт действительно не может давать "объективные" оценки и делать заключения, оставаясь вне семейных систем. Нравится это или нет, терапевт является частью самой системы, проходящей терапию, и, следовательно, не способен на отстраненную объективность. Люди также стали понимать, что изменение не менее важно, чем стабильность, и утверждать, что терапевты могли бы более успешно сконцентрироваться на том, как кибернетические системы постоянно изменяются во времени, а не на том, как они постоянно стремятся к го-меостатической стабильности.
По мере того, как фокус смещался от кибернетики первого порядка к кибернетике второго порядка, метафоры, применяемые терапевтами, стали изменяться. Там, где мы некогда говорили о регуляторах, термостатах и циклах обратной связи, теперь начали думать в контексте биологических и экологических систем (Bateson, 1972, 1979; Bogdan, 1984). В наш язык вошли такие слова, как "коэволюция" и "со-творение". Ауэрсвальд (1987) назвал эту новую парадигму парадигмой экологических систем. Он писал, что она определяет "семью как коэволюционную экосистему, расположенную в эволюционной системе пространства и времени". Он рассматривал эту парадигму как глубоко отличную от предшествовавших парадигм "семейных систем".
Примерно в это же время идеи кибернетики второго порядка стали вытеснять кибернетику первого порядка. Мы поехали учиться у Луиджи Босколо и Джанфранко Чеччина из Миланской школы системной семейной терапии (Boscolo, Cecchin, Hoffman, & Penn, 1987; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1980). Мы уверены, что идеи, которые они тогда представляли, являются архетипом кибернетики второго порядка в семейной терапии.
Миланская школа, работавшая в относительной изоляции от традиционной североамериканской семейной терапии, разработала свой собственный уникальный взгляд на то, как применять идеи Грегори Бейтсона в практике семейной терапии. Вместо того чтобы искать паттерны поведения, они искали паттерны смысла. Их интервью фокусировались на выявлении предпосылок или "мифа",
который формировал смысл действий членов семьи. Вокруг этого мифа они устраивали "мозговой штурм" всей командой и разрабатывали интервенцию, часто ритуальную, которая предписывалась в конце каждого сеанса. Для интервью, помогающего найти семейный миф, они разработали характерную форму опроса, которую они назвали "циркулярным интервью" (Fleuridas, Nelson, & Rosenthal, 1986; Penn, 1982; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1980). Циркулярные интервью предполагали, что члены семьи вовлечены в текущие взаимоотношения, что действия и эмоции каждого человека рекурсивно влияют на любого другого. Участники Миланской школы использовали эти вопросы, для того чтобы выявить, как "работают" взаимоотношения в семье. Затем эта информация используется для разработки гипотезы о семье, на основе которой формируются интервенции.
Поначалу именно циркулярное интервью привлекло наше внимание к Миланской школе. Интерес к стратегическим подходам в терапии привел нас к интенсивному изучению работы Милтона Эриксона, особенно в области гипноза, которая заинтересовала нас косвенным внушением. Нам встретилась статья (Schmidt & Trenkle, 1985), в которой циркулярное интервью в миланском стиле рассматривалось как способ косвенных гипнотических внушений — внушений, которые должны были влиять на одного или более членов семьи в ходе, казалось бы, обычного разговора. Гюнтер Шмидт использовал вопросы, которые всегда являлись естественной частью каждого клинического интервью, скорее для того, чтобы давать, а не получать информацию. Это была захватывающая идея. И все же это была идея "терапевт находится вне системы и направляет ее", почерпнутая из кибернетики первого порядка. Но как бы то ни было, она была захватывающей.
К тому времени, когда мы действительно поехали учиться у Босколо и Чеччина, они уже меньше внимания уделяли разработке интервенций, а больше — опросу. Казалось, что сам процесс циркулярного интервью обладал некоей преобразующей силой; семьи изменялись по мере того, как их члены выслушивали ответы друг друга. Интервью, казалось, поощряло любознательность и стремление узнать больше и больше о том, как члены семьи воспринимают мир и друг друга. Однако это осложняло позицию терапевта, которая некогда заключалась в том, чтобы рассказывать людям, каким должен быть их мир. В поисках ответов на "круговые" вопросы члены семьи обращались к реальности, которая кон-
центрировала их внимание на взаимосвязанности — на том, как чувства и действия каждого отдельного члена семьи влияют на чувства и действия других и подвержены влиянию с их стороны. В такой реальности, вместо того чтобы ждать внушений от терапевта, они размышляют над возникающей информацией о семье и друг о друге. Оглядываясь назад, мы видим, что эти факторы способствовали смягчению или сглаживанию иерархии между терапевтом и членами семьи.
Участвуя в процессе их супервизии, мы увидели и другие нововведения, которые разработали Босколо и Чеччин. Они использовали группы за зеркалом* неведомым нам доселе образом. Группы действительно функционировали как команды. Вместо того чтобы слушать, как супервизор в кабинете высказывает вслух свои мысли или дает советы терапевту, объекты супервизии за зеркалом участвовали в мозговом штурме. Хотя цель этих обсуждений состояла в том, чтобы прийти к единственной интервенции или сообщению, часто повторяемый лозунг "Флиртуй со своими гипотезами, но никогда не вступай с ними в брак" предполагал, что эта цель ни в коем случае не должна стать единственной или конечной истиной. В группе соратников такое обсуждение снижало значение иерархии, которую мы привыкли ощущать между супервизорами и объектами супервизии, предоставляя последним больше возможности высказаться.
Команда разбивалась на Т-группу, которая непосредственно помогала терапевту, и Н-группу, которая наблюдала за взаимодействием всей семьи, терапевта и Т-группы, как в комнате для терапии, так и в комнате для наблюдения. Тогда как Т-группа собиралась для обсуждения гипотезы, касающейся семьи, Н-группа встречалась отдельно для обсуждения гипотезы на трех уровнях: семейная система, система "семья-терапевт" и система "семья-терапевт-группа". После каждого сеанса терапии группы встречались вместе и Н-группа начинала с обсуждения наблюдений своих участников на всех трех уровнях. Затем Т-группа обсуждала, почему выбрала ту или иную интервенцию, затем следовало общее обсуждение, призванное интегрировать разные точки зрения. Размышления на всех этих уровнях убеждали людей в том, что терапевт не может быть отстраненным, "объективным" наблюдателем В ходе всего процесса Босколо и Чеччин участвовали в нем скорее как
 *Группа, наблюдающая за процессом терапии через одностороннее зеркало — Прим ред
*Группа, наблюдающая за процессом терапии через одностороннее зеркало — Прим ред
члены групп, нежели как отстраненные или иерархически недосягаемые супервизоры.
Участие в групповой супервизии миланского типа позволяло познавать многоуровневую и разнонаправленную природу межличностного влияния. Простые круговые циклы обратной связи были неподходящей картой для того, чтобы нанести на нее весь поток получаемой информации. Групповая работа миланского типа дала нам непосредственный опыт, позволяющий оценить значимость обратной перспективы в обсуждении. Этот опыт оказался весьма плодотворным.
Минимизация иерархии, поощрение разнообразных точек зрения и размышления над групповым процессом, обогащенные введением Н-группы, вкупе с установкой на любознательность (Cecchin, 1987) и фокусом на взаимоотношениях, обусловленным использованием циркулярного интервью, — все это способствовало быстрой эволюции в нашей клинической практике. Идеи людей из нескольких групп миланского типа — Линн Хоффман (1981, 1985, 1988, 1990, 1991), которая сначала работала с группой Ак-кермановского института, затем с группой в Брэттлборо (Вермонт); Том Андерсен (1987, 1991а) и его коллеги в Тромсе (Норвегия) и Карл Томм (1987а, 1987b, 1988) в Калгари (Канада) — вдохновляли и влияли на нас*, когда мы усиленно боролись за то, чтобы интегрировать идеи "кибернетики второго порядка" Босколо и Чеч-чина с нашей склонностью к эриксоновской стратегии. Похоже, что помощь людей, которые начали использовать группы миланского типа, заключается в том, что они развивали новые формы мышления и работы.
Метафоры, направляющие всех этих людей, первоначально склонялись к бейтсоновским понятиям "экологии идей"** (Bateson, 1972, 1979; Bogdan, 1984). Эти новые формы мышления были интересны и полезны тем, что помогали нам воспринимать себя как соучастников в одних и тех же системах, как членов семьи. Они
 *На нас также сильно повлияли работы Харлен Андерсон, Гарри Гулишиана и их коллег (Anderson & Goohshian, 1988, Anderson, Goohshian, Pulliam, & Wmderman, 1986, Anderson, Goohshian, & Winderman, 1986) из Галвестонского института в Хьюстоне, которые разрабатывали сходные идеи
*На нас также сильно повлияли работы Харлен Андерсон, Гарри Гулишиана и их коллег (Anderson & Goohshian, 1988, Anderson, Goohshian, Pulliam, & Wmderman, 1986, Anderson, Goohshian, & Winderman, 1986) из Галвестонского института в Хьюстоне, которые разрабатывали сходные идеи
**Многие из людей, которые повлияли на нас, в свою очередь, находились под сильным влиянием идей Умберто Матураны (напр, Maturana & Varela, 1987), чьи ведущие метафоры были основаны на биологии и физиологии Мы никогда не изучали эти идеи достаточно подробно и, возможно, поэтому не находили их особенно полезными
также помогали нам фокусироваться на некоем потоке и изменении, присущим эволюции, таким образом снижая возможность "зацикливания", которое иногда рука об руку идет с метафорами гомеостаза.
Когда нас направляли идеи коэволюции, мы уделяли гораздо больше сознательного внимания сотрудничеству, чем раньше. Вместо того чтобы разрабатывать ритуалы и стратегию их выполнения людьми, мы спрашивали людей, какой сорт деятельности в промежутках между сеансами представляется им полезным, и использовали время сеанса для совместного создания ритуалов (Combs & Freedman, 1990). Ощущать себя "в процессе" означает отказаться от любого чувства объективности, касающегося специфических долговременных целей. Если "выходные" результаты клиента и терапевта коэволюционировали, мы не могли определить свой конечный пункт назначения ни в один из моментов настоящего. В своей лучшей форме наш отказ от роли пилотов, правящих к конкретной цели, побуждал к смирению и сотрудничеству в любой момент, когда выяснялось, движется ли терапия в удовлетворительном направлении. В своей худшей форме он приводил к ощущению беспомощности, бесцельному "совместному дрейфу".
Мы испытали обе формы. Временами нам казалось, что мы сотрудничаем действительно новыми способами и в наших беседах появляется больше пространства для голосов и идей не-терапевтов. Мы думали, что люди ощущают себя гораздо более изобретательными и творческими существами, чем при работе в рамках наших ранних терапевтических методов. В другие моменты мы чувствовали себя потерянными, утратившими контакт и менее эффективными, чем когда-либо. Казалось, что коэволюция требует больше терпения, чем мы привыкли проявлять.
Другая история
История, которую вы только что прочитали, "правдива", но это еще не вся история. Мы писали так, как если бы наше продвижение к пониманию было четким и логичным и понимание ясно и логично отражалось в нашей практике Мы писали так, как если бы нас направляла исключительно метафора кибернетических систем. Наш опыт в течение тех лет, о которых мы рассказывали, был, конечно, гораздо беспорядочнее и богаче
До сих пор в своей истории мы лишь по касательной упоминали влияние на наше развитие Милтона Эриксона. Эриксон недостаточно четко вписывался в историю наших усилий понять и применить метафору "система". Он недостаточно четко вписывается в любые сводные теории в психотерапии. Как бы то ни было, Эриксон служил неиссякаемым и непреходящим источником для нас обоих.
Подход Эриксона к терапии имел прагматический и антитеоретический характер. Вот его типичное высказывание (Erickson & Rossi, 1979) по этому вопросу:
"Психотерапевты не могут зависеть от общих шаблонов или стандартных процедур, которые без разбора применяются ко всем пациентам. Психотерапия — это не просто применение истин и принципов, предположительно обнаруженных академиками в ходе контролируемых лабораторных экспериментов. Каждая психотерапевтическая встреча уникальна. Она требует нового творческого усилия как со стороны терапевта, так и со стороны пациента, который помогает найти принципы и средства для достижения терапевтического результата".
Эриксон (1965/1980) полагал, что работа терапевта состоит в том, чтобы понять убеждения и опыт людей, которые пришли к нему на консультацию. Убеждения терапевта не следует навязывать другим:
"Задача терапевта не должна состоять в том, чтобы с помощью своих убеждений и понимания обращать пациента в свою веру. Ни один пациент действительно не может понять, как понимает терапевт. Он в этом и не нуждается. То, что требуется, это развитие терапевтической ситуации, позволяющей пациенту использовать свое собственное мышление, свое собственное понимание, свои собственные эмоции таким образом, который лучше всего соответствует его "схеме" жизни".
Мы встретились в 1980 г. на серьезном семинаре по эриксонов-ской терапии. (И были восхищены друг другом, но это уже другая история.) Хотя формально мы присутствовали там, чтобы изучать гипноз, сегодня нам ясно, что на самом деле мы хотели научиться у Эриксона тому, как поддерживать взаимоотношения с людьми,
которые приходят на консультацию. Нам нравилось, что Эриксон учитывал и уважал опыт тех людей, с которыми работал. Он культивировал такие терапевтические отношения, которые отодвигали на задний план профессиональные, теоретические идеи терапевта и помещали в центр внимания конкретные ситуации. Мы хотели усовершенствовать свои способности в этой области.
Эриксон демонстрировал живое и заинтересованное понимание людей. Он искренне и осязаемо верил, что в каждом человеческом существе есть нечто уникальное и замечательное. Задавая вопрос, он ожидал ответа, всем своим видом выражая восхищенное ожидание — с огоньком в глазах, воодушевляющей улыбкой и огромным терпением. Вы просто видели, что он знает, что любой человек, которому он задал вопрос, выдаст удивительный ответ, нечто такое, чего никто не ожидал.
Эриксон видел в людях изобретательность. Он верил в то, что мы все пожизненные ученики и что жизнь — это приключение, и никогда не знаешь, что тебя ожидает за следующим поворотом. Однако в любом случае это будет интересно, и мы наверняка справимся. И, справляясь с этим, мы будем обучаться, расти и обогащать свою жизнь.
Именно Эриксон впервые заинтересовал нас терапевтическим использованием историй. Всем были известны его "обучающие рассказы", и большая часть его терапевтической работы включала расширение и обогащение историй людей о самих себе*. Часто это завершалось рассказыванием историй о случаях с другими людьми или о его собственном жизненном опыте. Первая наша совместная книга (Combs & Freedman, 1990) вышла в свет во многом благодаря нашему интересу к тому, как Эриксон использовал истории, символы и ритуалы.
Для нас наиболее впечатляющей иллюстрацией понимания Эриксоном важности историй служит то, как он писал и переписывал свою историю жизни, наделяя позитивным смыслом то, что другие могут переживать как несчастье Его борьба с полиомиелитом на протяжении почти всей жизни стала повторяющейся темой в его терапевтических историях. Вместо того чтобы причислять последствия полиомиелита к недостаткам, он рассматривал их как
 *Случай, изложенный в книге "Человек из Февраля" (Erickson & Rossi, 1980, 1989), вероятно, самый красноречивый и наиболее известный пример этого (В переводе см М Эриксон, Э Росси Человек из Февраля Гипнотерапия и самоосознание личности М НФ "Класс", 1995)
*Случай, изложенный в книге "Человек из Февраля" (Erickson & Rossi, 1980, 1989), вероятно, самый красноречивый и наиболее известный пример этого (В переводе см М Эриксон, Э Росси Человек из Февраля Гипнотерапия и самоосознание личности М НФ "Класс", 1995)
преимущества. Например, Сид Розен (1982) описывает историю, которую Эриксон рассказывал о тех временах, когда он был профессором медицины. У него был студент, который стал излишне замкнутым и чрезвычайно чувствительным после того, как потерял ногу в автокатастрофе Однажды утром он договорился с несколькими другими студентами помочь ему заблокировать лифт, и вот что произошло.
"В тот понедельник, когда Джерри держал двери лифта открытыми, а Томми расположился наверху лестницы, я обнаружил, что класс ждет меня на первом этаже к семи тридцати... Я сказал: "Что с твоим пальцем, Сэм? Нажми кнопку лифта".
Он сказал: "Я уже пробовал".
Я спросил: "Может, твой палец настолько слаб, что тебе стоит нажать двумя пальцами9"
Он ответил: "Я и это пробовал, но этот чертов привратник хочет спустить вниз все свои ведра и швабры и, наверное, держит двери лифта открытыми".
...Наконец, в пять минут восьмого я повернулся к студенту с протезом ноги и сказал: "Давайте-ка мы, калеки, поковыляем наверх и оставим лифт для здоровых людей".
"Мы, калеки" принялись ковылять наверх. Томми дал сигнал Джерри, Сэм нажал на кнопку. Здоровые ждали лифта. Мы, калеки, ковыляли вверх по лестнице. К концу этого часа наш студент обрел новую идентичность. Он принадлежал к профессиональной группе "Мы, калеки". Я был профессором, у меня была больная нога. Он идентифицировался со мной, я— с ним".
Нас поразило то, что идентифицируясь со студентом-медиком, Эриксон вписывал новую главу в свой личный нарратив. Он конструировал сообщество профессионально компетентных, способных, уважаемых врачей, которые имели четкое понятие о том, что значит быть "калекой", и помещал себя в самую сердцевину этого сообщества.
К концу жизни, когда студенты начали беспокоиться по поводу его скорой кончины, Эриксон, вместо того чтобы включаться в их потенциально пессимистические нарративы, рассказывал истории о долгой жизни его родителей и их оптимизме Мы полагаем, что
эти истории играли вдохновляющую роль для его студентов и самого Эриксона. Это развивало конструктивные умонастроения, что позволило ему сказать: "Я не намерен умирать По крайней мере, это будет последнее, что я сделаю!" (Rosen, 1982)
Итак, именно в лице Эриксона мы впервые встретились с верой в то, что люди могут постоянно и активно пере-созидать свою жизнь. Если история наших взаимоотношений с метафорой систем касается изменения, которое в итоге привело к расставанию с ней, то история нашего отношения к метафоре пере-созидания рассказывает о постоянстве. Это центральная организующая идея нашей книги. Преданность Эриксона делу "настройки" терапии на личность и его восхищение и уважение к тем, для кого он работал, — это те аспекты его работы, которые мы стремимся поддерживать.
Есть и другие идеи, с которыми мы впервые познакомились через Эриксона. Они продолжают формировать нашу клиническую практику. Одна из них состоит в том, что существует много возможных эмпирических реальностей. Он писал: "В любой ситуации существует достаточно альтернатив... Когда вы посещаете сеанс групповой терапии, что вы хотите там увидеть? То, за чем вы туда приходите — это [множество альтернатив]". (Erickson & Rossi, 1981).
Эриксон использовал принцип альтернативных эмпирических реальностей в своей терапии и обучении Он рассказывал истории об индейцах тарахумара, балийцах и других народах из разных регионов, чтобы внушить (помимо прочего) идею, что не следует ограничиваться той системой ценностей, в которой мы существуем с момента рождения. Он говорил: "Я всегда интересовался антропологией. И я думаю, что антропология должна стать предметом, о котором психотерапевты должны читать, в котором они должны разбираться, поскольку различные этнические группы думают по-разному" (Zeig, 1980).
Еще одна идея, с которой мы познакомились через Эриксона и которая продолжает воодушевлять нашу практику, заключается в том, что наши эмпирические реальности проявляют себя в языке Эриксон был убежден в "образующей" силе языка Значительная часть его работы строилась на предположении, что особый язык может привести к особым измененным состояниям сознания Он часто говорил о том, что, предлагая пришедшему к нему человеку более "работоспособную" реальность, важно выбрать верный язык
Подводя итог и оглядываясь назад, мы отмечаем, как Эриксон повлиял на нас и какие аспекты его работы мы особенно ценим Это
его восхищение и уважение к людям, его вера в то, что мы можем постоянно пере-созидать свою жизнь, его вера в разнообразные возможные реальности и его акцент на образующей силе языка.
И все же еще одна история
В то время как мы боролись за то, чтобы интегрировать свои эриксоновские/стратегические идеи с тем, чему мы учились у миланской группы, семейные терапевты феминистского направления (напр., Avis, 1985; Carter, Papp, Silverstein, & Walters, 1984; Goldner, 1985a, 1985b; Hare-Mustin, 1978; Taggart, 1985) начинали критиковать теорию и практику, которые направляли область нашей деятельности с самого начала. Они обращали наше внимание на то, что объяснения и интервенции кибернетики первого и даже второго порядка были основаны на нормативных моделях функционирования семьи, которые предполагают "отдельную, но равную" власть для мужчин и женщин. Они утверждали, что такие модели игнорируют более широкий социально-исторический контекст, в котором мужчины обладают большей политической, финансовой и "моральной" властью, чем женщины.
Именно эта феминистская критика заставила нас усомниться в патерналистских ценностях некоторых эриксоновских/стратегичес-ких практик и стремиться к повышению сотрудничества при работе с людьми, которые обращаются к нам за помощью. Даже несмотря на то, что Эриксон ценил эмпирические реальности людей и глубоко верил, что каждый человек на редкость изобретателен, все же он был врачом-мужчиной, белой расы и конкретной эпохи. Он был добрым и благосклонным патриархом, но, тем не менее, все же патриархом. И хотя обычно Эриксон общался с людьми, надев "бархатные перчатки", иногда он говорил, что под бархатной перчаткой скрывается железный кулак.
Оглядываясь назад, на годы обучения и попыток применения идей Эриксона, мы видим, что многое, порой казавшееся важным, сегодня мы не считаем столь полезным. В частности, это относится к понятию транса.
Некоторое время транс был для нас организующей метафорой. Мы разговаривали с людьми так, как если бы они находились в некоей форме транса и как если бы наша гипнотерапевтическая работа должна была помочь им развивать и использовать способность
входить в нужное состояние транса в зависимости от различных жизненных ситуаций. Это означало, что наша работа во многом концентрировалась на "наведении транса".
Сам Эриксон часто разговаривал с людьми, пребывающими в "трансе", взаимодействуя с ними в духе сотрудничества. Однако гипнотический стиль, который приобрел популярность среди второго и третьего поколений эриксонианцев (включая и нас), состоял в том, что терапевт ужасно долго говорил, предлагая стратегически разработанные косвенные внушения человеку, который тихо и спокойно сидел перед ним с закрытыми глазами. По мере того, как мы учитывали феминистскую критику, нам становилось все более и более неловко так много говорить в ходе терапии. Мы все реже и реже использовали длительные трансы.
Другие две идеи, которые стали менее важными для нас (мы уже упоминали это в обсуждении кибернетики), — это идеи разработки стратегии и иерархии. Моделируя свою деятельность по Эриксону, мы полагали, что наш долг состоит в том, чтобы разрабатывать искусные стратегии, которые будут (благотворно) влиять на людей, побуждая их направлять свою жизнь в новое русло. Даже в своей наиболее мягкой и благожелательной форме этот метод работы отличается односторонностью и отсутствием сотрудничества, с чем мы (в свете феминистской критики) больше не могли мириться.
Отрешаясь от Эриксона и возвращаясь к метафоре "системы", под влиянием феминистской критики мы поверили, что метафора — по крайней мере, как она эволюционировала и' применялась в семейной терапии — служит не меньшей помехой, чем вспомогательным средством. Она направляет наше внимание на слишком мелкие, слишком сжатые циклы обратной связи, тогда как мы хотим уделять больше внимания идеям и практикам, которые действуют в более широком культурном контексте. Метафора "системы" искушает нас, заставляя искать внутри семьи дополняющие цепи и совместное порождение проблем, вместо того чтобы работать с членами семьи, выявляя негативное влияние определенных культурных ценностей, установок и практик на их жизнь и взаимоотношения, побуждать их сплотиться вместе и противостоять этим ценностям, установкам и практикам. Это поощряет скорее принять позицию нейтральности (Selvini Palazzoli, Boscolo, & Prata, 1980) или любопытства (Cecchin, 1987), чем защиту или увлечение одними ценностями и противостояние другим.
Сегодня мы полагаем, что, работая в рамках эриксоновской парадигмы и кибернетики второго порядка, в моменты отчаяния, беспокойства и разочарования мы находились на краю более зна чительного сдвига в мировоззрении, чем когда-либо прежде. Мы работали в системных рамках и развивали все более и более тонкое понимание "систем" как организующей метафоры. Вскоре нам предстояло встретить, как говорят в шоу Монти Пайтона, "нечто совершенно другое".
Нарративная метафора и социальным конструкт—
В контексте нашего мышления это не просто дальнейшая эволюция теории систем, а нечто другое — иная парадигма, совершенно другой язык. В самом общем виде на эту парадигму ссылаются по-разному. Хотя были предложены такие термины, как "постструктурализм", "деконструктивизм", "интерпретативный поворот" и "новая герменевтика", нам кажется, что сейчас наиболее распространенным термином в мировоззрении, о котором мы говорим, является "постмодернизм".
В следующей главе мы постараемся подробнее ознакомить вас с этими идеями, но прежде продолжим историю о том, как у нас самих произошел сдвиг к мировоззрению, которое исповедует эти идеи. Возможно, самым важным на нашем пути к принятию постмодернистского мировоззрения стали не те ярлыки или метафоры, которые мы только что перечислили, а личность — Майкл Уайт*.
Нас сразу же привлекла работа Майкла, изобретенный им тип взаимоотношений с приходящими к нему людьми, и то, как он переживает свои ценности как внутри, так и вне терапевтического контекста. Он тоже проявлял доверие, интерес и волнение по отношению к людям, с которыми работал, — что так привлекало нас в Эриксоне. В то же время он цитировал Мишеля Фуко (1975, 1977, 1980), который писал об объективации и подчиненности личности и говорил о поддержке людей, восстающих против "пристального взгляда" доминирующей культуры. Сегодня, будучи ак-
 *Мы признательны Дженнифер Эндрюс и Дэвиду Кларку, которые включили нас в состав участников первых консультаций Майкла в Чикаго, а также Черил Уайт, которую мы также встретили на этих консультациях Тогда как Майкл Уайт обучал этим идеям, мы с Черил жили ими
*Мы признательны Дженнифер Эндрюс и Дэвиду Кларку, которые включили нас в состав участников первых консультаций Майкла в Чикаго, а также Черил Уайт, которую мы также встретили на этих консультациях Тогда как Майкл Уайт обучал этим идеям, мы с Черил жили ими
тивистами 60-х среднего возраста, мы не имеем ни малейшего понятия, как будут выглядеть эти идеи в приложении к терапии, но мы без сомнения хотим это выяснить!
Когда мы впервые встретили его, Уайт (1986b) отчасти основывал свою практическую работу на понятиях Грегори Бейтсона (1972) о негативном объяснении, сдерживании и двойной связи. Хотя интерес Уайта к Бейтсону был слишком новым явлением, чтобы увлечь, мы были очень хорошо знакомы с работой Бейтсона и это, вкупе с эриксоновским стилем межличностного взаимодействия, помогло нам чувствовать себя среди идей Уайта как дома. Однако объяснения Уайта по поводу того, что и зачем он делает в терапии, очень быстро менялись, и вскоре мы увлеклись этими переменами. Уайт настаивал на том, что совсем не осведомлен о работе Эрик-сона, и утверждал (White & Epston, 1990), что использовать нарративную метафору, или "аналогию в истории", его надоумили Дэвид Эпстон, который наткнулся на нее при изучении антропологии, и Черил Уайт, "чей интерес к этой аналогии возник из ее познаний в феминизме". Изучив нарративную метафору, он обнаружил, что она предлагает полезное расширение и развитие "ин-терпретативного метода", с которым его ознакомила работа Бейтсона*. В "Нарративных средствах для терапевтических целей" (Narrative Means to Therapeutic Ends, White & Epston, 1990) Уайт напоминает, как Бейтсон использовал метафору [географических] "карт", утверждая, что все наши познания о мире содержатся в форме разнообразных ментальных карт "внешней", или "объективной", реальности и что различные карты приводят к различным интерпретациям "реальности". Ни одна карта не содержит всех деталей территории, которую она отображает, и события, которые не попали на карту, не существуют в ее смысловом мире.
Он также напоминает нам, насколько важной для Бейтсона была категория времени:
"Утверждая, что вся информация — это обязательно "новости различия" и что именно восприятие различия запускает
 *Понятие "интерпретативный метод" разработано учеными социального направ-ления, которые полагают, что у нас нет прямого доступа к знанию об "объективной реальности В отсутствии такого знания, для того чтобы наделить мир смыслом, мы должны интерпретировать "новости различия", о которых свидетельствуют органы чувств
*Понятие "интерпретативный метод" разработано учеными социального направ-ления, которые полагают, что у нас нет прямого доступа к знанию об "объективной реальности В отсутствии такого знания, для того чтобы наделить мир смыслом, мы должны интерпретировать "новости различия", о которых свидетельствуют органы чувств
все новые реакции в живых системах, он [Бейтсон] продемонстрировал, насколько существенно нанесение на карту событий во времени для восприятия различия, для обнаружения изменения". (White & Epston, 1990)
Преимущество, которое Майкл Уайт увидел в нарративной метафоре, заключалось в том, что любая история — это карта, простирающаяся во времени. Она объединяет оба бейтсоновских понятия в одну концепцию. Когда мы впервые начали применять нарративную метафору (скорее в уайтовском, нежели бейтсоновском смысле), мы рассматривали ее просто как полезное расширение мышления Бейтсона. Однако, продолжая использовать эту метафору и изучать ее теоретические ответвления, мы поняли, что она привела к достаточно серьезному сдвигу в нашем мировоззрении.
В нашей прежней работе интервенции были нацелены на конкретные проблемы и задачи. Прислушиваясь к Уайту, мы больше не пытались решать проблемы. Вместо этого мы заинтересовались работой с людьми, порождающей и "уплотняющей" (Geertz, 1978) истории, которые не поддерживают проблемы. Мы обнаружили, что как только люди начинают "заселять" и переживать эти альтернативные истории, результаты выходят за пределы решения проблем. В рамках новых историй люди могут переживать новое представление о себе, новые возможности во взаимоотношениях и новое будущее.
Ученые из гуманитарных и социальных областей (Е. Bruner, 1986b; J. Bruner, 1986; Geertz, 1983) начали применять нарратив в качестве организующей метафоры за несколько лет до того, как она стала использоваться в терапевтических кругах. Например, Джером Брунер (1986) пишет:
"К середине 1970-х социальные науки двинулись... в сторону более интерпретативной позиции: смысл стал центральным понятием — как интерпретируется мир, какими кодами регулируется смысл, в каком смысле саму культуру можно рассматривать как "текст" [историю], который участники "читают" самостоятельно".
По мере расширения своих представлений о потоке идей, из которого Дэвид Эпстон, Черил Уайт и Майкл Уайт заимствовали
нарративную метафору, мы обнаружили еще одно важное направление в том же потоке — социальный конструктивизм*. Глубже социальный конструктивизм мы будем обсуждать в главе 2, здесь лишь отметим: его главная предпосылка состояла в том, что убеждения, ценности, установления, обычаи, ярлыки, законы, разделение труда и все прочее, что составляет наши социальные реальности, конструируется представителями культуры по мере взаимодействия друг с другом, поколение за поколением, день за днем. Другими словами, сообщества конструируют "линзы", сквозь которые их члены интерпретируют мир. Реальности, принимаемые каждым из нас как должное, это реальности, которыми общество окружает нас с самого рождения. Они обеспечивают практики, слова и опыт, на основе которых мы строим свою жизнь или, как говорят на постмодернистском жаргоне, "конституируем свою самость".
Используя нарратив и социальный конструкт в качестве ведущих метафор, мы видим, как истории, циркулирующие в обществе, конституируют нашу жизнь и жизнь людей, с которыми мы работаем. Мы также замечаем, как истории индивидуальных жизней могут влиять на устройство целых культур — не только истории людей, подобных Ганди, Мартину Лютеру Кингу, но и истории людей вроде Покахонтас, Энни Оукли, Хелен Келлер и Тины Тернер, равно как и истории "обычных" людей, чьих имен мы никогда не слышали. Работая с людьми, мы задумываемся над взаимодействием между историями, которые они проживают в своей личной жизни, и историями, циркулирующими в их культурах — как в локальных, так и в более широком контексте. Мы думаем о том, как культурные истории влияют на то, как люди интерпретируют свой повседневный опыт, и как их повседневные поступки влияют на истории, которые циркулируют в обществе.
Принятие метафор нарратива и социального конструкта в качестве ведущих повлияло на то, как мы обдумываем другие метафоры и используем их. В самом начале нашей дружбы с Дэвидом Эпстоном он обсуждал нашу первую книгу (Combs & Freedman) и
 *Мы не уверены, что впервые встретились с термином "социальный конструктивизм" в беседе с Гарри Гулишианом или в статье Линн Хоффман (1990) "Конструируя реальности: Искусство оптических линз". Как бы то ни было, мы рекомендуем как статью Хоффман, так и значительно более раннюю статью Кеннета Гергена (1985), которые ознакомили многих людей из психотерапевтических кругов с идеями социального конструктивизма.
*Мы не уверены, что впервые встретились с термином "социальный конструктивизм" в беседе с Гарри Гулишианом или в статье Линн Хоффман (1990) "Конструируя реальности: Искусство оптических линз". Как бы то ни было, мы рекомендуем как статью Хоффман, так и значительно более раннюю статью Кеннета Гергена (1985), которые ознакомили многих людей из психотерапевтических кругов с идеями социального конструктивизма.
недоумевал, почему мы так часто используем метафору "ресурс". Эпстон первым обратил наше внимание на то, что разговоры о ресурсах наводят на мысли о горных разработках. Ресурс представлялся ему как некая неподвижная вещь внутри человека, до которой нужно докопаться и завладеть ею. Он предпочитал метафору "знание", поскольку знание — это нечто, что развивается и распространяется среди людей.
Кэти Вайнгартен (1991) пишет:
"В контексте социального конструктивизма опыт "я" существует в непрерывном взаимообмене с другими... "Я" постоянно творит себя через нарративы, которые включают других людей, взаимно переплетенных в этих нарративах".
Эта концепция "я" не согласуется с тем обтянутым кожей контейнером, наполненным неподвижным содержанием (ресурсами), который прежде лежал в основе наших умозаключений.
Пока мы размышляли над этой новой "конституирующей" (White, 1991, 1993) метафорой "я", моя (Дж. Ф.) сама собой разумеющаяся реальность была настолько разворошена, что я начала страдать расстройством кишечника. Меня буквально тошнило. Я всегда верила, что "глубоко внутри" была хорошим человеком, что бы ни вытворяла. Если нам действительно предстояло принять эти новые методы мышления и восприятия (а мы хотели их принять из-за тех форм терапии, которые из них вытекали), нам следовало взять на себя ответственность за непрерывное конституирование себя как людей, которыми мы хотели стать. Нам пришлось бы исследовать принятые на веру истории нашей локальной культуры, контексты, в которые мы входим, взаимоотношения, которые мы культивируем, и все прочее. Короче, нам пришлось бы постоянно пере- созидать и освежать свои собственные истории. Нравственность и этика уже стали бы не фиксированными понятиями, а текущей реальностью, требующей постоянной поддержки и внимания.
Привыкнув к этой идее, мы поняли, что в контексте нашей терапевтической работы, совместных проектов с другими наши истории потенциально могут не только оказывать помощь, но и причинять вред. Я (Дж. Ф.) — белая еврейка восточно-европейского происхождения. Я (Дж. К.) — белый англосакс, экс-баптист, который вырос в горах сельского Юга. Мы — образованные члены
профессионального сообщества среднего возраста. Мы находимся в привилегированном положении во многих контекстах, включая владение помещением для терапии. В своей терапии мы не хотим воспроизводить те притеснения, которые многим людям пришлось испытать в когтях доминирующей культуры. Порой мы не видим всех возможных факторов, способных привести к этой ситуации, хотя постоянно анализируем прошлый опыт и бросаем критический взгляд на наши практики, пытаясь разоблачить опасные доминирующие истории, которые переживаем. Мы признаем, что не в полной мере понимаем опыт других людей, особенно тех, кто принадлежит другим культурам. Постоянная дилемма для нас заключается в том, как повысить свою ответственность за последствия своего (не) понимания и своих действий*.
Наше восприятие процесса, который мы называем терапией, изменилось, как только мы взяли на вооружение нарративную и социально-конструктивистскую метафоры. Мы уже не организуем наши эмпирические миры в контексте "информации" и "паттерна", а мыслим в контексте "историй". Вместо "систем" мы размышляем о "культуре" или "обществе". Мы уже не ощущаем себя механиками, чинящими сломанную машину, или экологами, которые пытаются понять и повлиять на сложные экосистемы. Мы воспринимаем себя заинтересованными людьми — возможно, с антропологическим, биографическим или журналистским уклоном, —компетентными в задавании вопросов, побуждающих к выявлению знания и опыта в историях людей, с которыми мы работаем. Мы ощущаем себя членами субкультуры социального взаимодействия, сотрудничая с другими людьми в конструировании новых реальностей. Сегодня наша работа помогает людям обнаружить влияние ограничивающих культурных историй на их жизнь и расширить и обогатить их собственные жизненные нарративы. Мы стремимся найти пути распространения вестей об индивидуальных триумфах, запустить в обращение истории о личных успехах, чтобы они поддерживали удовлетворительную атмосферу роста и движения нашей культуры.
Наш переход к этим формам мышления был неровным, ухабистым и всегда вызывал волнение. Поскольку мы работаем в атмосфере терапевтической культуры, в которой доминируют модернист-
 *В главе 10 мы пишем о некоторых аспектах нашего отношения к своим преимуществам
*В главе 10 мы пишем о некоторых аспектах нашего отношения к своим преимуществам
ские идеи, всегда есть искушение идентифицировать людей, отождествляя их с патологическими ярлыками. Поскольку мы являемся частью сообщества людей, применяющих нарративные идеи в терапевтической практике, есть искушение принять эти идеи за непоколебимую истину. Надеемся, что, читая эту книгу, вы будете воспринимать рассказываемые нами истории не как притязания на истину, а как предварительные сообщения и импульс к процессу становления. Может быть, некоторые из вас включат свои истории в поток историй этой культуры.
 2. НАРРАТИВНАЯ МЕТАФОРА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
2. НАРРАТИВНАЯ МЕТАФОРА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Истории имеют значение. Равно как... и истории об историях.
Клиффорд Гирц, 1986
[Три футбольных арбитра] сидят за пивом, и один говорит: "Есть мячи и есть удары, и я называю их так, каковы они есть". Второй говорит: "Есть мячи и есть удары, и я называю их так, как вижу". Третий говорит: "Есть мячи и есть удары, и они ничто, пока я их не назову"*.
Уолтер Труэтт Андерсон, 1990
Эта книга представлялась нам исключительно клинической и ориентированной на практику. И действительно, описания клинических действий составляют большую ее часть. Изучение и применение практик нарративного/социально-конструктивистского толка может привести к более глубокому опыту нарративного/социально-конструктивистского мировоззрения. Однако без понимания этого мировоззрения эффективно использовать те идеи, которые мы здесь представляем, весьма затруднительно. Поэтому данная глава посвящена нарративным/социально-конструктивистским установкам. (В главе 10 мы возвращаемся, к этому мировоззрению в контексте этики, из которой оно вытекает, и взаимоотношений, которое оно поощряет.)
 *Этот конструктивистский анекдот относится к тому, как реальности конституируются через язык. Чтобы превратить анекдот в социально-конструктивистский, его следует расширить, признав, что если арбитр "называет их" так, что это не согласуется с восприятиями других, его могут забросать гнилыми помидорами или Уволить. Не таким ли путем постмодернисты деконструируют анекдот?
*Этот конструктивистский анекдот относится к тому, как реальности конституируются через язык. Чтобы превратить анекдот в социально-конструктивистский, его следует расширить, признав, что если арбитр "называет их" так, что это не согласуется с восприятиями других, его могут забросать гнилыми помидорами или Уволить. Не таким ли путем постмодернисты деконструируют анекдот?
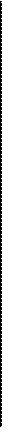
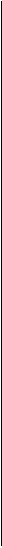
 Вероятно, наиболее важная для нарративной терапии черта этого мировоззрения — определенная установка на реальность. Давид Парэ (1995), описывая три различные установки, касающиеся человеческого познания реальности, пишет, что вещи
Вероятно, наиболее важная для нарративной терапии черта этого мировоззрения — определенная установка на реальность. Давид Парэ (1995), описывая три различные установки, касающиеся человеческого познания реальности, пишет, что вещи
"...эволюционировали от фокуса на наблюдаемом мире как объекте к фокусу на наблюдающей личности как субъекте и к фокусу на пространстве между субъектом и объектом, то есть межсубъектном мире, где в сотрудничестве с другими происходит интерпретация ".
Другими словами, Парэ говорит, что существуют три убеждения: (1) реальность познаваема — ее элементы и творения могут быть точно и многократно выявлены, описаны и использованы человеческими существами; (2) мы пленники своего восприятия: попытки описать реальность очень много говорят нам о человеке, который выполняет описание, но не слишком много о внешней реальности; и (3) знание возникает внутри сообществ познающих: реальности, которые мы населяем, — это те реальности, где мы ведем переговоры друг с другом. Парэ утверждает, что в ходе XX столетия происходила постепенная (но все еще не завершившаяся) эволюция от первой к третьей точке зрения.
Существует некая самая общая связь между тремя установками Парэ, кибернетиками первого и второго порядка и нарративным/ социально-конструктивистским мировоззрением — всем тем, что мы встречали во время своего личного терапевтического путешествия. Нарративная терапия основана на третьем мировоззрении Парэ.
Описанное Парэ непротивление эволюции, первое мировоззрение, называемое "модернизмом", "позитивизмом", "структурализмом" или "старомодным здравым смыслом", живет и процветает. Что касается науки, это мировоззрение, при котором люди убеждены: можно найти неотъемлемые, "объективные" факты и затем соединить их в сводные теории общего приложения, призванные подводить нас все ближе и ближе к точному пониманию реальной вселенной. Применительно к гуманитарным наукам, это тот гуманизм, который пытается развить великие, обширные метанаррати-вы, касающиеся положения человека и способов его "улучшения". Приняв это мировоззрение, люди начинают верить в то, что применяемые ими идеи больше, чем просто идеи. Они убеждены, что
 это выражение общих истин о базовой реальности, лежащей в основе нашего бытия.
это выражение общих истин о базовой реальности, лежащей в основе нашего бытия.
Во время одного учебного курса, который я (Дж. Ф.) некогда посещала, преподаватель описывал научные теории как некоторые объяснительные системы, периодически ниспровергающиеся улучшенными системами. Критерий наилучшей теории, по его мнению, заключается в том, что она предлагает простейшее объяснение для всех известных явлений. Новые теории получают признание, когда обнаруживаются новые явления или когда разрабатывается более простое объяснение*. Далее преподаватель заметил, что наше понимание электричества — это теория, но не истина, однако, когда ему приходится чинить телевизор, он отбрасывает это различие и на это время теория для него превращается в истину. В противном случае, пояснил он, задача ремонта телевизора становится весьма затруднительной.
С постмодернистской точки зрения, мы подходим ко многим проблемам в области душевного здоровья примерно так, как этот преподаватель — к починке телевизора. Мы видим, как это происходит, когда диагносты, применяющие критерии, изложенные, скажем, в DSM-IV, ведут себя так, как если бы обладали не исследовательским инструментом, а набором описаний реальных гомогенных душевных расстройств, являющихся истинным для всех людей во всех контекстах. Или когда генетики и фармакологи, равно как и клиницисты, которые опираются на свои исследования, ведут себя так, как если бы обладали "истиной" о причинах и методах лечения расстройств, входящих в DSM-IV. Или когда люди из организованного здравоохранительного движения полагают, что возможно разработать стандартные методы, которые обеспечат предсказуемые, эффективные результаты при лечении всех психиатрических "заболеваний" за установленное число сеансов, проводимых с установленной частотой.
С этими и подобными проектами связаны некоторые проблемы. Как бы то ни было, люди — это не телевизоры. Когда к ним подходят как к объектам, о которых мы знаем истину, их опыт часто
 *Это объяснение можно считать как модернистским, так и постмодернистским — в зависимости от того, в чем состоит его предпосылка в том, что каждая удачная теория ближе продвигалась к истине, или в том, что новые теории служили новыми историями, которые становились более популярными через политические/со-циально-конструктивистские процессы (см. Kuhn, 1970) Я никогда не была иску-
*Это объяснение можно считать как модернистским, так и постмодернистским — в зависимости от того, в чем состоит его предпосылка в том, что каждая удачная теория ближе продвигалась к истине, или в том, что новые теории служили новыми историями, которые становились более популярными через политические/со-циально-конструктивистские процессы (см. Kuhn, 1970) Я никогда не была иску-
шена в науке и не помню, с какой точки зрения давалось это определение Нам
выгоднее считать, что это постмодернистская история
подвергается дегуманизации Они могут ощущать себя машинами на сборочной линии Кроме того, хотя пилюля или процедура могут улучшить функционирование человека, он может начать думать хуже о себе самом. Нам встречались люди, которые в результате применения антидепрессантов лучше спали, становились более энергичными и меньше плакали Однако в то же время они ощущали себя надломленными или неполноценными, поскольку для их функционирования "требовались" лекарства* "Объективность" модернистского мировоззрения, с его акцентом на фактах, воспроизводимых процедурах и правилах общего применения, с легкостью игнорирует специфические, локализованные смыслы индивидов. Подходя к людям с такой "объективностью", мы рассматриваем их в качестве объектов, тем самым вовлекая их во взаимоотношения, в которых им отводится роль пассивных, беспомощных реципиентов нашего знания и умения. Говоря об этом, Кеннет Герген (1992) пишет
" Постмодернистские возражения направлены не против различных школ терапии, но лишь против их позиции авторитарной истины".
Постмодернисты убеждены в том, что существуют ограничения в сфере возможностей человека измерить и описать вселенную точным, абсолютным и универсально применимым методом. Они отличаются от модернистов тем, что исключения интересуют их больше, чем правила. Они предпочитают рассматривать специфические, контекстуальные детали гораздо чаще, чем великие обобщения, и отличие чаще, чем подобие. Если модернистские мыслители склонны интересоваться фактами и правилами, то постмодернистам интересен смысл. В своих поисках смысла и его исследовании постмодернисты находят больше пользы в метафорах из гуманитарной сферы, чем в модернистских метафорах, заимствованных из физики XIX века. Как пишет об этом Клиффорд Гирц (1983):
"...Средства аргументации меняются, и общество все реже и реже представляется в виде искусной машины или квази-
 *Мы не против медикаментов Мы также не против клинических исследований или точного наименования проблем Мы выступаем лишь против использования медикаментов, исследований, открытии или диагностической терминологии, которые применяются в механизированной, шаблонной и/или дегуманизирующеи манере
*Мы не против медикаментов Мы также не против клинических исследований или точного наименования проблем Мы выступаем лишь против использования медикаментов, исследований, открытии или диагностической терминологии, которые применяются в механизированной, шаблонной и/или дегуманизирующеи манере
организма и все чаще — как серьезная игра, бульварная драма или поведенческий текст"
Постмодернисткое видение реальности*
Принятие постмодернистского, нарративного, социально-конструктивистского мировоззрения влечет за собой полезные идеи о том, как понятия власти, знания и "истины" обсуждаются в семьях и более крупных культурных образованиях. Гораздо важнее подходить к людям и их проблемам с позиции установок, вытекающих из этих идей, нежели использовать какую-то определенную "нарративную технику" Поэтому нам хотелось бы ознакомить вас с четырьмя идеями, относящимися к этому мировоззрению, прежде чем описывать практики, которые обычно с ним ассоциируются Вот эти идеи:
1. Реальности социально конструируются.
2. Реальности конституируются через язык.
3. Реальности организуются и поддерживаются через нарратив.
4. Не существует абсолютных истин.
Реальности социально конструируются
Представьте себе двух людей, выживших после экологической катастрофы и собравшихся для того, чтобы основать новое общество Представьте, что они мужчина и женщина, пришедшие из разных культур. Даже если у них нет общего языка, общей религии и предположений о том, как следует разделять труд, или о том, какое место в нормальном обществе занимают работа, игра, общественный ритуал и частное размышление, они должны начать координировать свои действия, если предполагается продолжение культуры любого рода. По мере того как они станут заниматься этим, появятся некоторые взаимоприемлемые привычки и различе-
 *Среди ученых ведутся многочисленные споры о том, что же в точности составляет постмодернистское мировоззрение Поскольку мы клиницисты, а не ученые, различия, которые мы здесь обсуждаем, касаются лишь сферы предпочитаемых нами терапевтических практик
*Среди ученых ведутся многочисленные споры о том, что же в точности составляет постмодернистское мировоззрение Поскольку мы клиницисты, а не ученые, различия, которые мы здесь обсуждаем, касаются лишь сферы предпочитаемых нами терапевтических практик
ния: с некоторыми веществами будут обращаться как с едой, определенные места, найденные или обустроенные, будут служить кровом. Каждый из них будет принимать на себя определенные повседневные задания, и они, вероятнее всего, создадут общий язык.
Возникшие привычки и различения в кругу двух этих основателей зарождающегося общества будут оставаться "зыбкими, легко изменяемыми, почти игровыми, даже несмотря на то, что они строят меру объективности просто на факте их формирования" (Berger & Luckmann, 1966). У них всегда будет возможность вспомнить: "Вот как мы решили это делать" или: "Будет лучше, если я приму эту роль". Они будут в определенной степени убеждены, что существуют другие возможности. Тем не менее, уже в их поколении начнут появляться такие обычаи, как "забота о детях", "обработка земли" и "постройка".
Что касается детей поколения основателей, то для них "Вот как мы решили..." будет звучать скорее как "Вот так это делают наши старшие", а для третьего поколения это будет "Вот так это делается". К матерям, земледельцам и строителям будут относиться как к вечно существовавшим типам людей. Процедуры-полуфабрикаты для постройки домов и весеннего сева, которые двое наших основателей сформировали на скорую руку, в той или иной степени будут сведены в правила, касающиеся того, как строить дома или сеять хлеб. Подобно этому будут написаны законы, определяющие, каким образом можно строить дома или сеять хлеб. Трудно представить, чтобы не появились обычаи, регулирующие ритуалы создания семьи или сбора урожая. Так же очевидно, что некоторые индивиды будут определены как надлежащие люди для исполнения этих ритуалов. Начнут появляться такие институты, как женские общества и гильдии каменщиков.
К четвертому поколению нашего воображаемого общества "Вот так это делается" превратится в "Вот так существует мир; это — реальность". Как формулируют это Бергер и Лакманн (1966), "мир установлений... переживается как объективная реальность".
Предыдущий мысленный эксперимент служит парафразом рассуждений Питера Бергера и Томаса Лакманна, которые в своей классической работе "Социальные конструкты реальности" (The Social Construction of Reality) описывают, как идеи, практики, убеждения и прочее приобретают статус реальности в данной социальной группе.
Центральный принцип постмодернистского мировоззрения, на котором основан наш подход к терапии, состоит в том, что убеж-
 дения/верования, законы, социальные обычаи, привычки, связанные с одеждой и питанием — все то, что составляет психологическую ткань "реальности", — со временем возникает из социального взаимодействия. Другими словами, люди совместно конструируют свои реальности, обживая их.
дения/верования, законы, социальные обычаи, привычки, связанные с одеждой и питанием — все то, что составляет психологическую ткань "реальности", — со временем возникает из социального взаимодействия. Другими словами, люди совместно конструируют свои реальности, обживая их.
Бергер и Лакманн различают три процесса: типизацию, инсти-туционализацию и легитимизацию, которые, по их мнению, играют важную роль в том, как любая социальная группа конструирует и поддерживает свое знание, касающееся "реальности". Они используют четвертый термин — конкретизация, охватывающий весь процесс целиком, тогда как три первых — его части.
Типизация — это процесс, посредством которого люди сортируют свои восприятия по типам или классам. Например, в моей родной культуре я (Дж. К.) научился сортировать людей на "баптистов" (нас), "других христиан" (почти, но не совсем нас) и "тех, которые не спасутся" (их). Наши реальности конституируются через сети типизаций. То есть мы склонны принимать типизации, о которых узнаем от членов нашей семьи, друзей, учителей и т.д., за реальные. И все же типизации, которые использует определенный человек или культура, не являются единственно возможными*.
Например, Кеннет Герген (1985) описывает, как
"...в определенные [исторические] периоды детство не рассматривалось как особая фаза развития, романтическая и материнская любовь не были составляющими человеческого склада ума и самость не считали изолированной и автономной".
Он продолжает, рассуждая о том, что появление таких понятий, как "детство", "романтическая любовь" и "автономная самость", связано с "исторически обусловленными факторами", а не с внезапным появлением во вселенной новых объектов или сущностей.
Говоря о "взаимозависимости", или "шизофрении", или "нарративной терапии", важно помнить, что мы активно увековечиваем социальную конструкцию этих понятий как реальных элементов в ткани нашего повседневного бытия. Все мы слишком легко забываем, что другие типизации могут привести к восприятию других возможностей. (С чем вы предпочтете работать — с "этим пограничным состоянием" или с "женщиной, которая озлоблена тем,
 * Джордж Говард (1991) указывает на то, что все мы принадлежим нескольким культурам По мере того как новые культуры начинают доминировать в нашей жизни, мы, как правило, отказываемся от менее авторитетных культур
* Джордж Говард (1991) указывает на то, что все мы принадлежим нескольким культурам По мере того как новые культуры начинают доминировать в нашей жизни, мы, как правило, отказываемся от менее авторитетных культур
что сослуживцы обращаются с ней в патриархальной, патерналистской манере"?)
Институционализация — это процесс, посредством которого вокруг наборов типизаций возникают институты/установления: институт материнства, институт закона и т.д. Институционализация помогает семьям и сообщес
 2015-04-30
2015-04-30 1264
1264








