И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Традиция культуры как восхождения обновленного Слова подверглась в искусстве XX столетия глубокому рефлексирующему анализу. Выражением этого процесса стал особый статус заимствованного слова, выступившего в качестве художественного приема.
Взаимодействие аллюзий с собственным повествованием происходит в основном по принципу переносных значений, что придает классическим образам в современном тексте характер тропов. Неопределенность возникающих при этом аналогий ведет к установлению оригинальных связей, усиливающих художественную сторону произведения. В силу функциональной нагрузки они могут выступать в качестве «изобразительных» или «выразительных» метафор.
В первом случае залогом успешного использования заимствованных образов выступает их адекватность общепризнанному содержанию. Если классический образ, в данном исследовании шекспировский, трансформируясь, сохраняет соответствие первичному значению, речь идет о его вариантах. В том случае, когда индивидуальная модификация известного художественного решения достигает предела, за которым он получает самостоятельное существование, относительно независимое от исходного материала, шекспировский образ обретает новое качество. В случае с «изобразительной» метафорой классические образы выступают в аналитической функции, усиливая содержание мысли современного автора. Если заимствование используется в плане «выразительности», то, обладая большей свободой, аллюзии обогащают контекст выявлением неожиданных содержательных аспектов. В этих редких случаях полнота их реализации зависит от прояснения окказиональных особенностей исходного образа.
В зависимости от преобладания качества изобразительности или выразительности заимствованный образ может существовать в одном из трех пластов современного произведения: в пространстве персонажа, пространстве автора или порождаемом им самим пространстве нового художественного произведения. Отличительной чертой функционирования чужих образов в пространстве персонажа является отсутствие когнитивности; их употребление сводится к констатации факта, который так и не перерастает в художественное явление. Это один из традиционных способов использования шекспировских образов.
Иной сферой «обитания» цитаты выступает пространство автора. На этом уровне поэтическая аллюзия прежде всего реализуется в полноте своих художественно-философских возможностей. Она обымает большие пласты смыслов, которые, будучи сведены в образ, обретают превосходящее его содержание. Формы взаимодействия цитатного слова в обоих случаях весьма разнообразны и колеблются от полного наложения до резонансного отчуждения. В последнем случае автор с помощью заимствованного образа открывает перспективу, которая бесконечна относительно того неведения, в котором пребывают персонажи.
Третьим пространством пребывания метафоры является собственно сама метафора. Это происходит в тех исключительных случаях, когда обеспечивающее ее существование содержание настолько велико, что не позволяет ей выйти за границы простого сравнения. В этом случае метафора выступает поводом к созданию произведения и служит мерой его содержания. Речь идет о конгениальности произведений двух авторов.
Примеры, когда рожденная шекспировским образом новая художественная реальность в силу внутренней завершенности обретает такую самостоятельность, которая позволяет ей существовать без опоры на авторитет, в истории шекспировского наследия уникальны. В современной литературе к ним можно отнести «Макбет» Ионеско (1972).
Название драмы с неизбежностью определяет ее место в ряду с шекспировской трагедией. Древняя генеалогия сюжета, восходящая к изданной в 1562 г. в Париже «Scotorum Historiae» Боэция, допускает многообразие литературных источников, однако предложенная французским автором трактовка не оставляет сомнений в ориентации на шекспировский контекст. И в то же время произведение остается независимым от него, так же как трагедия самого Шекспира оригинальна по отношению к предшествующей хронике Голиншеда. Философско-художественное взаимодействие эстетических систем — классической и современной — реализуется в сложном сосуществовании шекспировской трагедии и драмы абсурда.
Организующим структуру пьесы началом Ионеско избирает принцип контрапунктического сгущения и уплотнения шекспировского действа, предопределяя этим смысловую насыщенность пьесы. Прием становится главным выразительным средством в прорисовке внутренней темы. В процессе «развертывания» шекспировского сюжета Ионеско выделяет ряд узловых моментов, которые служат Движущим и одновременно фиксирующим фактором новой формы, — конструкция рождается в единстве «становящегося» и «ставшего». В соответствии с классической схемой основная нагрузка ложится на три ключевые сцены, которыми оказываются открывающий пьесу Диалог барона Кандора с бароном Гламиссом, излечение Дунканом прокаженных, завершающееся убийством великого герцога, и монолог Малькольма, после убийства Макбета вступающего на престол. Первые две из них — завязка и кульминация — оригинальны, так Как отсутствуют в шекспировском тексте. События, которые лежат в их основе, лишь упоминаются в череде прочих в английской драме. Развязка, в свою очередь, открыто опирается на шекспировский текст, который автор эксплицитно вводит в произведение. Используя его в полемически заостренной форме, драматург применяет прием обнажения (mise en abfme) принципов построения пьесы в рамках шекспировского контекста. На философско-художественном уровне ключевым моментом во взаимодействии текстов становится ирония.
В шекспировской трагедии прологом драмы служит битва близ Форреса, когда Макбет празднует победу над ирландским войском Макдональда, а затем разбивает соединения норвежцев и кавдорского тана, изменившего Дункану. Приговором предателю звучат суровые слова короля Шотландии:
Дункан. Поправший верность нам кавдорский тан
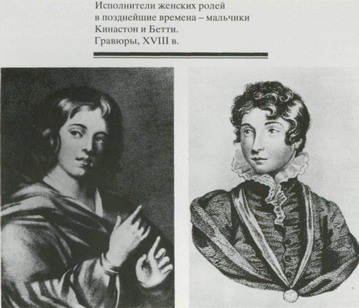 Наказан будет смертью за обман.
Наказан будет смертью за обман.
А с областями вражьего клеврета
И с титулом его поздравь Макбета.
В сопоставлении с шекспировским текстом у Ионеско эта сцена трактуется расширенно. Он укрупняет эпизод, придавая ему дополнительную энергию и тем самым подчеркивая значительность происходящего. Конструктивную роль при этом играет дихотомия присутствия/отсутствия сцены в классическом/современном произведении.
Завязкой во французской драме служит заговор придворных баронов Гламисса и Кандора, которые решают восстать против тирании великого герцога Дункана во имя своих суверенных наследных прав:
Гламисс. Долой Дункана!
Кандор. Долой Дункана!
Гламисс. Пусть только посмеет заикнуться...
Кандор....что государство — это он.
Гламисс. Я ему каждый год сдаю по десять тысяч куропаток и яиц.
Кандор. И я тоже.
Гламисс. Десять тысяч куропаток, десять тысяч лошадей, десять тысяч молодых парней... Что он со всем этим делает? Невозможно же все это съесть. Остальное гниет... Да зравствует независимость!
Кандор. Мы что, не имеем права обогащаться? Да здравствует автономия! Гламисс. Да здравствует свобода!
Их попытка склонить на свою сторону Банко и Макбета заканчивается неудачей. Кандор и Гламисс попадают в плен. Первого из них казнят на глазах у благодушно настроенной свиты придворных, возглавляемой леди Дункан: за чашкой чая с пирожными она методично отсчитывает количество отсекаемых у нее на глазах голов. Их число достигает двадцати тысяч, когда становится известно о побеге Гламисса. Ему не удается спастись — он тонет, переплывая реку. Макбету и Банко об этом сообщают ведьмы. И бароны «заступают» на роль своих предшественников — история повторяет свой круг. Те же лозунги и реплики звучат теперь из других уст.
Банко. Дункан упрям.
Макбет. Очень упрям. Упрям... (Оглядывается по сторонам.) как осел... Считает, что это его право охотиться в моем домене. И делает вид, что это в интересах государства.
Банко. И утверждает... Макбет. Что государство это он...
5 Цитаты из пьесы Ионеско «Макбет» приводятся в переводе
Банко: Десять тысяч куропаток, десять тысяч лошадей, десять тысяч молодых парней. Что он со всем этим делает? Невозможно же все это съесть. Остальное гниет.
Макбет. Долой Дункана!
Банко. Что мы, не имеем права обогащаться?
Макбет. Да здравствует автономия!
Исследуя природу зла, Ионеско, подобно Шекспиру, выстраивает цепочку трагических событий, повторяемость которых подчеркивает их предопределенность и необратимость. В обоих случаях проблема ставится в отношении отдельной личности и в плане социального мироустройства. «Evil at work in the individual and in the world a large». Однако в понимании механизма зла взгляды авторов принципиально расходятся. Шекспировская трагедия к традиционном понимании служит повествованием о герое, который, теряя человеческое обличье, допускает, однако, лишь временное торжество порока. «Среди мира поставил я тебя, говорил Творец Адаму, — писал Пико делла Мирандола, — чтобы ты легче осмотрелся. Ты можешь выродиться в зверя и возродиться в богоподобное существо». В своем предельном устремлении человек возрожденческого универсума подобосущностен (homoiousian) Богу. В микрокосмосе его «я» сосредоточено богатство вселенной. Отсюда глубина внутренней перспективы, органичность состояний души, «сверхэмпирическая» сложность характеров. Герой классической литературы потенциально «преодолевает» себя в каждом конкретном проявлении, никогда не «равен» ему и не может быть им «измерен».
Эта целостность характера в литературе XX в. распадается. Иными словами, исчезает внутренняя устремленность к идеалу, в некую бесконечно отдаленную точку пространства, где, являясь Всем, человек не более чем Ничто, в абсолютности этого Ничто реализующий потенциальную все-возможность. Лишаясь своего рода метафизической надстройки, жизнь во все большей степени замыкается в кругу эмпирических проблем, тем самым, сообщая его образу все большую механистичность. В области философско-эстетических исканий западная критика видит истоки этого явления во взглядах Ницше, которые понимаются как своего рода бунт, приведший к отказу от христианской монистической картины мира, — отречению от восприятия души как единой и неделимой субстанции — монады («Nietzsche's rejection of the soul as a monad, of character as an indivisible whole»). Одним из наиболее известных высказываний немецкого философа по этому вопросу являются его строки из трактата «По ту сторону добра и зла»: «Коперник вопреки свидетельству чувств заставил нас поверить, что земля не стоит неподвижно. Боскович заставил нас отречься от веры в последний твердо стоящий остаток земли, от веры в „вещество", в „материю", в остаток и кусочек земли — атом; это была величайшая победа над чувствами, какую только когда-либо одерживали люди. Но надо идти дальше. Нужно, прежде всего, положить конец другой, более пагубной атомистике, атомистике души». В искусстве XX в. эта мысль нашла отражение в эстетике экспрессионизма, сюрреализма, абсурда, где отказ от репрезентативности в изображении состояний души оказался определяющим изобразительным приемом. Главным средством его реализации стало художественно-аналитическое «разъятие» некогда понимаемого как неделимая целостность внутреннего мира человека. «Этим словом, — писал Ницше, пытаясь разобраться в собственных суждениях по атомистике души как мировоззренческой основе длительного периода развития европейской культуры, — можно обозначить то понятие, по которому душа является чем-то неуничтожаемым — вечным, неразделенным — неделимым атомом. Говоря откровенно, нет никакой необходимости уничтожать при этом „душу" и отрекаться от одной из самых старых и почтенных гипотез... Но путь к новому, более тонкому пониманию гипотезы души свободен, и такие понятия, как „душа как множественность субъектов", „душа как синтез всех влечений и аффектов", должны иметь право гражданства в науке». Если опустить определенную условность языка, нельзя не заметить, что в плане философии человеческой души Ницше намечает новые направления исследования, предваряя художественные открытия Пруста, Джойса, Кафки, Сартра, Жене, Ионеско и многих писателей грядущего столетия, в основу художественного метода которых легло стремление постигнуть природу человека, разъяв «гармонию» его «души» изнутри — «dissolve that unity of the soul from the inside». Исходя из этого демаркационной линией классического/современного искусства становится проблема характер/персонаж, которая выдвигается на первый план. Процессы, перевернувшие облик мира за прошедшие сто лет, привели к своеобразной дестабилизации внутренней природы человека. В литературе это нашло отражение в отказе от концепции «героя», свойственной классическому искусству, вместо которой модернистское искусство XX в. предложило концепцию персонажа. Отличительной чертой выдвинувшегося на авансцену художественных произведений «героя» «commedia divina» XX столетия становится его потенциальная выводимость из суммы совершаемых им поступков. Это свидетельствует об отказе писателей от приема внутренней перспективы как средства создания сложного неповторимого универсума индивидуума. Описание внутренних состояний как механистической совокупности проявлений отличает всех персонажей «Макбета» Ионеско. В отличие от шекспировской характеристики зла, воплотившегося в образе Макбета, как временной уступки пороку Ионеско рассматривает его как имманентное начало бытия, столь же очевидное, как и реализуемая в иронии автора его противоположность. Для выражения этой идеи Ионеско активно пользуется широко распространенным в поэтике театра абсурда приемом повтора. Он обращается к нему на уровне отдельных реплик — так, лейтмотивом сцены гибели Дункана становится слово assassins (убийцы), с разной интонацией и на разные лады повторяемое всеми персонажами: Банко, Макбетом, Дунканом и его супругой. В результате происходящее теряет частный характер, превращаясь в своеобразную философию: смещаются смысловые акценты, становится трудно понять, кто «больший» убийца — жертва или заговорщики. Мир превращается в кровавый хаос, залитый кровью братоубийственных столкновений.
Прием повтора используется Ионеско и на уровне крупных функциональных единиц, таких, как монолог или мизансцена. В начале пьесы Макбет произносит исполненный трагичных признаний монолог о беспощадности войны: гибнет мирное население, горят дома, остаются сиротами дети, набухают от крови реки... Стоит Макбету покинуть сцену, как появляется Банко, слово в слово повторяющий его сентенции. Что касается повтора мизансцен, то, помимо уже упоминавшегося «цитирования» Макбетом и Банко диалога заговорщиков Гламисса и Кандора, то же самое наблюдается в сценах с ведьмами и отчасти в сценах с призраками.
В отличие от Шекспира, который тяготеет к использованию магически значимых в оккультных науках чисел 3, 7, 9, Ионеско предпочитает бинарность как математическую основу создаваемого им художественного мира. Музыка небесных сфер являет себя в пьесе гармонией двух начал: вместо трех шекспировских ведьм у Ионеско их две, леди Дункан неотделима от прислуживающей ей фрейлины-чернокнижницы, Макбет не является таном Гламисским, как у Шекспира, получающим в награду к своему имени титул, но поначалу существует вне системы отношений двух баронов и пр. При этом отказ от лежащего в основе магического круга, определяющего мировой порядок, числа 3 не несет у Ионеско абсолютного характера: судьба трона, занимаемого Дунканом, испытывается в его пьесе трижды — на смену ему воцаряется Макбет, которого в свою очередь сменяет Макол. Однако диалектичность мира, которую до определенной степени воплощает в математическом выражении цифра 2, остается основополагающим моментом поэтики Ионеско. Это находит выражение не только в системе действующих лиц пьесы, построении мизансцен, но в организации сценического пространства, живописных решениях и др. Следует отметить, что повторы на всех уровнях создаваемого Ионеско художественного полотна связаны не столько с концепцией времени, сколько с философией качества бытия: автор утверждает изначальную предопределенность миропорядка, выяснению особенностей которой служит прием иронии. Художественным решением современного состояния мира становятся образ одинокого ловца бабочек. Он возникает в финале сквозь завесу дыма, в которой только что растворился «император итераторов» (empereur de tous les empereur), последний из завоевателей трона, «сверхвысочество» и «сверхвеличество» (supra-altesse, supra-majeste) Макол. Как заметил один из современных критиков, «бессмыслица, являясь сегодня игрою ума, служит наилучшим оружием против клише повседневности» («Nonsense is today the humor of the spirit and thus the best weapon against the cliches that rule all of our lives»).
 Итак, кульминационной сценой пьесы является убийство Дункана. Ей предшествует пластичная и яркая сцена излечения прокаженных. Возобновление этой традиции при английском дворе было связано с именем короля Якова, который «восстановил древний обычай допускать... к себе больных злой немощью и исцелять их прикосновением королевской руки и возложением на шею монеты».
Итак, кульминационной сценой пьесы является убийство Дункана. Ей предшествует пластичная и яркая сцена излечения прокаженных. Возобновление этой традиции при английском дворе было связано с именем короля Якова, который «восстановил древний обычай допускать... к себе больных злой немощью и исцелять их прикосновением королевской руки и возложением на шею монеты».
Макдуф. Что это за болезнь?
Малькольм. Народ зовет
Ее тут немощью. Угодник божий —
Король с ней производит чудеса.
Я сам бывал свидетелем нередко,
С тех пор как в Англии. Не знаю, чем
Он вымолил у неба эту силу.
Но золотушных, в язвах и прыщах.
Опухших, гнойных и неизлечимых
Он лечит тем, что молится за них
И вешает монетку им на шею.
Эта сцена также воспроизводится Ионеско «укрупненно». Сосценический образ бегло описанной Шекспиром процедуры, драматург вводит мрачную фигуру монаха, который придает величественную живописность происходящему, поочередно благословляя мантию, корону и скипетр Дункана.
Монах. Да хранит вас Господь.
Он благословляет великого герцога, который склоняется перед ним.
К монаху подходит офицер, в руках у которого пурпурная мантия, корона и скипетр.
Монах, благословив корону, берет ее из рук офицера. Идет к Дункану и надевает ее на голову коленопреклоненного Дункана.
Именем нашего всемогущего Господа Бога я благословляю тебя в твоих королевских трудах.
Эта церемония трижды повторяется, прежде чем к Дункану допускаются больные. Под видом недомогающих входят Банко, Макбет и ведьма в облике леди Дункан, которые закалывают его.
Сжимая пространственно-временной объем шекспировской пьесы, Ионеско отказывается от образа леди Макбет. Ее роль выполняет принявшая облик леди Дункан старуха-прорицательница, что свидетельствует о внутренней близости для Ионеско образа леди Макбет образам ведьм. Персонификация зла носит у французского драматурга более отчетливый характер, чем у Шекспира, подчеркивая авторскую идею о его имманентности.
При этом Ионеско вторит намеченной в английской трагедии теме, которая не обрела там развития. Ведьмы у Шекспира выступают как перводвижители кровавой цепи событий, пробуждая в Макбете дремлющее честолюбие. В письме к супруге кавдорский тан делится открывшейся ему перспективой возможного восхождения на шотландский престол и тем самым побуждает леди Макбет активно включиться в осуществление предсказаний. При этом особенностью развития «ситуации зла» становится ее циклический характер, когда конечная и исходная точки практически совпадают. На леди Макбет цепь порочных взаимозависимостей обрывается, ситуация исчерпывает себя. На сюжетном уровне эта мысль подчеркивается отсутствием у супружеской четы наследников. В трактовке Ионеско предела поступательному развитию «ситуации зла» нет, цепная реакция бесконечна, а значит, открыта в будущее, которое олицетворяет в пьесе Макол.
Свершив очередной оборот, колесо Фортуны возносит в его лице на престол законного наследника. Ионеско заимствует тронную речь Макола у Шекспира эксплицитно, со ссылкой, вводя в текст прозаическое переложение трех монологов Малькольма из его «испытательной» беседы с Макдуфом. Подозревая прибывшего шотландского вельможу в сговоре с Макбетом, сын Дункана отказывает ему в просьбе возглавить освободительное движение шотландцев. Мотивируя свой отказ, Малькольм прибегает к приему самооговора, приписывая себе раблезианские по размерам пороки — алчность, сластолюбие, жестокость.
Малькольм....Моим порокам нет числа …нет границ
Разгулу моему. Мои желанья
Не знают удержу. Еще сильней
Мое корыстолюбие.
Нет, обладай я королевской властью,
Я в царстве все перевернул вверх дном,
Разрушил нравственность, покой, порядок
И молоко согласья вылил в ад.
Сцена диалога у Шекспира пронизана иронией. Она используется как прием отчуждения героя от произносимого им текста и не дает идентифицировать его речь с его мыслями. Это впечатление усиливает разница позиций говорящих, когда один относится к ситуации скептически, другой принимает ее всерьез. Малькольм ведет разговор с Макдуфом играя, тогда как Макдуф не слышит искусственности его интонации и беседует серьезно, что придает сцене гротескность.
Малькольм. Ну как, достоин править,
По-вашему, подобный человек?
Макдуф. Достоин ли он править? Жить на свете Он недостоин! Бедный мой народ!
Экспериментируя с шекспировским текстом, Ионеско лишает его иронии. На смену ситуации отчуждения героя от его собственных слов приходит совпадение «я» Макола с декларируемыми постулатами. Персонаж становится соположен собственному высказыванию, Равен ему, а значит, измеряем им. Исполненный игры текст шекспировского героя персонаж Ионеско «натягивает» на себя «речь действующего лица «выпрямляется», сцена лишается второго плана, смысловые акценты смещаются.
Maкол. Я чувствую в себе массу пороков... Вдобавок у моей сложной натуры уйма дурных инстинктов... Да, стоит мне добиться власти, я тут же вылью молоко согласья в ад. Все переверну вверх дном, разрушу на земле всякую гармонию.
Таким образом, выписанные Шекспиром с иронией пороки Малькольма становятся у Ионеско «достоинствами» Макола. Становясь верховным правителем мифической страны, он гордо говорит о себе как о тиране и убийце. Оказываясь неподвластной временным ограничениям, «ситуация зла» обретает в художественном пространстве французской пьесы доминирующее положение. По мысли автора, в мире нет объективных сил, способных остановить ее поступательное развитие.
Maкол. Для начала герцогство превратим в королевство — и я стану королем. А если в империю — то императором. Сверхгосударем, сверхповелителем, сверх-величеством, императором всех императоров.
Признавая всесилие зла в сфере надличностного бытия, Ионеско допускает, однако, возможность противостоять ему в границах личностного самостояния. Отвергая магию прописных истин, он персонифицирует его в образе отрешенного от тщеты обуявших мир честолюбивых притязаний ловца бабочек. Финальная сцена-видение является художественно выразительным «жестом», говорящим о том, что торжеству зла в мире может положить предел только взявшая на себя эту миссию отдельная человеческая личность.
[Макол] исчезает в клубах дыма. Дым рассеивается. По сцене бредет одиноко» ловец бабочек.
Пьеса кончается не утверждением, но намеком на некую возможность ограничения сил тьмы. Сюжетно она остается «незавершенной» в силу открытой в бесконечность возможной повторяемости явления, которое автор исследует в художественной форме. В основу произведения положена не отдельная коллизия, но ситуация - архетип, которая может случиться в любой момент прошлого, настоящего, будущего в любой точке земного шара: необходимым и достаточным условием для этого является человек в разнообразии его социальных взаимосвязей. В трансцендентном плане он сам несет в себе эту ситуацию, которая не может осуществиться вне него. Место и время перестают играть роль — исторические реалии в пьесе оказываются размытыми. Так, одна из ведьм носит очки, разносчик лимонада продает на поле боя прохладительные напитки, «подлинная» леди Дункан перестукивается в подвале темницы по тюремному телеграфу, «ложная» леди Дункан, сбрасывая королевское платье, достает бесовский наряд из чемодана. Переодевания и превращения, придающие сценической реальности пластичность, несут философскую нагрузку. Трансформация (transformation) рассматривается Ионеско как непременное условие существования материи и человека как одного из ее проявлений. Казалось бы, это утверждение противоречит концепции «ситуации зла» как состояния, в которое мир погружен навечно. В парадоксальной форме взгляд на жизнь как на вотчину порока обретает примирение с представлением о ней как о вечно меняющейся субстанции. Его отличительной чертой является объективная ирония. Этот прием становится единственным «положительным» началом в произведении Ионеско.
В отличие от французской драмы нравственное чувство зрителя в английской трагедии удовлетворяется развитием как внешних, так и внутренних закономерностей. На уровне сюжета злодей несет кару за содеянное зло. Объективный ход событий в шекспировском «Макбете» приводит к гибели кавдорского тана на поле сражения. Его смерть неизбежна в мире, где порок лишь временно препятствует наступлению всеобщей гармонии. Субъективным проявлением той же закономерности становятся нравственные терзания героя, который мечется, преследуемый видениями окровавленного кинжала, тени Банко, блуждающей в беспамятстве по замку жены.
У Ионеско воцарение Макбета тоже сопровождается убийством Банко, появлением его тени на свадебном пиру, видением Дункана, сражением, которое происходит во исполнение заклятия, что «двинется Бирнамский лес на Дунсинан». Однако страсти лишены катарсисного эффекта, поскольку не фокусируются в моменте нравственного решения, той магической точке, где, будучи преломленными, должны отбросить «обратный» луч и высветить глубину страданий самого Макбета. Отсутствие внутренней перспективы делает его характер плоскостным — персонаж становится некой суммой характеристик и не более.
В итоге философская концепция личности у Ионеско оказывается ориентированной вовне, тогда как у Шекспира она направлена вовнутрь образа. Разнонаправленность взглядов драматургов оказывается абсолютной.
Старик. Благослови вас бог
И всех, кто злого случая игру
Направить хочет к миру и добру.
Если Шекспир мыслит человека в перспективе восхождения от плохого к хорошему, в универсуме Ионеско он существует в плане нисхождения вниз. В пространстве «Макбета» полярность авторских позиций оттеняют реплики персонажей:
Макбет.: О, безумный мир, где лучшие хуже, чем плохие.
Доминирование «ситуации зла» на уровне сюжета и «момента распада» на уровне концепции персонажа не лишает произведение Ионеско художественной целостности. Организующим началом выступает ирония, которая присутствует в произведении в форме авторской позиции по отношению к изображаемому. Особенностью является ее исключительная принадлежность самому драматургу, поскольку все действующие лица иронии лишены.
Ирония Ионеско — сложное художественное явление. Оно предстает в «Макбете» как ювелирно отточенный прием, исполненный философской многозначности. Объемность и глубину авторской манере изложения придает его направленность одновременно на воспроизводимую реальность и шекспировский текст. Наложение двух ракурсов создает объемный эффект, который лишает плоскостную графику сюжета примитивности.
Ирония по отношению к изображаемым событиям выступает в виде отчуждения автора от очевидности выводов, вытекающих из фабулы. Об этом свидетельствует общая конструкция произведения, построение мизансцен, диалоги, реплики, отдельные слова в речи персонажей. Ирония как прием реализуется Ионеско на уровне целого в виде «дезавуирования» основной идеи в финальной коде с одиноким ловцом бабочек. На уровне отдельных сцен это происходит в форме выявления подлинной сути событий, отличающейся от «официальной» версии происходящего, излагаемой основными действующими лицами. Сюда относятся диалог разносчика лимонада с солдатами на поле боя, разговор раненого солдата с Дунканом, сцена чаепития леди Дункан во время казни повстанцев, мизансцена со старьевщиком. А также игра деталью, нарочитая утрированность отдельных штрихов. В отношении диалогов и реплик персонажей ирония автора чаще всего проявляется в форме повторов, обессмысливающих текст придающих ему абсурдность. Что касается уровня слов, Ионеско легко обыгрывает их полисемантичность, придавая ситуаций современный смысл. Так, во фразе Банко слово char в значении» «повозка» в контексте сохраняет значение «танк».
Банко. Пойду посмотрю, не появится ли на дороге какая-нибудь крытая повозка, чтобы подвезти нас.
Характеризуя ведьм, Банко называет их «близнецами», при этом слово jumelles сохраняет значение «бинокль», что придает метафорическую окраску образам двух прорицательниц.
Банко. Я вам, старые перечницы, обеим языки вырву, да-да, не сомневайтесь, близняшки!
Излюбленным приемом является обыгрывание на бытовом уровне философских понятий.
Макбет. В нашу эпоху абсолютизм не всегда оказывается наилучшей формой правления.
В целом ирония в отношении воспроизводимой реальности несет у Ионеско функциональную нагрузку отчуждения позиции автора от взглядов персонажей. Идентификации их мировозрений при избранной драматургом роли внешнего наблюдателя, лишающей его возможности открыто декларировать свои взгляды через речь действующих лиц, автор избегает путем обращения к приему объективной иронии. В этой точке пересекаются художественные миры двух «Макбетов», ибо они оказываются проекцией субстанционально идентичных взглядов на искусство английского и Французского драматургов.
Ирония Ионеско по отношению к сюжету шекспировского «Макбета» не отрицает глубокого почтения современного автора к творчеству европейского классика. Осмысливая частную коллизию, лежащую в основе английской трагедии, Ионеско придает ей смысл Универсального для человеческого общества катаклизма. И подтверждения тому в шекспировском тексте служат лишним признанием его вневременное. Так, Ионеско, «выворачивая» монолог Малькольма «наизнанку», не меняет в английских фразах даже знаков препинания. Полисемия шекспировского слова остается высшим критерием художественной истинности произведения.
Созданный воображением драматурга волшебный мир отличает усложненность, препятствующая его однозначному существованию в одном измерении. Цифровая магия числа 2 обретает философское наполнение, становясь трагичной музыкой жизни расщепленной духа. При  всей абсурдности бытия залогом его отличия от небытия остается пронзительная и горькая ирония Ионеско. С ее помощью разнообразие авторских «неприятий» переплавляется в новую данность, способную уравновесить художественный универсум. Контрфорсом хаосу становится авторское всевидение как выражение демиургического всеведения. В сосредоточенном стремлении постичь внутренний ход событий своего века в сопряжении с великой драмой бытия таится соприродность двух талантов, в споре за душу Макбета отстаивающих в человеке человеческое.
всей абсурдности бытия залогом его отличия от небытия остается пронзительная и горькая ирония Ионеско. С ее помощью разнообразие авторских «неприятий» переплавляется в новую данность, способную уравновесить художественный универсум. Контрфорсом хаосу становится авторское всевидение как выражение демиургического всеведения. В сосредоточенном стремлении постичь внутренний ход событий своего века в сопряжении с великой драмой бытия таится соприродность двух талантов, в споре за душу Макбета отстаивающих в человеке человеческое.
«Отелло» («The Tragedy of Othello, the Moor of Venice») (Трагедия, 1604; перв. известие об исполнении — 1 ноября 1604 г., но к этому времени пьеса уже была популярна; публ. 1622. Пер. Б. Пастернака)
 2015-05-06
2015-05-06 788
788








