
|
а с другой, - как выражается Р. Ингарден, - в идеальном, совершенном зрителе, который умеет при осмотре картины следовать указаниям, диктуемым ему полотном-изображением. Нечто подобное происходит и с музыкальным произведением. Оно может существовать «бытийно гетерономично» лишь постольку, поскольку существуют какие-то бытийно автономные предметы, в особенности реальные, и, следовательно, существует автор и его «психофизические действия», ведущие к созданию данного музыкального произведения. Появившись «из сознания и средствами сознания», музыкальное произведение «отделяется» от него и «перемещается» в интенциональ-ную сферу, где и пребывает якобы вне времени и пространства. Поскольку же музыкальное произведение как чисто интенци-ональный предмет должно все же быть доступным для автора и для слушателей, необходимо существование некоего средства его «закрепления». В качестве такой основы выступает партитура и, отчасти, конкретные формы исполнения. Ведь музыкальное произведение, «понятое как продукт художественного творчества автора, -это, во-первых, схема, обозначенная партитурой, во-вторых, это некоторое определенное множество возможностей, обозначенных местами неполной определенности схематического образования, каждое из которых при реализации дает одну из форм произведения» [1, с. 561].
В процессе эстетического восприятия конкретных интерпретаций слушатель, стараясь постигнуть само произведение, стремится в какой-то степени не замечать или мысленно ослаблять отклонения исполнений от оригинала. «Поступая так, слушатель как бы «вылущивает» произведение с его аксессуарами из сопсге!ит данного исполнения» [1, с. 472].
То обстоятельство, что музыкальное произведение как эквивалент партитуры схематично и наделено некоторым множеством возможностей, убедительно свидетельствует, по мнению Р. Ингардена, в пользу его интенциональной природы: «Ибо никакой реальный, индивидуальный предмет не может быть ни такой неопределенной в различных отношениях схемой, ни множеством присущих этой схеме возможностей, которые к тому же должны быть воплощены в исполнениях, реализуемых в индивидуальных действиях исполнителей» [1, с. 564].

Такова в общих чертах концепция способа существования музыкальных произведений, предлагаемая нам Р. Ингарде-ном. Совершенно очевидно, что автор «Исследований по эстетике» в решении данной проблемы находится под влиянием философских традиций феноменологического учения. Феноменология, как известно, оказала мощное воздействие на формирование и развитие целого ряда крупных мыслителей. Основные идеи феноменологии образуют философский фундамент экзистенциалистских течений (М. Шелер, М. Хайдеггер), используются католическими философами (Эдит Штайн, Ван-Бреда) в синтезе с неотомизмом и т. п.
Родоначальником феноменологического направления считается Эдмунд Гуссерль, который объявил свое учение «бес-предпосылочным», «вынося за скобки» феноменологии решение основного вопроса философии. Однако, как это нередко бывало в истории философской мысли, претензии Э. Гуссерля на нейтральную позицию в решении основного вопроса философии оказались недостаточно обоснованными. Феноменология представляет собой субъективно-идеалистическое (с элементами объективного идеализма) учение, основное требование которого - так называемая феноменологическая редукция - предусматривает обязательное воздержание от всех суждений, выходящих за границы субъективного («чистого») опыта.
Выводы феноменологического учения носили порой столь иррационалистический характер, что встретили оппозицию в рамках самой же феноменологической школы. Представители левого крыла этого учения (Фарбер, отчасти Ингарден) отмежевались от ряда неприемлемых положений философии Гуссерля, сохранив лишь некоторые ее грани, в том числе и теорию интенциональности.
Несмотря на то, что в книге Р. Ингардена - подлинного знатока и ценителя искусства — можно найти немало оригинальных суждений о специфике музыки, архитектуры, литературы и живописи, ценных наблюдений в анализе структурных особенностей художественного целого или интересных сведений исторического характера, некоторые, из поставленных в ней проблем, оказались нерешенными. И это не случай-

346
Лекция XI
34 7

 но, ибо с позиций избранного им миропонимания эти проблемы вообще вряд ли могут быть решены.
но, ибо с позиций избранного им миропонимания эти проблемы вообще вряд ли могут быть решены.
Основным гносеологическим истоком теории интенцио-нальности является тот факт, что отражение реального мира в сознании людей опосредовано всем предшествующим развитием общественно-исторической практики. В результате этого идеальный образ в сознании индивида всегда синтезирует в себе общественно-практические характеристики отражаемого предмета. Именно здесь надо искать объяснение действительной соотнесенности субъекта с объектом (предметом познания) и причину своеобразной направленности сознания на объект. Феноменологи же используют этот факт для доказательства того, что объективный мир якобы не существует без субъекта, тогда как действительное отношение между ними прямо противоположно: человек становится субъектом познания только через предметно-практическую деятельность с объектом и только она формирует направленность его сознания.
Существенным моментом в объяснении истоков феноменологической теории интенциональности является и то обстоятельство, что любое отражение действительности в сознании человека представляет собой субъективный образ объективного мира и что, следовательно, внутренний мир человека не пассивно, не механически копирует отображаемое, а в известном смысле сам творит его.
Игнорирование объективного начала отражения и абсолютизация его созидающей способности приводят к отрицанию действительности как объекта эстетического отношения. Реальный мир объявляется лишь исходным пунктом в процессе построения эстетических предметов средствами сознания, направленного соответственным образом. Сам же «эстетический предмет», возникающий в сознании, является якобы не содержанием восприятия, а его объектом, предметом эстетического переживания.
Эстетическое восприятие, представляющее собой неразрывную слитность отражения определенных черт реальности, с одной стороны, и оценочного отношения к ним - с другой, разлагается на якобы не связанные между собой объективный и субъективный «пласты». Теперь уже не то и другое
вместе есть отражение (субъективный образ объективного мира), а субъективное начало - отражение объективного «пласта» эстетического восприятия.
Ужесточая позицию кантианства, отрицавшего действительную связь между объектом и субъектом, Гуссерль и его последователи провозгласили разрыв внутри самого субъекта. Сознание, оторванное ими не только от внешнего мира, но и от самого себя, каким-то образом по отношению к себе же объективируется. И в итоге - своеобразная попытка выдать за постоянный объект отражения все то же отражение.
Подобный парадокс «удвоения» сознания и непризнание действительной роли общественно-исторической практики, выступающей в процессе восприятия в качестве своеобразного фильтра, не исчерпывает, однако, всех гносеологических корней теории интенциональности. Одним из истоков этой теории можно считать также наличие у некоторых предметов особых функциональных свойств. Не случайно доказательство существования интенциональной квазиреальности часто аргументируется феноменологами ссылкой на определенные предметы, выполняющие в жизни общества некоторые специфические функции. Напомним хотя бы данный Р. Ингарденом сравнительный анализ «постройки» и собственно «храма». Нельзя не согласиться с тем, что «постройка», как определенным образом сложенная груда камней, это еще не «храм». Она становится таковым лишь тогда, когда приобретает некое функциональное свойство. Строго говоря, «храм» есть «постройка», функционирующая в особом назначении, а именно как место отправления религиозного культа. И действительно, приобретение «постройкой» данного функционального свойства не вызывает в ее вещественной организации «никакого реального изменения». Однако было бы неверно вслед за Р. Ингарденом признать, что это свойство интенционально. Ибо постройка приобретает его не вследствие какого-то мистического акта направленного сознания (акта «посвящения»), а как результат регулярного осуществления вполне реальных взаимоотношений между людьми и их действий (различных религиозных обрядов, богослужения и т. п.). Вот почему свойство «постройки» быть
348
Лекцня XI
349
 ♦ храмом» вполне реально, хотя и не содержит в себе ни грана вещества.
♦ храмом» вполне реально, хотя и не содержит в себе ни грана вещества.
И, наконец, следующий гносеологический корень теории интенциональности обусловлен тем действительным фактом, что область реального мира, с которой человек находится в практическом контакте в процессе восприятия, далеко не всегда выступает в качестве непосредственного эмоционального раздражителя. Здесь имеется в виду обширный класс предметов и явлений, которые выполняют роль знаков, то есть функционируют в процессе познания и общения в качестве представителей других вещей, свойств или отношений реального мира. В этом случае объектом эмоциональной реакции человека служат не естественные свойства вещи, функционирующей как знак, а замещаемые ею определенные стороны окружающей действительности. Например, в тот момент, когда знамени отдаются воинские почести, реакция человека вызвана, разумеется, не натуральными свойствами полотна (обычной тряпкой чистят горшки), а теми реальными общественными явлениями (доблестью, отвагой, верностью государственному долгу и т. д.), которые этим знаменем символизируются. Иначе говоря, и здесь действительность, а не какая-то интенциональ-ная химера становится в конечном итоге объектом эстетического отношения.
Итак, автор «Исследований по эстетике» помещает музыкальное произведение в интенциональную сферу после безуспешных попыток обнаружить его в реальном мире. Вернемся же к сравнительному анализу музыкального произведения и его исполнений. Какие аргументы выдвигает Р. Ингарден в пользу своего утверждения о том, что «между исполнениями и произведением не существует необходимой непосредственной связи» [1, с. 557].
Аргумент первый. Каждое исполнение музыкального произведения представляет собой процесс, однозначно занимающий определенный период времени. Оно может совершиться только один раз и не может быть повторено, даже если бы музыкант и попытался «точно так же» исполнить какое-либо произведение во второй раз. Музыкальное же произведение не является «временным» предметом в том смыс-
ле, в каком будут ими его отдельные исполнения. Оно вообще не есть процесс. Если части исполнения музыкального произведения следуют друг за другом в совершенно определенных последовательных временных фазах, все части самого музыкального произведения существуют одновременно. Музыкальное произведение является квазивременным и лишь в исполнении приобретает многофазовый характер.
Аргумент второй. Исполнение музыкального произведения может рассматриваться, кроме того, как явление акустическое. Оно представляет собой комплекс звуковых элементов, следующих друг за другом в определенном порядке и производимых как причиной сложными действиями музыканта-исполнителя. Ни одно музыкальное произведение не обусловлено в своем возникновении и длительности теми реальными процессами, которые создают его отдельные исполнения, как, например, прикосновения пальцев к клавишам и т. д. Причинами его возникновения будут совершенно другие психофизические процессы - творческие усилия художника, которые вовсе не обязательно должны выявляться непосредственно в игре на том или ином инструменте.
Аргумент третий. Любое исполнение однозначно помещено в пространстве, причем в равной степени как «объективно», так и «феноменально». «Объективно» в том смысле, что звуковые волны, образующиеся в данном процессе, расходятся в пространстве из некоторого определенного места и заполняют определенный участок пространства; «феноменально» же в том, что звуковые элементы, входящие в состав какого-либо исполнения, воспринимаются слушателями как творимые «там на эстраде», как доходящие к ним «оттуда».
В противоположность своим отдельным исполнениям музыкальное произведение не имеет какой-либо определенной пространственной локализации. Оно вообще не существует в пространстве реального мира, и его нельзя считать одним из реальных предметов (вещью, процессом, реальным событием). Ибо «каждый реальный предмет (вещь, процесс или событие) является прежде всего чем-то таким, что существует или совершается в каком-либо определенном времени и в каком-то определенном месте. Если я знакомлюсь в настоящее время с
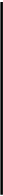 350
350
 каким-то реальным предметом, то он находится здесь и теперь, там, где нахожусь и я. Тогда мы увидим, что здесь и теперь, несомненно, совершается исполнение Сонаты п-то11, когда я «ее» играю сам или слышу ее исполнение, но по отношению к самой сонате это неприменимо. Притом безотносительно к тому, что это «здесь» изменчиво и может относиться к исполнению, например, этой сонаты самим Шопеном, когда он впервые играл ее в концерте. Разве она сама была тогда? И разве она была в зале, в котором «играл» ее Шопен? Что же это должно было означать, что соната п-то11 «здесь»? Где? В комнате или в фортепиано, или над ним, или под ним, или рядом с ним? А если ее играют одновременно, что неоднократно могло случиться, в десяти различных местах, то разве эта же самая соната одновременно будет в десяти этих местах? Это явная бессмыслица» [1, с. 464].
каким-то реальным предметом, то он находится здесь и теперь, там, где нахожусь и я. Тогда мы увидим, что здесь и теперь, несомненно, совершается исполнение Сонаты п-то11, когда я «ее» играю сам или слышу ее исполнение, но по отношению к самой сонате это неприменимо. Притом безотносительно к тому, что это «здесь» изменчиво и может относиться к исполнению, например, этой сонаты самим Шопеном, когда он впервые играл ее в концерте. Разве она сама была тогда? И разве она была в зале, в котором «играл» ее Шопен? Что же это должно было означать, что соната п-то11 «здесь»? Где? В комнате или в фортепиано, или над ним, или под ним, или рядом с ним? А если ее играют одновременно, что неоднократно могло случиться, в десяти различных местах, то разве эта же самая соната одновременно будет в десяти этих местах? Это явная бессмыслица» [1, с. 464].
Аргумент четвертый. Отдельное исполнение музыкального произведения дано нам в процессе слушания как множество слуховых восприятий, переходящих непрерывно одно в другое. Само же музыкальное произведение не проявляется непосредственно в испытываемых слушателем изменчивых слуховых образах. Если определенное исполнение вследствие плохих акустических условий становится для нас «смазанным» или «без тона», то неверно было бы утверждать, что из-за этого само произведение стало «смазанным» или плоским и пустым по тону. Это вообще не может его изменить. Аргумент пятый. Различные исполнения одного и того же произведения разными интерпретаторами или даже одним и тем же музыкантом-исполнителем отличаются друг от друга не только своим индивидуальным положением в пространстве и времени, но и «качественными особенностями, например, окраской тонов, темпом, динамическими деталями, выразительностью отдельных мотивов и т. д.» [1, с. 415].
В противоположность множеству своих возможных исполнений само музыкальное произведение является одним-единственным. «Уже одно это исключает возможность отождествления произведения с его исполнениями. В результате ему чужды также те различия, которые по необходимости появляются между отдельными исполнениями. Можно выра-
| 351 |
Лекция XI
зить это и в обратном порядке: именно потому, что такого рода различия не могут проявляться в самом музыкальном произведении (сама мысль об этом абсурдна), лучше всего видно, что оно не тождественно его исполнениям и что оно одно, в то время как его исполнений может быть в принципе сколько угодно» [1, с. 421-422].
 Аргумент шестой. Любое исполнение музыкального произведения характеризуется полной определенностью его качеств, вплоть до мельчайших тембральных, динамических, ритмических и прочих нюансов, в то время как само музыкальное произведение содержит в себе такие стороны, в отношении которых оно не может быть однозначно определено. «Это касается, например, окраски тонов, входящих в состав произведения. Партитурой предписывается только вид инструмента, на котором данное произведение «должно исполняться», а следовательно, косвенным путем оно определяет тип окраски тона, но не наинизшую разновидность этого типа, ту безусловно индивидуальную окраску, которая реализуется лишь в определенном исполнении» [1, с. 423].
Аргумент шестой. Любое исполнение музыкального произведения характеризуется полной определенностью его качеств, вплоть до мельчайших тембральных, динамических, ритмических и прочих нюансов, в то время как само музыкальное произведение содержит в себе такие стороны, в отношении которых оно не может быть однозначно определено. «Это касается, например, окраски тонов, входящих в состав произведения. Партитурой предписывается только вид инструмента, на котором данное произведение «должно исполняться», а следовательно, косвенным путем оно определяет тип окраски тона, но не наинизшую разновидность этого типа, ту безусловно индивидуальную окраску, которая реализуется лишь в определенном исполнении» [1, с. 423].
Как видим, в этом интересном сравнительном анализе особенностей существования музыкального произведения и его исполнений немало метких замечаний и верных наблюдений. Да и сам вывод о различии между музыкальным произведением и продуктом исполнительской деятельности, безусловно, содержит в себе определенную долю истины. Спорность этого вывода в другом, а именно — в абсолютизации черт различия в способе существования самого произведения и его исполнений. И здесь мы не можем не обратить внимания на ряд уязвимых мест в методе исследования польского ученого.
Существенная методологическая особенность позиции Р. Ингардена - непризнание диалектической взаимосвязи категорий тождества и различия. Эти категории метафизически противопоставляются. Равенство вещей толкуется лишь в духе абстрактного тождества. Об этом свидетельствуют, например, рассуждения Р. Ингардена о так называемом сведении музыкального произведения к партитуре, которое, по его же словам, понятно ему «лишь в одном только значении, а именно, что музыкальное произведение и его партитура - это
352
Лекция XI
353

 не одно и то же, что, следовательно <...> нельзя найти ника кой черты музыкального произведения, которая не была бы чертой его партитуры, и наоборот: нет ни одной такой черты партитуры, которая не была бы чертой данного произведения» [1, с. 435-436]. Даже малейшие различия между предметами и явлениями реального мира совершенно заслоняют в глазах Р. Ингардена их тождественные черты. Поэтому и «отождествление музыкального произведения и его партитуры осуществить не удается» [1, с. 436], точно так же, как отождествление музыкального произведения и его отдельных исполнительских объективации.
не одно и то же, что, следовательно <...> нельзя найти ника кой черты музыкального произведения, которая не была бы чертой его партитуры, и наоборот: нет ни одной такой черты партитуры, которая не была бы чертой данного произведения» [1, с. 435-436]. Даже малейшие различия между предметами и явлениями реального мира совершенно заслоняют в глазах Р. Ингардена их тождественные черты. Поэтому и «отождествление музыкального произведения и его партитуры осуществить не удается» [1, с. 436], точно так же, как отождествление музыкального произведения и его отдельных исполнительских объективации.
Но в природе вообще нет абстрактного тождества типа А=А. Тождество и различие суть неразрывные противоположности, каждая из которых неизбежно полагает «свое другое». Всякое конкретное тождество немыслимо без некоторого различия, и всякое конкретное различие с необходимостью предполагает тождество.
Правда, адепты метафизики утверждают, что найти примеры проявления в жизни абсолютного тождества не так уж и трудно: каждая вещь, - говорят они, - в каждый данный момент времени абсолютно тождественна самой себе. Но так ли это? Можно ли это сказать, допустим, о стуле, на котором вы сейчас сидите? Ведь по крайней мере на уровне взаимосвязи, взаимопревращения и движения мельчайших частиц физической материи, которые его образуют, процесс протекающих в нем изменений не прекращается ни на одно мгновение. Стало быть в каждый данный момент времени — это тот же самый стул и. в то же время, - иной. Процесс его постепенного разрушения может быть сейчас не заметен для глаз, но этот процесс идет, он необратим. А если учесть еще и хорошо известные студентам ♦ внешние» обстоятельства, благодаря которым мебель в консерватории так быстро выходит из строя, - окончательное превращение стула в «свое небытие» и вовсе не за горами.
Рассказывают, что один почтенный философ приглашал своих учеников в сад и предлагал найти на деревьях два совершенно одинаковых листа. Когда ученики возвращались с поникшими головами, он начинал поучительную беседу о том, что тождество - это всего лишь равенство вещей в определен-
ном отношении, а различие - неравенство вещей в определенном отношении.
Неучет диалектики тождества и различия приводит к неразрешимым парадоксам, что хорошо видно при обращении к апории Зенона Элейского под названием «Стрела». Эта апория гласит, что если летящая стрела находится в покое каждое отдельное мгновение, то она находится в покое и вообще, то есть она совсем не движется. Если мысленно представить траекторию полета таким образом, что в момент времени Ь1 стрела находится в точке А1, в момент времени ^'стрела находится в точке А2, в момент времени Ё3 стрела находится в точке А3у и так далее без конца, получается, что весь полет стрелы представляет собой сплошную сумму состояния покоя: стрела только и «делает», что покоится в той или иной точке.
Уже Аристотель хорошо понимал, что движение вовсе не есть только сумма его отдельных моментов или промежутков. Ошибка состоит в том, что в каждый данный момент времени (сколь малым бы он ни был) стрела и находится в данной точке, и уже не находится в ней. Причем «не находится» совсем не в том смысле, что мистически куда-то исчезает или превращается в небытие, а просто в том, что она успевает немного передвинуться.
Представим, что шагая по аудитории, я приближаюсь к кругу, начертанному на полу, наступаю в него одной ногой и, мысленно остановив движение, задаю вопрос: нахожусь ли я в кругу? Как ответить на этот вопрос? Конечно же, - и да, и нет!Я нахожусь в кругу и, в то же время, не нахожусь в нем. В этом совершенно правильном ответе нет даже формальнологического противоречия, поскольку я нахожусь в кругу совсем не в том отношении, в каком не нахожусь в нем.
Р. Ингарден же ищет среди вещей и процессов реального мира только абсолютное тождество. На меньшее он не согласен. Эта метафизическая позиция и приводит автора «Исследований по эстетике» к весьма спорному взгляду, согласно которому «между исполнениями и произведением не существует необходимой непосредственной связи» [1, с. 557]. Из поля зрения Р. Ингардена, хорошо понимающего черты отличия музыкального произведения от его конкретизации в про-
12 Заказ X? 299

|
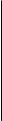 | |||
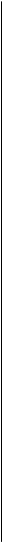 |
| 3 54 |
Морфология искусства
цессе исполнения, совершенно ускользает другая сторона их взаимоотношений, а именно - черты сходства между ними. Музыкальное произведение и его исполнительские объективации - это не только различные, но и тождественные вещи. Вопреки мнению Р. Ингардена, между ними существует необходимая и самая непосредственная взаимосвязь.
 Созданная композитором музыка продолжает жить своей «собственной» жизнью. Она, словно таинственное многоликое существо, как бы заново рождается в различных исполнениях и в этом бесконечном множестве «прочтений» предстает перед нами как та же самая и в то же время иная. Музыкальное произведение не имеет «подлинника» в том смысле, в каком мы употребляем это понятие применительно к живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству и т. д. Мы можем назвать страну, город, картинную галерею и зал, где находится тот или иной живописный оригинал. Музыкальное же произведение такой однозначной локализации в пространстве не имеет. В отличие от одного-единственного предмета, выполняющего функцию подлинника в живописи, скульптуре, архитектуре, музыкальное произведение не является единичным предметом по способу своего существования.
Созданная композитором музыка продолжает жить своей «собственной» жизнью. Она, словно таинственное многоликое существо, как бы заново рождается в различных исполнениях и в этом бесконечном множестве «прочтений» предстает перед нами как та же самая и в то же время иная. Музыкальное произведение не имеет «подлинника» в том смысле, в каком мы употребляем это понятие применительно к живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству и т. д. Мы можем назвать страну, город, картинную галерею и зал, где находится тот или иной живописный оригинал. Музыкальное же произведение такой однозначной локализации в пространстве не имеет. В отличие от одного-единственного предмета, выполняющего функцию подлинника в живописи, скульптуре, архитектуре, музыкальное произведение не является единичным предметом по способу своего существования.
В самом деле, какая из конкретных форм реализации музыкального произведения может быть признана в качестве оригинала? Быть может, подлинником следует считать исполнение музыки автором? Но композитор далеко не всегда является искусным исполнителем музыкальных произведений. И даже там, где выдающийся композитор и гениальный интерпретатор счастливо соединяются в одном лице (Паганини, Шопен, Лист, Рахманинов и др.)> ни одно из их исполнений мы не можем принять за незыблемый эталон совершенства. В течение продолжительной концертной практики эти мастера неоднократно исполняли свои произведения и каждый раз, по-видимому, превосходно, хотя и не всегда одинаково. Ни одна, даже самая гениальная интерпретация не может исчерпывающе охватить произведение, исключить фактом своего существования правомерность других истолкований.
С другой стороны, исполнитель или слушатель в каждом конкретном случае имеет дело с оригинальным сочинением
| 355 |
Лекция XI
(например, с фортепианной сонатой Бетховена ор. 110). Каким же образом музыкальное произведение, не являясь единичным предметом по способу своего существования, вместе с тем, как и всякое полноценное произведение искусства, вполне конкретно, неповторимо, а следовательно, и единично по природе своей?
 В «статичных» искусствах дубликаты лишь внешне связаны с подлинником. Их существование не вытекает органически из законов его бытия. Оригинал не зависит от своих копий-теней, которых вообще может не быть и судьба которых не оказывает значительного влияния на его собственное существование.
В «статичных» искусствах дубликаты лишь внешне связаны с подлинником. Их существование не вытекает органически из законов его бытия. Оригинал не зависит от своих копий-теней, которых вообще может не быть и судьба которых не оказывает значительного влияния на его собственное существование.
Связь музыкального произведения и его исполнений значительно более органична, нежели связь оригинала и дубликата в живописи. Конечно, на первых этапах сочинения музыкальной пьесы автор может не исполнять и не записывать ее. Она складывается в его сознании как идеальный образ и существует пока в форме замысла. Но для того, чтобы детище композитора стало основой его общения со слушателем, оно должно реализоваться в конкретном процессе исполнения. В этом случае близость к «оригиналу», оставаясь важным условием правомерности артистического прочтения, не может быть единственным критерием художественной ценности исполнения. «Исполнитель, - говорил замечательный пианист и педагог К. Н. Игумнов, - прежде всего творец. Это у нас почти игнорируется. Рассуждают так: композитор - это все, он - полновластный хозяин, а исполнитель - это своего рода приказчик. Неверно! Исполнитель - не приказчик, не раб, не крепостной <...> Без него музыка, записанная в нотах, мертва. Исполнитель вызывает ее к жизни» [2].
Вообще для нашего отечественного музыкознания мысль о неразрывной связи произведения и исполнения давно уже стала очевидной, и решение этого вопроса в теоретическом плане имеет хорошо известные традиции. «Жизнь музыкального произведения - в его исполнении» [3], - писал академик Б. В. Асафьев. - Ибо «написанная картина может жить в музее или в любом помещении; <...> напечатанное произведение - ноты - еще не музыка: ее надо воспроизводить - интонировать, нужны инструменты, нужны исполнители» [3, с. 59].

|
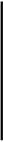 |
| 356 |
Морфология искусства
Поскольку, в отличие от самостоятельного предметно-физического существования живописного оригинала, музыкальное произведение реализуется в процессах исполнения, каждое артистическое прочтение представляет собой некоторый этап в жизни музыки. Взаимосвязь музыкального произведения и его исполнительской конкретизации суть отношения множества и отдельного элемента, входящего в его состав. Как «вариантное множество», музыкальное произведение (или произведение театрального, хореографического и других «динамических» искусств) не является единичным предметом и вместе с тем является таковым, потому что оно есть вполне конкретное множество.
 В первом приближении «вариантную множественность» музыкального произведения следует определить как некую совокупность исполнительских объективации продукта первичной художественной деятельности. «Действительное бытие» (звучание) музыкального произведения неотрывно от исполнительских конкретизации, хотя к каждой из них в отдельности оно и не сводится. Музыкальное произведение существует в каждой исполнительской объективации, тождественно и нетождественно ей, ибо оно также тождественно другим исполнительским объективациям и существует в них. Когда мы присутствуем в концертном зале в момент исполнения музыкальной пьесы, мы воспринимаем данное музыкальное произведение (именно Сонату Ь-то11 Шопена, например, а не Вторую сонату Прокофьева) и в определенном смысле не воспринимаем его, так как ни одна конкретная объективация не может совместить бесчисленное множество возможностей, реализуемых в других исполнениях.
В первом приближении «вариантную множественность» музыкального произведения следует определить как некую совокупность исполнительских объективации продукта первичной художественной деятельности. «Действительное бытие» (звучание) музыкального произведения неотрывно от исполнительских конкретизации, хотя к каждой из них в отдельности оно и не сводится. Музыкальное произведение существует в каждой исполнительской объективации, тождественно и нетождественно ей, ибо оно также тождественно другим исполнительским объективациям и существует в них. Когда мы присутствуем в концертном зале в момент исполнения музыкальной пьесы, мы воспринимаем данное музыкальное произведение (именно Сонату Ь-то11 Шопена, например, а не Вторую сонату Прокофьева) и в определенном смысле не воспринимаем его, так как ни одна конкретная объективация не может совместить бесчисленное множество возможностей, реализуемых в других исполнениях.
 2015-04-30
2015-04-30 309
309








