Анализируя линию Doppelganger в литературе, Отто Ранк ассоциирует ее с двумя темами: страхом смерти и нарциссизмом.42 В контексте первой темы двойник выступает как часть нашего извечного (или, точнее говоря, современного) поиска сущности, способной заменить собой сферу трансцендентного, служившую в традиционных религиозных вероучениях средством из-
 * Двойника {нем.). — Прим. перев
* Двойника {нем.). — Прим. перев
ч< Деятельность, вежливость.... 53
^пиления от страха смерти. Понятый в этом смысле, двойник как попытка фннсформировать, победить ту пустоту, что образовалась на месте исчез-iiyttmero Бога, является одной из господствующих тем литературы XIX века.43
II мире, съежившемся до собственных истинных размеров, мужчины и жен
щины оказались вынужденными искать смыслообразующие структуры внут
ри себя самих. Говоря словами Рихарда Вагнера, «Selbst dann / bin ich die
IMb>*,44 Но такие авторы, как Бодлер, Флобер, Малларме сознавали неудов-
ti'iиорительность подобной позиции; ведь в пустоте «скорлупа, охраняю-
мшя личную идентичность, дает трещину и зародыш индивидуальности под-
игргается дроблению».45 А это имеет непосредственное отношение ко вто
рой теме, отражающей сложности установления человеческих отношений в
чире, где инаковость лишена уже былого трансцендентного основания; в
1йком мире приходится полагаться на то, что мы называем подменой веры
нширием.
Обе эти темы, в сущности, уже содержатся в зародившемся в XVIII— ЧIX веках осознании того, что человек является создателем самого себя; они присутствуют в понимании человека как «самородка».46 В рамках литературной традиции эта тема воплотилась в образе индивида, утверждающего себя лик творца инаковости. Сочиняя собственные мифы о создателе, Блейк, Бай-1'он Ките и супруги Шелли заложили основы новой космографии. В их изображении понятие космоса предстало в виде продукта человеческого творче-| та. Говоря словами Гердера, «художник стал творцом Бога».47 Романтики
I11 обрали творчество у Бога и наделили им человека. В развиваемых ими тео
риях искусства понятие мимесиса было отвергнуто во утверждение тезиса о
юм, что искусство подражает не природе, а Богу и, следовательно, является
in шлощением созидательных способностей человечества. Как сказал Нова-
iiiic, «произведение искусства является поэтому в равной мере и самоцелью,
н божественным творением вселенной; причем каждое из произведений столь
же оригинально и самодостаточно, сколь и любое другое».48 Данное роман-
i пческое представление, исходящее из автономии индивида (которая суть лишь
иной способ констатировать отсутствие у индивида трансцендентного вопло
щения), является довольно ярким примером проанализированной выше «им
манентной инаковости».
Эта же динамика проявляется и в существовании того типа человеческих отношений, который не довольствуется дифференциацией ролей (и даже вместе с романтиками протестует против такой дифференциации) и ратует за иные — более «чистые», более «неиспорченных», более «целостные» — формы ассоциаций или связей. Все это снова приводит нас к переоценке феномена дружбы, способной, по утверждению некоторых, полностью раскрыть свой потенциал только в результате вышеописанной
 Я сам и есть мир (нем.). — Прим. перев.
Я сам и есть мир (нем.). — Прим. перев.
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
трансформации (утраты представлений о трансцендентном и о вере). Как полагает М. Дж. Хан:
«Благодаря присутствию Бога, человек на протяжении примерно трех тысячелетий владел уникальным средством как установления гармонии внутри себя, так и объективации собственной природы... дружба с другим приобрела для человека первостепенную важность только после того, как заполнила собой пустоту, образовавшуюся, когда люди перестали ощущать присутствие Бога; первым известным примером такой дружбы явились (в XVI веке) отношения между Монтенем и Ла ■ Боэси*. Св. Августину же для написания своей «Исповеди» не пона-: добилось вступать в человеческие отношения с кем бы то ни было. Для реализации данного замысла ему достаточно было иметь Бога своим свидетелем и целью своих усилий».49
Таким образом, дружба становится той сферой, в которой происходит замещение веры как чего-то безусловного доверием в его новом, свойственном современным обществам понимании; вместе с тем, этот поиск адекватных воплощений присущей человеческим сообществам родовой связи заявляет о себе не только воспеванием одинаковости или тождества, но и подчеркиванием индивидуальных различий людей, их инаковости — тем самым, индивидуальное берет на себя функции трансцендентного как некой формулы иного и непознаваемого. Этот аспект позволяет нам осветить и другую важнейшую составляющую нашего понимания доверия, подспудно присутствовавшую и раньше, но лишь теперь проявившуюся со всей отчетливостью: речь идет о роли индивидуального или, точнее, о самой идее индивидуального как о центральном фокусе всяческих представлений о доверии, составляющей противоположность как идее веры (в божественное), так и идее уверенности (в системе атрибутов). Без представлений об индивиде как о существующем -— пусть даже потенциально — за пределами ролевых ожиданий и помимо их, невозможно помыслить себе и таких отношений меж индивидами, которые на определялись бы их взаимными ролевыми ожиданиями, подкрепляемыми наличной системой ролей.
Раннее мы уже пришли к этому выводу через противопоставление идеи доверия идее fides; к этому же выводу непосредственно приводит и противопоставление таких идей, как честь и совесть. Первая основана на взаимности, присутствующей в системе взаимосвязанных солидарностей, второе — на автономности и нравственности индивида. Такое качество, как честь, формируется у индивида вследствие внешних обстоятельств. Представления о чести столь же реальны, сколь и современное бедуинское понятие 'ird, традици-
 * Боэцием. — Прим. перев.
* Боэцием. — Прим. перев.
.("masse;:: Деятельность, вежливость.... 55
оиное арабское nasab или европейское ёге (в то же время и обретение, и утра-III каждого из этих понятий происходили при различных обстоятельствах).50 И каждом из случаев, личная честь индивида, а значит и характер его отношений с ближними определялись внешней по отношению к его индивидуальности ролевой атрибутикой (верностью жены, девственностью дочери, статусом отца семейства и т. п.). Не удивительно, что трансформация европейских представлений о чести (в той части, что касается внутренних аспектов личности и ее качеств) пришлась на тот самый период, который мы уже подвергли пмализу (хотя относительно хронологии этого процесса имеются противоречивые суждения), и данная трансформация явилась составной частью про-инализированной нами динамики системной дифференциации и ролевой пролиферации.51 По словам Фрэнка Сюарта, одного из наиболее продвинутых современных исследователей идеи чести:
«Скорость, с которой данный внутренний аспект чести начинал играть
Л" первостепенную роль, несомненно, была неодинаковой в разных
* странах Западной Европы. Трудно сказать, когда начался данный
■!'■■•■ процесс в Англии; мы знаем только, что в XVI веке он уже шел там
' ь. полным ходом.... К XIX веку указанный внутренний аспект чести был
)><•■ уже одним из главных предметов обсуждения на всех ведущих
»'> европейских языках. Названное изменение, возможно, являлось лишь
'• мелкой деталью того глобального сдвига в сознании, что имел место в
: эпоху Постренессанса».52
Стюарт цитирует одного ученого, утверждавшего, что «до середины XVIII столетия представления о чувстве собственного достоинства или о внутреннем голосе не имели широкого распространения».53
Подобная «интернализация» чести, затрагивающая не социальный статус индивида, а его индивидуальные свойства, получила развитие в ходе широко известного процесса становления совести как внутреннего фокуса личностных качеств и сознания личности.54 По свидетельству таких исследователей, как Вебер, Гретьюзен (Groethuysen), Нельсон, Дюмон и другие, осуществившаяся в XVI веке Реформация имела решающее значение для нарождающейся идеи индивида как носителя сознания (а также деятельности и интенцио-пальности), а это, в свою очередь, существенно повлияло на преобразование идей права, морали, политики и экономической организации.55 Один ученый доказывал даже, что в Англии Реформация привела к «морализации политики», что подорвало традиционные представления о роли чести в структурировании политической деятельности.56
Излагая вопрос крайне схематично, отметим лишь, что к концу XVII века свойственная аскетичному протестантизму «навязчивая идея» милосердия приобрела весьма специфическую направленность, которую можно точнее
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
 всего охарактеризовать как «интернализацию милосердия». В результате такой «интернализации», милосердие начали постепенно отождествлять с совестью; и если как таковое подобное представление было свойственно уже раннему христианству, то полного своего развития оно достигло лишь в XVII веке в сотериологических учениях различных аскетических протестантских сект. Дальнейшее развитие оно получило в религиозных движениях конца XVII—начала XVIII веков; в этот период милосердие стали рассматривать уже не как атрибут того или иного вероисповедания, а как частное дело верующего. Примером тому является положение кембриджских платоников о «вне-дренности этики», а также изменения, происходившие в конце XVII века в Новой Англии или в среде французских янсенистов, или в голландской коллегиальной церкви.57 Внимание кембриджских платоников к моральной деятельности как составной части «универсальной добродетельности», а также к раздвоению индивидуальной идентичности на разумную добродетель (являющуюся «естественной») и порок неумеренности свидетельствует как раз о таком сдвиге в направлении интериоризации пуританских верований, свойственных английским протестантам эпохи Реставрации. Афористические высказывания Бенджамина Уичкота — о том, что «Ад зарождается в самом человеке: маслом, подливаемым в адский костер, является его нечистая совесть» и что рай «заключен в очищении нрава, во внутреннем примирении в Естеством Божьим и с Господством Добродетели. Таким образом, и ад, и рай имеют свою основу в человеческих существах»—являлись фундаментальными положениями развиваемых в данных кругах воззрений.58 Это учение возымело широкий резонанс, выйдя за пределы Англии в качестве нового подхода к интернализации милосердия, преобразованного теперь в совесть и смыкающегося с идеями таких мыслителей, как лорд Шефтсбери (опубликовавший проповеди Уичкота), а также с основополагающими моральными идеями концепции гражданского общества в Шотландском просвещении.59 В конечном счете, данное развитие идей привело к формированию современных представлений об индивиде как носителе метафизических и моральных ценностей.60 Как подчеркивал Марсель Мосс:
всего охарактеризовать как «интернализацию милосердия». В результате такой «интернализации», милосердие начали постепенно отождествлять с совестью; и если как таковое подобное представление было свойственно уже раннему христианству, то полного своего развития оно достигло лишь в XVII веке в сотериологических учениях различных аскетических протестантских сект. Дальнейшее развитие оно получило в религиозных движениях конца XVII—начала XVIII веков; в этот период милосердие стали рассматривать уже не как атрибут того или иного вероисповедания, а как частное дело верующего. Примером тому является положение кембриджских платоников о «вне-дренности этики», а также изменения, происходившие в конце XVII века в Новой Англии или в среде французских янсенистов, или в голландской коллегиальной церкви.57 Внимание кембриджских платоников к моральной деятельности как составной части «универсальной добродетельности», а также к раздвоению индивидуальной идентичности на разумную добродетель (являющуюся «естественной») и порок неумеренности свидетельствует как раз о таком сдвиге в направлении интериоризации пуританских верований, свойственных английским протестантам эпохи Реставрации. Афористические высказывания Бенджамина Уичкота — о том, что «Ад зарождается в самом человеке: маслом, подливаемым в адский костер, является его нечистая совесть» и что рай «заключен в очищении нрава, во внутреннем примирении в Естеством Божьим и с Господством Добродетели. Таким образом, и ад, и рай имеют свою основу в человеческих существах»—являлись фундаментальными положениями развиваемых в данных кругах воззрений.58 Это учение возымело широкий резонанс, выйдя за пределы Англии в качестве нового подхода к интернализации милосердия, преобразованного теперь в совесть и смыкающегося с идеями таких мыслителей, как лорд Шефтсбери (опубликовавший проповеди Уичкота), а также с основополагающими моральными идеями концепции гражданского общества в Шотландском просвещении.59 В конечном счете, данное развитие идей привело к формированию современных представлений об индивиде как носителе метафизических и моральных ценностей.60 Как подчеркивал Марсель Мосс:
-■.■;■ «Именно христиане сотворили метафизическую сущность «моральной
личности» (personne morale), и сделали они это после того как осознали
! собственную религиозную мощь. Даже наше собственное представ-
■•, ление о человеческой личности все еще остается в основном христиан-
f ским... От простого маскарада к маске, от «роли» (персонажа) к «лич-
...; ности» (personne), к имени, к индивиду — а от этого последнего к
существу, обладающему метафизической и моральной ценностью; от
морального сознания к сакральному существу — а от него к фундамен
тальной форме мышления и действования; таково завершение разви
тия».61 ■... -,/>,,: 1 '• »■
«f<q:?#ftti,-Я<- Деятельность, вежливость.... 57
Хотя утверждение Мосса о завершенности данного направления развития может быть оспорено, несомненным является то, что даже в конце (и особенно и конце) XX века прослеживание представленного хода развития способно прояснить нам характер тесной связи, существующей между нашими представлениями о личности и тем фактом, что именно при данном понимании личности ей атрибутируется совесть. По мере того, как совесть вытесняет честь (и, соответственно, чувство вины вытесняет чувство стыда), фокус моральной активности отдаляется от внешних, статусно-ролевых проявлений; отныне центром ее становится индивид.62 Вот как выразил эту мысль Питер Бергер:
«Понятие чести предполагает связь идентичности с институциональны-
, и ми ролями, эта связь являет если не сущность данного понятия, то, по
крайней мере, важную его составляющую. В отличие от него, сущность
■.-.(■ современного понятия достоинства состоит в его независимости от
■;: институциональных ролей. Таким образом, той реальности, в которой
царят представления о чести, соответствует индивид, подлинная
s идентичность которого заключена в выполняемых им ролях, отвер-
.:;.,. нуться от этих ролей значило бы для него отвернуться от самого себя....
; Если же реальность включает в себя представления о достоинстве,
индивид может обрести в ней свою истинную идентичность только путем
освобождения от социально навязанных ему ролей — последние, в таком
случае, являются всего лишь масками, ввергающими его в область
..-. ■ иллюзий, «отчуждения» и «нечестности».63
Именно это изменение и заставляет воспринимать тему доверия как проблему человеческих отношений, специфичную для современных (или даже ршшесовременных) обществ. Иначе говоря, пересмотр условий обеспечения уиеренности (ранее они предполагали принадлежность к группе и соответствующую идеологию чести, а теперь речь идет о договоренностях между отдельными индивидами, ибо именно индивид становится источником моральных принципов) делает доверие одновременно и возможным и, мсроятно, все более необходимым, так как в наше время целые сферы человеческих взаимодействий уже не укладываются в предписываемые им извне поведенческие шаблоны (т. е. ролевые ожидания).
Данный тип отношений, будучи представлен в виде идеальной формы человеческого взаимодействия, получил название дружбы. Между тем, как мы уже показали, он способен выступать также и in minora, как нечто потенциальное; в этом случае он (благодаря таким чисто структурным аспектам ролевого поведения, как возрастание противоречий между ролями и системами ролей, выполняемых отдельными их носителями) демонстрирует бесчис-
 Здесь: в ослабленном варианте (лат.) — Прим. перев.
Здесь: в ослабленном варианте (лат.) — Прим. перев.
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ленное множество иных форм отношений. И чем больше у него ролей, чем больше между ними потенциальных конфликтов и несоответствий, тем большая приспособляемость необходима названному типу отношений для выполнения этих ролей. И тем большую нужду испытывают партнеры по взаимодействию в том, чтобы «доверять» чему-то помимо системно стандартизированных определений ролевого поведения (обеспечивая тем самым продолжение и развитие данного взаимодействия); стало быть, такое доверие должно основываться уже не на поведении, являющем атрибуты статуса (честь, лояльность и т. д.), а на том или ином представлении о совести. Таким образом, здесь доверие (будучи разновидностью «веры») соотнесено с чем-то, находящимся за пределами ролевого воплощения, с чем-то, несводимым к той или иной роли. Кроме того, такое доверие направлено на нечто безусловное (то есть, само доверие не является безусловным, но объект его безусловен относительно нормативно-ролевых ожиданий). Объект доверия свободен не только от ролевой обусловленности, но и от сознания родового тождества собеседников (наличествовавшего, как уже говорилось, у членов традиционных сообществ). Фактически, доверие есть функция существующих между индивидами различий, тех различий, из-за которых воля, намерения, расчеты каждого из индивидов оказываются непрозрачными для других (если бы это бьшо не так, то речь бы шла не о доверии, а об уверенности относительно содержания взаимно подкрепляемых ожиданий индивидов). Главное состоит в том, что данная принципиальная закрытость одного индивида для воли другого с крушением традиционных категорий превращается, как мы уже видели, в характеристику отношений не между человеком и Богом (или не только между человеком и Богом), а и между индивидами в обществе. По классификации Бубера, она становится конституирующим моментом отношений типа «я-ты» (в которых он видит отражение отношений между человеком и Богом) и является, как уже было сказано, следствием возникновения представлений об индивиде как существе, наделенном моральной активностью и являющемся источником ценностей.
Таким образом, доверие, возникающее как функция урегулирования различий (как между социальными ролями, так и внутри отдельно взятой роли), также является частью человеческой деятельности. Стоит изъять понятие деятельности — и любое представление об урегулировании окажется резко суженным. Усложнение ролей, привносимое урегулированием ролевого поведения, переводит и саму деятельность в качественно иную плоскость. Таким образом, для того чтобы доверие превратилось в потенциальную форму человеческих взаимоотношений, недостаточно просто постулировать наличие системных ограничений (ограничений имеющихся определений ролей любой природы, ряд из которых был уже рассмотрен выше). Необходимо добавить к этому представление об индивиде как источнике деятельности, фактически — одновременно с формированием идеи доверия (идеи, обретающей в этом процессе свои наиболее современные черты) — превращающемся в источник
M' Деятельность, вежливость....59
моральных ценностей. Приведем в качестве примера досакральный брак. До Четвертого Латеранского Собора в определении брачных ролей существовала изрядная неясность, оставлявшая большой простор для «урегулирования». Однако, подобное «урегулирование» отношений в браке зачастую приобретало довольно насильственный характер, такое урегулирование едва ли можно было назвать основанным на доверии.64 Ведь «неформальность» (внесистем-ность) брачного поведения сохранилась вплоть до позднего средневековья.65 Само по себе это не располагало к развитию доверия между сторонами. Бесчисленные исследования существовавших в Западной Европе моделей брака позволили историкам утверждать, что партнерский брак или брак, основанный на любви (включающей в себя, как можно предположить, изрядную долю доверия) явился продуктом гораздо более позднего времени — фактически, того периода, когда общества и культуры стали уделять первостепенное значение индивидам как личностям. Романтическая любовь стала основой брака в период становления индивидуализма, рыночного менталитета, появления высокой социальной мобильности (а, стало быть, и усиления ролевой дифференциации) членов общества. И хотя историки продолжают спорить между собой относительно периодизации данных событий — такие историки, как Шортер, Стоун, Ариес и Фландрин, относят их к XVIII веку, в то время как более современные исследователи считают, что все это произошло на два-три века раньше — любые трактовки развития брачных отношений сохраняют, как подчеркнул Алан Макфарлейн, внутреннюю связь с развитием культуры индивидуализма и становлением типа обществ, характеризующегося относительно слабыми родственными связями.66 И здесь налицо присутствие двух взаимосвязанных элементов доверия: возможности урегулирования ролевых ожиданий и наличия индивидов как субъектов подобного урегулирования.
Будучи необходимым условием появления доверия (в данном конкретном случае имеются в виду отношения любви в браке), системные ограничения (в относительно узком определении брака как системы взаимных ролевых отношений), вместе с тем, не являются достаточным условием его возникновения. Необходимо дополнить их еще одной переменной — такой как идентичность индивида, которая, как мы уже видели, практически является центральным компонентом складывающейся практики брака как отношений любви.67 После этого нам остается всего лишь определить, с каким именно типом индивидуальности и с каким типом я имеем мы дело при рассмотрении становления доверия, ибо определение индивидуальности только через деятельность или интенциональность не может быть достаточно прочным базисом для дальнейших рассуждений. В данном контексте уместно вспомнить сказанное выше об Антигоне, ставшей объектом конфликтующих между собой ролевых ожиданий и иллюстрирующей своим положением как факт наличия ролевых ограничений (о котором свидетельствует появление данных конфликтующих между собой требований), так и качества деятельности и интенциональнос-
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ти, проявленные в принятом ею решении оказать предпочтение какому-то одному из возможных вариантов. Таким образом, здесь соблюдены оба условия — достижение урегулирования и проявленная при этом индивидуальная деятельность — и все же в данном случае мы еще далеки от такой реальности, о которой можно было бы сказать, что в ней царит доверие (если, конечно, придерживаться того понимания, которое мы утверждаем на всем протяжении данного исследования). Говорит ли это о сомнительности наших исходных посылок? Как убедительно доказал Бернард Уильяме, способность выбирать один из нескольких возможных вариантов действия (в сущности, проявляющая себя как деятельность, активность), включая и те из них, что связаны с различными ролевыми моделями (похоронить брата или сохранить лояльность королю, своему дяде) уже являлась у греков составной частью их образа мысли и действия.68 Поэтому следует подвергнуть анализу и уточнению то, что именно понимаем мы под деятельностью, рассматривая понятие доверия.
Что же отличает Антигону от современной женщины, являющейся юристом в корпорации, а также матерью, любовницей своего коллеги, тренером футбольной команды своей дочери (при том, что и сама она — терпеливая дочь), членом физкультурной ассоциации и зарегистрированным членом республиканской партии? Если принять во внимание все перечисленное, различие между этими двумя женщинами окажется вполне очевидным. Антигона, отдав предпочтению одному из нескольких типов поведения (путем изъявления своей деятельности и интенциональности), полностью отождествляется с избранной ролью. В отличие от нее, современная супер-мамаша, остается несколько отстраненной ото всех своих социальных ролей. Различные привязанности и обязанности, связанные с выполнению ею определенных ролей и разрывающие ее на части, вынуждают ее выстраивать приоритеты, вследствие чего ни одна из ролей не поглощает ее полностью (вспомним десятый характер Музиля). Ее невозможно свести ни к одной из выполняемых ею ролей — супружеской, политической, профессиональной, эротической, рекреационной. Если ее и можно к чему-то свести, то это к совокупности выборов, тех самых предпочтений, которые ей постоянно приходится выказывать; охарактеризовать ее можно через принимаемые ею волевые решения, но не через их результаты, через акт предпочтения, но не через объект ее выбора. (Именно в этом и состоит отличие современных категорий я от традиционных; о которых можно сказать, что там даже в случаях признания интенциональности личности, эта последняя определялась объектом выбора, но не самим актом предпочтения; именно это обстоятельство и делает Антигону, Ореста или Прометея трагическими героями). Говоря, что мы доверяем самой этой женщине (а не ее мастерству как юриста, не ее политической принципиальности, не ее знанию женского футбола и т.д.), мы имеем в виду не какой-то из аспектов выполняемых ею ролей (которому мы можем доверять или не доверять; например, зная о ее внебрачной связи, я могу с разной степенью уверенности
 и1' • * Јi Деятельность, вежливость.... 61
и1' • * Јi Деятельность, вежливость.... 61
оценивать способность ее выполнять свой супружеские обязанности), а вообще ее деятельность в принятии решений, мы имеем в виду ее как агента, не сводимого ни к одному из конкретных решений или системе решений. И прекращение доверия к ней связано с тем, что я начинаю отождествлять ее в целом лишь с какой-то одной из линий ее ролевого поведения; в этом случае, я начинаю полагать, что все прочие ее обязанности подчинены выполнению данной конкретной роли. Сказанное согласуется с тем, что думает Питер Бергер о со-нременном ролевом поведении и связи его с идентичностью личности — в его представлении, это такая связь, при которой последняя мыслит себя
«отдельно от тех своих институциональных ролей, посредством которых индивид выражает себя в обществе, (а зачастую и наперекор им).... [Таким образом,] взаимность между индивидом и обществом, между субъективной идентичностью и объективной идентификацией
• - посредством ролей в наше время приобретает характер некоего
>i противоборства. Институты уже не являются для личности ее «домом»;
. ' вместо этого, они превращаются в элементы угнетающей реальности,
■ нарушающей целостность личности, отчуждающей ее. Выполнение тех или иных ролей уже не служит актуализации личности, а является своего рода «покрывалом майа», скрывающим личность не только от других,
' но и от собственного сознания индивида. Только в промежуточных.-• областях, практически свободных от институтов (таких, как так
з называемая частная сфера социальной жизни) индивид может надеяться
! обрести себя, самоопределиться».69
Добавим, что индивиды обретают самих себя путем актуализации деятельности за пределами налагаемых ролями формальных ограничений.
Понимание деятельности как источника самоопределения личности не только составляет отличие современного образа жизни от того, что был свойствен Древней Греции, но и позволяет рассматривать формирование модерна как своего рода цивилизационный проект:70 смысл этого последнего состоит в том, что самосознание индивидов (а, стало быть, также и необходимость «встраивать» доверие в межролевые отношения) начинает определяться не столько исполнением социальных ролей, сколько простой способностью (а фактически, необходимостью) переходить от одной роли к другой и заниматься урегулированием границ между ними. Наличие подобных переходов и составляло суть той «социабильности», что определяла публичную культуру XVIII века и сыграла столь важную роль в осуществленном Хабермасом и его подражателями анализе развития «публичной сферы» (как сферы социабильности и, согласно шотландским моралистам, доверия) в лоне культуры XVIII века. Именно эти переходы явились новым типом связи, характерным для гражданского общества. Появление новых форм институтов-посредников — со-
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
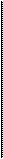 седских ассоциаций, гильдий и братств мастеровых, профессиональных, родственных и молодежных ассоциаций, всевозможных клубов (в которых, по мнению одного современника, каждый вечер собиралось более 20 тысяч лондонцев) — обусловливалось наличием возможности переходить от одной ролевой идентичности и статусной позиции к другой, регулировать их соотношение, а также и отождествлять себя более чем с одной системой ролевой идентичности и статусной позиции.71 Дидро считал данную тенденцию свойственной исключительно Франции; поэтому нам следует критически отнестись к сравнениям, сделанным в нижеприведенной цитате; вместе с тем, заслуживает внимания приводимое в ней описание нарождающихся типов социального взаимодействия (определивших впоследствии хваленую социабиль-ность нашего века):
седских ассоциаций, гильдий и братств мастеровых, профессиональных, родственных и молодежных ассоциаций, всевозможных клубов (в которых, по мнению одного современника, каждый вечер собиралось более 20 тысяч лондонцев) — обусловливалось наличием возможности переходить от одной ролевой идентичности и статусной позиции к другой, регулировать их соотношение, а также и отождествлять себя более чем с одной системой ролевой идентичности и статусной позиции.71 Дидро считал данную тенденцию свойственной исключительно Франции; поэтому нам следует критически отнестись к сравнениям, сделанным в нижеприведенной цитате; вместе с тем, заслуживает внимания приводимое в ней описание нарождающихся типов социального взаимодействия (определивших впоследствии хваленую социабиль-ность нашего века):
«Один француз способен так же заполонить собой город, как десять ^ англичан, пятьдесят голландцев или сотня мусульман. Один и тот же человек способен в течение одного дня побывать при дворе, в центр| города, за городом, в академии, в салоне, у банкира, у нотариуса, адвоката, у поверенного, у вельможи, у купца, у рабочего, в церкви, в театре и у дам легкого поведения. И всюду он чувствует себя как дома».72
Подобное перечисление объектов общения позволяет нам отметить возрастающую дифференциацию ролей и ролевых систем, ставшую характерной чертой повседневной жизни в XVIII веке, а также увеличение вероятности возникновения ролевых конфликтов между носителями различных ролей; кроме того, оно позволяет нам подметить такие стороны системных ограничений, как возможность (если не необходимость) сохранять определенные аспекты ролей более или менее значимыми для носителей этих ролей — в зависимости от того, в каком социальном контексте они находятся. Здесь не место спору о том, насколько социабильной была культура XVIII века. Можно предположить, что в своих основных параметрах приводимые в данном споре аргументы достаточно хорошо известны. Мы хотели бы только подчеркнуть тот факт, что эта «социабильность» основана на вышеупомянутых процессах (а) ролевой дифференциации (существующей вместе со своей производной — потенциальным ролевым конфликтом); (б) возникающей вследствие этого необходимости в урегулировании ролевых идентичностей; (в) постоянном утверждении деятельности и интенциональности в урегулировании границ и содержания этих различных ролей; и, следовательно (д) возникновении индивидуальной идентичности в процессе этих непрестанных и будничных актов урегулирования, равносильных выбору социальной, а значит (по крайней мере, иногда) и моральной идентичности. Хотя в аналитическом плане мы и делаем различие между названными аспектами современной социальной идентичности, в действительности же все они существуют в
 2015-05-15
2015-05-15 346
346








