Отправным пунктом в концепции шекспировской трагедии служит учение о человеке — творце своей судьбы, господствовавшее в литературе и искусстве Возрождения. Им проникнуты — в каждом жанре на свой лад — новелла Боккаччо и его последователей, героическая рыцарская поэма круга Ариосто — Спенсера и роман Рабле — Сервантеса, мемуары, моральные трактаты, ораторские жанры, в частности, излюбленные у итальянских гуманистов речи на тему «О достоинстве человека», среди которых наиболее знаменитая принадлежит Д. Пико делла Мирандола. Эта речь прославляет «дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он захочет»; только человеку «дана возможность пасть до животного или подняться до существа богоподобного — исключительно благодаря внутренней воле».
Когда в первой из трагедий 600-х годов герой в беседе с товарищами по университету восклицает: «Что за мастерское создание— человек! Как благороден разумом! Как беспределен в способностях... Как похож на ангела глубоким постижением»,— в его словах (не лишенных горестно-иронического налета, даже саркастической утрировки, если вспомнить ситуацию — с кем он говорит и то, что нынче для Гамлета человек «квинтэссенция праха») повторяются, может быть, уже как трюизмы, панегирические идеи восторженной речи Пико делла Мирандола. В ней — популярный, почти официальный «миф» культуры Возрождения, эпохальный миф самосознания. И это основополагающий, формообразующий «высокий» миф магистрального сюжета, который варьируется в отдельных трагедиях соответственно их предмету, вступая в конфликт с «низким» «трезвым» антимифом практичных, «реалистичных» антагонистов.
На высоком мифе строится завязка, зачин трагедийного сюжета: в ней протагонист не просто индивид, особь, а «человек во всем смысле слова», личность героическая, личность как лицо общественного целого — искушая судьбу, уверенно (ибо это долг настоящего человека) ставит на карту все свое благополучие. В «Гамлете» это сцена, где, повинуясь зову судьбы, принц вступает в сношение с Призраком: отныне жизнь для него ничто — он должен узнать истину! В «Отелло» — дерзкое похищение Дездемоны, доблестный вызов общественным предрассудкам. В «Макбете» — встреча с ведьмами, предсказывающими герою великое его будущее, чему герой тут же смело поверил. В «Короле Лире» — горделивая сцена добровольного отречения от власти — и так во всех трагедиях. За трагедийным зачином нарастает — явно или тайно для героя — конфликт с миром.
В кульминационном третьем акте конфликт достигает апогея. В критике (начиная с Г. Фрейтага в середине прошлого века) не раз отмечалась неравномерность действия в шекспировской трагедии: наиболее сильные, «героические», сцены чаще приходятся на восходящую линию (от завязки к кульминации), которой заметно уступает линия нисходящая (от кульминации к развязке). Это видно почти во всех трагедиях Шекспира, а особенно явно в трех величайших — в «Лире», «Макбете», «Гамлете». Протагонист — этим отчасти вызвана неравномерность — в нисходящей линии менее самостоятелен, чем раньше, развитие конфликта, причины интриги непосредственно исходят уже не от него, а от антагониста. Перемена ведущей роли в действии резко выступает в последних двух актах «Гамлета», чем усугубляется впечатление «бездействующего» героя — после наибольшей активности в кульминации, после сцены «мышеловки» (III, 2) и объяснения с матерью (III, 4). То же и в «Короле Лире» — после степных сцен третьего акта. В «Антонии и Клеопатре» герой умирает в конце четвертого акта, нисходящая линия — сплошная агония героя и героини, как и в «Тимоне Афинском», где в первой из пяти сцен финального акта Тимон показывается в последний раз, развязка происходит без его участия. В последних актах шотландской трагедии инициатива уже исходит не от Макбета, наиболее деятельного среди трагедийных протагонистов, а от Макдуфа и Малькольма. В нисходящей линии «Отелло» герой — орудие планов Яго.
 |
Драматизируя источники — летопись, жизнеописание, новеллу — или перерабатывая старинную пьесу, Шекспир в чисто повествовательной либо диалогизированной истории акцентирует жизненные ситуации, превращая их в драматические положения, в «характерные» сцены, причем еще в восходящей линии раскрывается роковой характер героя. Судьба его в кульминации поэтому уже определилась. Даже в «Кориолане», когда герой, уступая матери, соглашается отвести войско от стен Рима, этот мнимо-благоприятный момент нисходящей линии — одна из великолепнейших сцен во всем театре Шекспира (V, 3) — лишь ускоряет участь героя, которая решена раньше, в кульминации (III, 3, изгнание Кориолана). Мнимо благоприятная «перипетия» лишь приближает кульминацию или катастрофу развязки, непреклонный характер протагониста и состояние аффекта исключают благополучный исход. В кульминации герой встал во весь рост, во всей мере предстал угрозой для своих врагов, заставил их активизироваться («Гамлет», «Макбет»), либо невольно стал их верным орудием против самого себя («Отелло» и «Кориолан»), либо он покидает человеческое общество («Король Лир», «Тимон Афинский»). Так или иначе инициатива в четвертом и пятом актах должна перейти к антагонистам или — как в «Тимоне Афинском», «Макбете» и отчасти в «Лире» — к новым персонажам, даже не главным. Но трагедийная развязка — в отличие от комедийной — всегда неумолимо вытекает из конфликта, из столкновения с «неизбежным ходом целого», даже когда (как в «Гамлете») катастрофа может показаться случайной.
Шекспировская трагедия обязательно кончается смертью героя (и героини). Вопреки широко распространенному представлению смерть героя никогда не была показательной чертой, а тем более формальным правилом классической трагедии — ни в теории, ни на практике. Такого правила не знает трагедия античная, где благополучную развязку предпочитает Эсхил, иногда Софокл (в «Филоктете» и «Электре») и чаще всего Еврипид, трагичнейший из всех, по Аристотелю, трагик, правда, благодаря трагико-ироническому условному приему deus ex machina (вмешательство богов). Гибели героя избегают, как правило, испанские трагики — в барочно парадоксальных развязках. Среди французских Корнель в лучших трагедиях (от «Сида» до «Никомеда») почти всегда предпочитает развязки счастливые, а Расин — со смертью героев и героинь, но не обязательно (ср. «Ифигения», «Эсфирь»).
Но во всех десяти трагедиях Шекспира (и обычно у других «елизаветинцев») герой в конце погибает — катастрофическая развязка входит как норма в концепцию трагедийного сюжета (не отсюда ли — при огромной популярности трагедий Шекспира и каноничности для классицизма трагедий Расина — и само представление о норме трагедийной развязки?). Эта норма у Шекспира настолько сама собой разумеется, что в последней трагедии он даже не показывает кончины Тимона; для нас, как и для воина, нашедшего могилу героя (V, 3), форма кончины поэтому остается неясной — самоубийство или, подобно Лиру, смерть от душевного надрыва. Лишь в «Короле Лире», трагичнейшей из всех трагедий, Шекспир драматическому деянию предпочитает событие — чтобы выразить всю безмерность вынесенного Лиром. В «Гамлете» герой убит, развязка — драматический, вызванный поведением героя поступок антигероя. Однако характернее всего для шекспировских развязок самоубийство героя и героини: Ромео и Джульетта, Брут и Порция, Отелло, Антоний и Клеопатра, леди Макбет и, по-видимому, Тимон. Такова, по сути, и гибель Кориолана, а также Макбета, который ищет и находит себе смерть в бою, в совершенно безнадежном поединке, умирая, как и жил, с мечом в руках.
В форме гибели сказывается в последний раз натура героя и весь его характерный сюжет, это «конец — делу венец» на трагедийный лад. Герой ренессансной трагедии до конца остается «творцом собственной судьбы»; и если не удалась жизнь, то удалась смерть. Его смерть — вместе с тем «очищение» от личной вины: классически в «Кориолане», в «Отелло», где Мавр сам судит себя и строже обычного людского суда; а также в «Гамлете», где, погибая, принц увлекает за собой антагониста — в какой-то мере выполняя под конец и свой долг перед отцом и Данией.
4. ТОН
Сложный характер, которым вообще отмечено впечатление от трагического, сформулировал еще Аристотель, различая в этом чувстве начала «страха», «сострадания», «очищения». Но в особенности сложно наше впечатление от трагедии Шекспира. Учение о героически самодеятельной личности — идеал всей культуры Ренессанса, его этики, социологии, эстетики — послужило отправным пунктом трагедийного сюжета. У Шекспира это учение ходом действия и опровергается и подтверждается одновременно. Оно опровергается в своем утопически «асоциальном» варианте, часто свойственном родоначальному итальянскому гуманизму, образец которого мы видели в политической доктрине Макиавелли. Но действительное и высокое в этом учении — то, между прочим, что исторически легло в основу англосаксонского идеала selfraademan Нового времени, хотя впоследствии и было опошлено в буржуазном «времени» (нравах) —представление о мощи творчески свободной личности подтверждается всей трагедией вплоть до развязки, всем ходом и исходом трагедийного действия. В этом разладе особая «трагическая ирония» — в самой концепции человеческого существования у великого трагика Возрождения. В ней и в тоне всего трагедийного действия у Шекспира как бы звучат — то попеременно, то сливаясь — два (противоположного лада) знаменитейших хора античной трагедии: торжественный первый стасим «Антигоны» во славу человека, творца культуры («Всяческих много в мире сил, но всех их человек сильней»), и глубоко горестный четвертый стасим «Эдипа-царя» («Горе, смертные роды, вам! Сколь ничтожно в глазах моих вашей жизни величье»).
«МЕРА ЗА МЕРУ» И «ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ»
Поздние драмы Шекспира имеют особенность, которая отличает их от более ранних комедий и хроник,— в них действие развивается в двух планах: реальном и фантастическом, поскольку в события вторгаются элементы чудесного, а в финальных сценах Шекспир предлагает две развязки — сначала показывает реальный исход событий, а затем воображаемый, вызванный вмешательством чудесных случайностей. Две развязки можно обнаружить в так называемых «проблемных пьесах» «Мера за меру» и «Все хорошо, что хорошо кончается», а также в драмах-сказках «Цимбелин» и «Зимняя сказка».
«Мера за меру» — наиболее сложная из всех этих четырех драм. Шекспир поставил в ней проблему столкновения высших принципов: веры, честности, добродетели и сильнейших страстей: чувственного вожделения, родственных привязанностей любви к жизни. Реальная ситуация — смена власти в Вене, гд< в течение многих лет суровые законы против распутства без действовали подобно престарелому льву в пещере, и сорняю настолько пышно разрослись, что потребовались жестокш меры. В потоке образов воплощена мысль о бессилии законов которые не применяются: если отец только стращает березовы ми розгами, они вызывают уже не страх, а насмешки, распущенность осмелела и «хватает за нос правосудье», «дитя бьет няньку». Наместник герцога — Анджело, желая исправить нравы, приказал схватить и отправить в тюрьму сводников, хозяек публичных домов и их клиентов,— этот грязный сброд изображен в комедии в сатирическом свете. Но ради примера Анджело приказывает казнить и молодого дворянина Клавдио, хотя тот честно собирается жениться и виновен лишь в том, что стал мужем Джульетты до совершения таинства. Когда Эскал, более опытный и человечный, просит помиловать Клавдио, Анджело опирается на закон:
Но ведь нельзя же из закона делать Нам пугало воронье, что стоит, Не двигаясь, пока, привыкнув, птицы Не обратят его в нашест.
(II, I, здесь и далее перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник)
Эскал пытается убедить его, что «острием закона лучше слегка поранить, чем повалить и зарубить насмерть», ведь грех прелюбодеяния не так страшен, и сам Анджело способен совершить подобный грех. Предположение оказалось пророческим— сестра Клавдио Изабелла своими искренними и горячими мольбами, своей чистотой и красотой зажгла в судье столь сильное вожделение, что наместник предложил ей купить жизнь брату ценой ее падения. 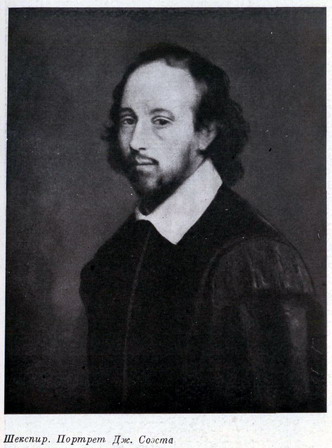
Характерно, что Изабелла возбудила вожделение не сразу при своем появлении, не своей красотой, эта страсть родилась постепенно, как отклик на ее образную речь, поразившую наместника. «Прекрасно владеть мощью великана, но тот тиран, кто пользуется ею, как великан»,— эта мысль Изабеллы дополнена рассуждением о тщеславном стремлении мелких чиновников «грохотать подобно Юпитеру»,— она упоминает о небесах, гнев которых разламывает дубы, но щадит мирту, сравнивает облеченного властью невежду с «разгневанной обезьяной», чьи забавы могут вызвать слезы и смех у ангелов,— во всех этих сравнениях Анджело увидел не только упрек себе, но и ум, искренность, целомудрие Изабеллы. Метафоры в его внутреннем монологе выражают отвращение к самому себе: он сравнивает себя с падалью, лежащей рядом с фиалкой и отравляющей воздух. Размышляя о возникшем в его сердце вожделении, Анджело признается, что никогда еще распутница не могла ни настойчивостью, ни ухищрениями искусства и природы взволновать ему кровь:
Иль целомудрие волнует больше, Чем легкость в женщине? Когда у нас Так много места, неужли нам надо Разрушить храм, чтоб свой вертеп
построить?
Первое побуждение Анджело — пощадить Клавдио: «Разбойники имеют право грабить, | Когда воруют судьи»,— говорит он себе. При следующем свидании он долго не решается высказать свое требование, а Изабелла не может понять иносказаний. Наконец, он прямо объявляет, что «острый аппетит» его чувственности требует удовлетворения, а на угрозу Изабеллы изобличить его цинично отвечает, что ей никто не поверит. Пушкин видел суть образа Анджело в том, что его гласные действия противоречат тайным страстям. В его характере есть и другая сторона — низменная и подлая: в прошлом Анджело покинул Мариану, когда девушка утратила со смертью брата богатое приданое, и, покидая, оклеветал ее. После ночного свидания (Анджело не знает, что на свидание вместо Изабеллы пришла Мариана) он подтверждает приказ казнить Клавдио, боясь его мести за поруганную честь сестры, а позднее он обвиняет Изабеллу в безумии и клевете.
Изображение судьбы Клавдио связано с темой чести. Клавдио готов твердо встретить смерть, однако едва он узнает, что есть возможность спасти жизнь, он умоляет сестру пожертвовать честью и уступить наместнику. Образы в его речи как будто навеяны поэмой Данте. «Смерть ужасна»,— говорит он и рисует картину мучений, подобных страданиям грешников в аду:
Но умереть... уйти — куда, не знаешь... Лежать и гнить в недвижности холодной... Чтоб то, что было теплым и живым, Вдруг превратилось в ком сырой земли... Чтоб радостями жившая душа Вдруг погрузилась в огненные волны, Иль утонула в ужасе бескрайнем Непроходимых льдов, или попала В поток незримых вихрей и носилась Гонимая жестокой силой, вкруг Земного шара и страдала хуже, Чем даже худшие из тех, чьи муки Едва себе вообразить мы можем?
О, это слишком страшно!... И самая мучительная жизнь: Все — старость, нищета, тюрьма, болезнь, Гнетущая природу, будут раем В сравненье с тем, чего боимся в смерти. Изабелла в этот момент страдает от мысли, что брат готов купить жизнь ценой позора сестры, готов предпочесть собственный позор. «Жизнь позорная еще ужасней»,— говорит она 4.— «О, низкий трус, бесчестный жалкий трус!» и отрекается от брата. Гневную реакцию Изабеллы некоторые критики называют жестокостью, бездушной тщеславной добродетелью. Если воспринимать конфликт между страстным стремлением Клавдио к жизни и стремлением Изабеллы сохранить женскую честь и чистоту только как частный случай, то позиция Изабеллы кажется действительно слишком жестокой. Но Шекспир ставит более общую проблему: что ценнее для человека — честь или жизнь, можно ли оправдать измену вере, принципам, долгу ради сохранения жизни. Изабелла готова пожертвовать жизнью, но не честью. Клавдио, напротив, выбирает жизнь. Дальнейшее развитие событий в реальном плане, без вмешательства неправдоподобных переодеваний показывает, что жертва честью и компромисс с подлостью не приводят к спасению жизни.
В драме две развязки — реальная и сказочная. Если исключить мотив переодеваний, то реальная развязка заключалась бы в уступке Изабеллы ради спасения жизни брата, в казни Клавдио и в тщетности обращения Изабеллы к возвратившемуся герцогу. Герцог, выслушивая жалобу Изабеллы, называет ее безумной, подозревает, что ее подослали с целью оклеветать достойного наместника и приказывает Анджело расследовать этот «заговор». Затем герцог удаляется, Изабеллу и Мариану стражники ведут в тюрьму. Герцог возвращается уже в одеянии монаха и обращается к Изабелле и Мариане уже от лица монаха, и метафора в его словах выражает горькое признание: О бедные созданья! Как же вы Пришли искать ягненка у лисицы?
Он обвиняет герцога в несправедливости, в том, что герцог отдал их на суд тому негодяю, которого они обвиняли. За это Эскал приказывает заключить «монаха» в тюрьму. Мнимый монах еще более дерзко говорит о всеобщем разврате, который «кипит и хлещет через край»:
Законы есть для каждого проступка, Но все проступки властью так терпимы, Что все законы строгие висят, Как список штрафов в лавке брадобрея На посмеянье людям.
Его обвиняют в клевете на государство, отправляют в тюрьму, угрожая пытками. В этот момент пошлый распутник Лу-цио тоже обвиняет «монаха» в измене, приписывая тому все собственные измышления, порочащие герцога. Таков трагический финал, предшествующий сказочному: в последний момент Луцио, издеваясь над «монахом», снимает с него капюшон и все узнают герцога. Вторая развязка — счастливая. Выясняется, что никто не казнен, герцог убеждается в благородстве и человечности Изабеллы и просит ее руки, он прощает даже Анджело и Луцио.
В отличие от большинства пьес зрелого периода творчества, метафоры в «Мере за меру» мало связаны с психологией персонажей, их роль иная — пояснить нравственные и политические проблемы, поставленные в пьесе: выбор между честью и жизнью и злоупотребление властью. Образные обобщения попутно затрагивают и еще одну проблему: роль закона в борьбе с пороками, которые настолько поразили общество, что внезапно введенные суровые меры кажутся излишней жестокостью. Эта мысль выражена и в образных речах Изабеллы, и в метафорических сентенциях герцога.
Сюжет комедии «Все хорошо, что хорошо кончается» заимствован из новеллы Джованни Боккаччо о Джилетте из Нарбонны, дочери знаменитого врача. Она излечила короля и за это попросила короля дать ей в мужья знатного юношу, которого она давно любила. У Боккаччо героиня вызывает восхищение своей находчивостью, помогающей завоевать любовь отвергнувшего ее мужа.
Шекспир наделяет Елену талантами и мужеством незаурядной личности, обогащает ее речь поэтическими образами и риторическими фигурами, которые говорят о редкостном уме девушки, о глубине ее любви и страдания. Она в самом начале пьесы считает свое положение безнадежным: «Как будто я влюбилась в яркую необыкновенную звезду», «радуюсь ярким лучам и отраженному свету, но никогда не попаду в сферу этой звезды». «Лань, влюбленная в льва, должна умереть от любви»,— говорит она. В ее мучительной болезни было утешение— каждый день «рисовать на таблицах сердца» изогнутые брови, соколиный взор и кудри, схватывать каждую линию и жест сладостного облика.
Жизненная позиция героини высказана в образных сентенциях о роли фортуны в отношениях людей: «Лекарства в нас самих, хотя мы приписываем их небесам», небо «тащит назад медлительные начинания, когда мы сами бездеятельны» (эпитет "dull" означает «тупой», «вялый», скучный», «бездеятельный», «слабый», «глупый», «неспособный», «ленивый», «инертный» и множество других оттенков для выражения недостатков характера). Так Елена утверждает свободу воли и выбора, решимость в достижении целей. Отъезд графа Бертрама в Париж лишает ее этой радости, но она признается, что «все еще льет воду своей любви в обманчивое решето, неспособное ее удержи-вать», «подобно индейцу обожает солнце, не знающее о ее существовании».
 Елена решается ехать в Париж, так как твердо верит, чт(может излечить короля. Речь Елены, обращенная к королю исполнена такой веры и решимости, что король соглашаете* подвергнуться лечению, хотя вначале наотрез ей отказал: вед1 только что целый консилиум лучших врачей признал его бо лезнь неизлечимой. Елена использует разнообразные средства убеждения, прибегая к образным обобщениям: «великие поток! вытекают из простых истоков», «великие моря высыхали, когдг.. великие мира отрицали чудеса», и она предлагает наказать ee в случае неудачи позорной смертью. Король, убежденный ее речью, уступает, обещая в награду исполнить ее просьбу и своей властью дать ей избранного ею дворянина в мужья.
Елена решается ехать в Париж, так как твердо верит, чт(может излечить короля. Речь Елены, обращенная к королю исполнена такой веры и решимости, что король соглашаете* подвергнуться лечению, хотя вначале наотрез ей отказал: вед1 только что целый консилиум лучших врачей признал его бо лезнь неизлечимой. Елена использует разнообразные средства убеждения, прибегая к образным обобщениям: «великие поток! вытекают из простых истоков», «великие моря высыхали, когдг.. великие мира отрицали чудеса», и она предлагает наказать ee в случае неудачи позорной смертью. Король, убежденный ее речью, уступает, обещая в награду исполнить ее просьбу и своей властью дать ей избранного ею дворянина в мужья.
Отказ Бертрама она воспринимает с достоинством, признает свое поражение и собирается удалиться. Однако король, возмущенный поведением Бертрама, угрожает, что лишит его милости, а Елену возвысит. Бертрам вынужден подчиниться, но сразу после женитьбы покидает Францию. Слова его письма: «Пока у меня есть жена, у меня ничего нет во Франции», вызывают у Елены горестные сожаления, высказанные в поэтических образах: она изгнала его из собственной страны, от королевского двора, где «ему угрожали только выстрелы прекрасных глаз», подвергла его «нежные члены» опасностям войны, сделала его «мишенью дымящихся мушкетов». И она произносит. трогательное заклинание, обращенное к «свинцовым посланцам», с мольбой пощадить его отважную грудь. Она готова на любые опасности, чтобы спасти жизнь любимому: готова встретить голодного льва, бежать из рая, населенного ангелами, она призывает ночь, чтобы в темноте украдкой покинуть дом, подобно бедному вору. Поэтические сравнения в монологе Елены передают ее самоотверженную преданность и решимость — мотивы ее бегства лишены каких-либо расчетов, она всего лишь хочет облегчить Бертраму возвращение на родину, спасти его от войны.
Случай помогает ей — переодетая странницей, Елена находит лагерь во Флоренции, где служит Бертрам, знакомится с Дианой, девушкой, в которую Бертрам влюбился, открывает ей свои беды и получает помощь: она выдает себя за Диану когда ночью приходит на свидание. Если представить реальную ситуацию, в которой оказалась Елена, то средство, при вмененное ею, кажется совершенно неправдоподобным, кроме того, с этической точки зрения ее уловка выглядит сомнительной. Исследователи потратили немало усилий, чтобы определить авторское отношение к такому поступку героини. Главным аргументом в защиту Елены является, по мнению критиков, святость законных уз брака — Елена берет «свое», принадлежащее ей «по праву», поэтому ее обман освящен законом звать», «подобно индейцу обожает солнце, не знающее о ее существовании».
Елена решается ехать в Париж, так как твердо верит, что (может излечить короля. Речь Елены, обращенная к королю исполнена такой веры и решимости, что король соглашаете подвергнуться лечению, хотя вначале наотрез ей отказал: вед1 только что целый консилиум лучших врачей признал его бо лезнь неизлечимой. Елена использует разнообразные средства убеждения, прибегая к образным обобщениям: «великие поток! вытекают из простых истоков», «великие моря высыхали, когдг.. великие мира отрицали чудеса», и она предлагает наказать ee в случае неудачи позорной смертью. Король, убежденный ее речью, уступает, обещая в награду исполнить ее просьбу и своей властью дать ей избранного ею дворянина в мужья.
Отказ Бертрама она воспринимает с достоинством, признает свое поражение и собирается удалиться. Однако король, возмущенный поведением Бертрама, угрожает, что лишит его милости, а Елену возвысит. Бертрам вынужден подчиниться, но сразу после женитьбы покидает Францию. Слова его письма: «Пока у меня есть жена, у меня ничего нет во Франции», вызывают у Елены горестные сожаления, высказанные в поэтических образах: она изгнала его из собственной страны, от королевского двора, где «ему угрожали только выстрелы прекрасныхглаз», подвергла его «нежные члены» опасностям войны, сделала его «мишенью дымящихся мушкетов». И она произносит. трогательное заклинание, обращенное к «свинцовым посланцам», с мольбой пощадить его отважную грудь. Она готова налюбые опасности, чтобы спасти жизнь любимому: готова встретить голодного льва, бежать из рая, населенного ангелами, она призывает ночь, чтобы в темноте украдкой покинуть дом, подобно бедному вору. Поэтические сравнения в монологе Елены передают ее самоотверженную преданность и решимость — мотивы ее бегства лишены каких-либо расчетов, она всего лишь хочет облегчить Бертраму возвращение на родину, спасти его от войны.
Случай помогает ей — переодетая странницей, Елена находит лагерь во Флоренции, где служит Бертрам, знакомится с Дианой, девушкой, в которую Бертрам влюбился, открывает ей свои беды и получает помощь: она выдает себя за Диану когда ночью приходит на свидание. Если представить реальную ситуацию, в которой оказалась Елена, то средство, примененное ею, кажется совершенно неправдоподобным, кроме того, с этической точки зрения ее уловка выглядит сомнительной. Исследователи потратили немало усилий, чтобы определить авторское отношение к такому поступку героини. Главным аргументом в защиту Елены является, по мнению критиков, святость законных уз брака — Елена берет «свое», принадлежащее ей «по праву», поэтому ее обман освящен законом. сушеную грушу: ни вида, ни вкуса». Если Елена успешно парирует двусмысленные шутки, то Бертрам легко поддается влиянию хвастуна, когда тот убеждает графа, что достойная жизнь только в Италии, а Франция—«собачья конура» и «конюшня». С самого начала только старый Лафё раскусывает этот «пустой орех» и советует Бертраму не доверять человеку, у которого нет ничего за душой, кроме платья. Во всех сценах, где появляется Пароль, сразу же возникает атмосфера лжи, порока, пошлости и клеветы. Речь Пароля отличается той же особенностью, какая свойственна речи Яго,— он грязнит любую тему, любого человека.
Таким образом, обе драмы — «Мера за меру» и «Все хорошо, что хорошо кончается» — соединяют в стиле речей персонажей две резко контрастные стихии — в серьезных «проблемных» сценах поэтические образы служат освещению сложных нравственных конфликтов и дают возможность лучше понять характеры героев; напротив, в сатирических сценах они помогают воссоздать картину разложения, упадка нравов, мелких и низких интересов и страстей.
«ЦИМБЕЛИН» И «ЗИМНЯЯ СКАЗКА>
В последний период творчества Шекспир создает несколько произведений, которые могут быть названы фантастическими драмами-сказками. В них использованы легендарные сюжеты, действие происходит в условной вымышленной обстановке, место действия обозначено, однако исторические приметы эпохи и страны в этих драмах почти отсутствуют.
Для создания драмы «Цимбелин» Шекспир воспользовался несколькими источниками — литературными, историческими и фольклорными, однако все действие и почти все герои вымышлены Шекспиром, а пестрый материал источников полностью переработан в цельное, насыщенное событиями занимательное действие. Пьесу нельзя назвать комедией, так как история оклеветанной принцессы Имогены и ее мужа, легковерного Постума, окрашена в трагические тона, судьба двух ее братьев, воспитанных в лесной глуши, могла закончиться трагически, если бы не счастливая случайность, однако трагический конец реальных правдоподобных событий в последний момент искусно подменен счастливым концом, типичным для всех сказок. Героев, которые даровали британцам победу,— старца Белларио и двух юношей — Гвидерия и Арвирага — неизбежно ожидала казнь за убийство принца Клотена, если бы юноши не оказались похищенными сыновьями Цимбелина. Таким образом, счастливый финал связан лишь с фантастическим, сказочным началом в пьесе.
Метафорические образы встречаются в наиболее драмати-ческие моменты действия, они связаны с такими темами, как клевета, мстительность, трусость, глупость и подлость, и противостоящие этим порокам доблести — верность и преданность в любви, честь, служение долгу, отвага и сила в битвах.
Клеветник Якимо восхищен красотой Имогены, но его эмоции выражены в метафорах, поясняющих низменные плотские страсти, пробужденные в нем чистотой и прелестью верной жены Постума: он притворно сожалеет, что мужчины не способны оценить «высокую сводчатую арку» и «огненные сферы» небес,— так он предваряет клевету на Постума туманной аналогией, которой Имогена не понимает. «Аппетит» в его сравнениях означает чувственность, похоть; если «аппетит» мог бы сравнить «грязь» и «чистое совершенство», то «желание» должно бы «изрыгнуть» пустоту, но не соблазняться пищей грязной. Видя, что его не понимают, он дополняет метафорическое изображение похоти: пресыщенное желание насыщает неудовлетворенную страсть, пока бочка не наполнится и не переполнится; пожрав ягненка, оно жаждет требухи. Эти натуралистические сравнения Имогена воспринимает как что-то болезненное, ей не приходит в голову, что рассуждение Якимо имеет какое-то отношение к поведению ее мужа.
Лексика Якимо выражает грязь его клеветы. Он описывает поведение Постума в иносказаниях и намеках:
Владеть всем тем,
Что жадный взор влечет мой,— неужели — Проклятье мне! — слюнявил бы я губы, Доступные любому, как ступени У Капитолия; иль руки жал Шершавые от грязных, лживых ласк, Как от работы; иль глядел любовно В бесцветные глаза, чей тусклый блеск Не ярче, чем мерцанье фитиля, Чадящего в зловонной плошке с салом?
(I, 6, здесь и далее перевод П. Мелковой)
Как только Якимо предлагает себя, чтобы Имогена могла «отомстить» мужу, который прельстился продажными ласками, она догадывается, что муж оклеветан и прогоняет его. Хитрый Якимо притворяется, что лишь хотел испытать ее верность, и начинает превозносить Леонато Постума как лучшего из людей. Позднее, описывая прелести Имогены перед Постумом, клеветник говорит о том, как, «утолив голод», он «продолжал насыщать свое желание». Ненависть Постума к неверной жене сразу же принимает форму отвращения ко всем женщинам, он даже себя теперь считает плодом греховной связи, хотя его мать была «Дианой добродетели». В его воспоминаниях есть моменты, которые должны бы заставить его усомниться в честности Якимо и в измене жены. Шекспир вводит метафоры, помогающие увидеть истину: Имогена умеряла законные наслаждения, ее стыдливость была столь подобна розе, что потепле бы и старый Сатурн, а он, Постум, считал ее столь же целс мудренной, как снег, не освещенный солнцем. Эти поэтические метафоры сменяются проклятьями — «желтый Якимо» за час овладел ею, «как досыта нажравшийся кабан |Лесов германских, только хрюкнул „хо"|—И взял ее». Ненависть охватывает Постума с такой силой, что все дурное в людях он приписывает женщинам:
От женщин в нас, мужчинах, все пороки, От них, от них и мстительность, и похоть, Распутство, честолюбье, алчность, спесь, И злой язык, и чванство, и причуды!
(II, 5)
Ярость Постума находит выражение в таких гиперболических образах и проклятьях, что становится понятен его приказ умертвить Имогену, продиктованный этой мгновенной вспышкой ненависти. Узнав о ее смерти, он раскаивается и ищет соб ственной гибели в сражении. Только загадочное письмо и аллегорический сон побудили его отказаться от самоубийства.
Имогена, прочитав приказ убить ее, полученный слугой Постума Пизанио, готова умереть. Она предполагает, что Постум «околдован» римской сойкой, а жена стала помехой — «платье вышло из моды». Но она не обвиняет всех мужчин: «...плач Си- I нона к святым слезам других убил доверье|И состраданье ' к подлинному горю. Так, Постум, ты людей пятнаешь честных | Своим поступком». Но как только она слышит совет Пизанио. явиться в одежде юного пажа в Италию и выяснить причину I ненависти к ней мужа, Имогена готова к любым испытаниям, I она чувствует себя отважным воином. В пещере, приветливо встреченная двумя юношами, Имогена размышляет об истин- ] ном величии — даже лучшие из великих, «чьи дворцы основаны на совести и добродетели», не могут сравниться с этими людь- I ми. Имогена не знает, что встретила своих братьев, ее сужде- I ние относится к простым охотникам.
 Во многих словесных образах пьесы воплощается мысль об истинном благородстве, о высшей ценности в человеческой жизни. Когда Белларио вспоминает о том, как он пользовался славой и почетом, но пал жертвой клеветы двух доносчиков, обвинивших его в измене, он убеждает юношей, что жизнь вдали от королевского двора, независимость от монарших милостей гораздо благороднее, чем жизнь придворных. Однако Гвидерий и Арвираг возражают ему, и в их доводах содержится наставление самого Шекспира: в старости лучше всего — покой, но юности необходима деятельность. Они лишь «неоперившиеся птенцы, которые ничего не видели даже вокруг гнезда», «их пещера — келья невежества, темница для должников», они не знают ничего, кроме охоты, подобно птицам в клетке они воспевают свою неволю. Гвидерий неспособен сносить грубые оскорбления ни от кого, даже от принца королевской крови. Когда Белларий сожалеет, что в поединке Гвидерий убил Кло-тена, тот отвечает твердо и разумно:
Во многих словесных образах пьесы воплощается мысль об истинном благородстве, о высшей ценности в человеческой жизни. Когда Белларио вспоминает о том, как он пользовался славой и почетом, но пал жертвой клеветы двух доносчиков, обвинивших его в измене, он убеждает юношей, что жизнь вдали от королевского двора, независимость от монарших милостей гораздо благороднее, чем жизнь придворных. Однако Гвидерий и Арвираг возражают ему, и в их доводах содержится наставление самого Шекспира: в старости лучше всего — покой, но юности необходима деятельность. Они лишь «неоперившиеся птенцы, которые ничего не видели даже вокруг гнезда», «их пещера — келья невежества, темница для должников», они не знают ничего, кроме охоты, подобно птицам в клетке они воспевают свою неволю. Гвидерий неспособен сносить грубые оскорбления ни от кого, даже от принца королевской крови. Когда Белларий сожалеет, что в поединке Гвидерий убил Кло-тена, тот отвечает твердо и разумно:
Но почему, отец? Что нам терять? Хотел он погубить нас. Ведь закон Нам не защита, так ужель мы станем Сносить его угрозы малодушно Иль ждать, чтобы кусок спесивый мяса Судьею нашим стал и палачом Лишь потому, что вне закона мы?
(IV, 1)
Изгнанники наделены обостренным чувством независимости, но они стремятся вернуться в общество — и в момент опасности вмешиваются в ход событий, удерживают британцев от бегства и одерживают победу над римлянами. Все восхваляют их подвиг, король обещает награду, однако при известии, что они убили Клотена, приказывает казнить всех трех героев. Только когда Белларию удается доказать, что перед ним его похищенные сыновья, Цимбелин охвачен радостью и приказывает пощадить захваченных в плен римлян. Предсказатель поясняет смысл аллегорического послания, полученного Постумом. Драма завершается заключением мира, благодарственными службами в храмах и празднествами. Этот искусственный финал не может ослабить общего трагического настроения, созданию которого в немалой степени способствуют метафоры в речах персонажей. Метафоры служат чаще всего для иллюстрации той или иной мысли, они не органичны для стиля говорящего и слабо связаны с характерами героев.
«Зимняя сказка» близка «Цимбелину»—в ней сходное соотношение реальности и фантастики, тот же мотив похищения Пердиты, дочери короля Сицилии Леонта, прием предполагаемой гибели Гермионы, жены Леонта, которая в конце пьесы оказывается живой, но в качестве злой силы здесь выступает не клевета, а неразумная, немотивированная ревность Леонта, убежденного в измене Гермионы и предательстве его друга, короля Богемии Поликсена. И здесь, как и в предшествующей драме, можно обнаружить две развязки — вначале показано, как могло быть в реальной жизни, затем — как происходит в мире сказки. В источнике Шекспира — в романе Роберта Грина «Пандосто, или Триумф Времени» — героиня умирает, и в драме до самого финала ничего не известно о судьбе Гермионы, поэтому эффект оживающей статуи оказывается сильнее, чем если бы зрители знали, что Гермиона жива.
Ревность Леонта рождается из ложного восприятия поведения Гермионы и Поликсена; любезность жены по отношению к гостю и расположение Поликсена к Гермионе Леонт принимает за любовь, и его воображение рисует картину тайной любовной связи. Образные картины неверности жены, возникающие в его болезненно измененном сознании, растравляют его раны и усиливают жажду мести. Он рассуждает о судьбе рогоносцев, как философ, но лишь до тех пор, пока способен рассуждать разумно: признает, что мужья вынуждены терпеть «эту распространенную болезнь, от которой нет лекарства», а если бы все, у кого неверные жены, приходили в отчаяние, то десятая часть всех мужей могла повеситься. Он уверяет своего верного советника Камилло, что Гермиона — «лошадка-на-па-лочке», «порочная, как девка, которая треплет лен и отдается до обрученья». Когда Камилло клянется, что Гермиона верна, Леонт вместо каких-либо доказательств использует образную риторику: ужели он так нечист и неразумен, что добровольно растравил себя, загрязнил чистоту и белизну постели стрекалом, крапивой, шипами и осиными хвостами. Этот перечень вызывает у Камилло уверенность, что король болен, но он делает вид, что поверил Леонту, чтобы спасти Поликсена и спастись самому. Во всех речах Леонта проявляется ослепление и жестокость, всех, кто пытается ему возражать, он обвиняет в измене. Одна из наиболее вычурных, искусственных, но очень выразительных метафор живописует состояние Леонта при известии о бегстве Поликсена и Камилло, которое подтверждает измену Гермионы. Он благословляет и проклинает свой «справедливый приговор», проклинает, потому что сознание «правоты» приносит ему мучения: в чаше с питьем мог быть паук, но если человек, пьющий из чаши, не заметит паука, он не испытает страха перед его ядом (во времена Шекспира считали, что паук — ядовит). Однако если затем кто-либо покажет ему отвратительного паука, он извергнет проглоченное из желудка, вызвав яростную рвоту. «Я выпил и увидел паука»,— так завершает Леонт свою аллегорию. Пожалуй, ни одна другая метафора в его речах не передает с такой силой овладевшее им чувство отвращения в момент, когда он убедился в измене жены.
Давно замечено, что в поведении Леонта отсутствует психологическая убедительность и правдоподобие. По-видимому, задача Шекспира как раз и заключалась в том, чтобы обличить произвол и неразумие тирана. Недаром в уста Паулины вложены самые дерзкие обличения тирании: «Какие мучения, тиран, ты мне готовишь? Колесованье? дыбу? огонь? заставишь сдирать с живой кожу, кипеть в расплавленном свинце или масле? Какие старые и новые пытки должна я испытать, если каждое мое слово заслуживает худшей казни?». Она перечисляет наиболее известные во времена Шекспира пытки. На угрозу, что ее сожгут на костре, она отвечает столь же смело: «Я не боюсь. Тот еретик, кто разжигает костер, а не та, кого сжигают. Не назову тебя тираном; хотя жестокость по отношению к королеве, вызванная всего лишь обвинением, порожденным слабо скрепленным вымыслом, пахнет тиранией и навлечет на тебя позор и осуждение во всем мире» (II, 3). Ответ Леонта заслуживает внимания: если бы я был тираном, Паулины уже не было бы в живых, и она не посмела бы так назвать меня. Тема королевской «прерогативы», полного произвола абсолютной власти монарха возникает в первой половине пьесы настолько последовательно, что в этом виден политический смысл и отклик драматурга на трагические события первых лет правления короля Джеймса, когда множество людей были обвинены в измене и немало женщин были сожжены на кострах по обвинению в колдовстве.
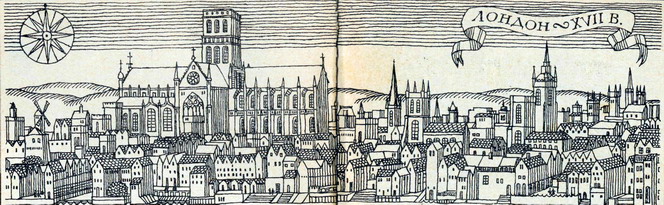 Вторая часть — драмы — романтическая история любви принца Флоризеля и пастушки Пердиты, не знающей, что она дочь Леонта. Пролог к четвертому акту произносит Время, сообщая зрителям, что прошло шестнадцать лет. Шекспир завершает представления о роли Времени в жизни людей, известные по более ранним его произведениям, метафорическим обобщениям. Время произносит приговор всему, что совершается, оно судит и радостные и ужасные события, различает добро и зло, допускает и исправляет заблуждения — эта роль времени как высшего судьи человеческих дел уже упоминалась. Здесь Шекспир углубляет суждение о Времени, которое говорит: «В моей власти ниспровергнуть закон и в один и тот же час основать и отменить обычай». Далее поясняется различие между понятием неизменного и вечного Времени и «временами», т. е. периодами, которые имеют возраст. Вечное время одинаково относится и к древнему порядку в жизни людей и к «свежему», господствующему в настоящем ограниченному времени. В этой мысли о всеобщем изменении порядка, обычаев, законов заключен философский вывод, общий для многих древних и новых авторов. Шекспир напоминает о неизбежном процессе развития всего, что существует в мироздании.
Вторая часть — драмы — романтическая история любви принца Флоризеля и пастушки Пердиты, не знающей, что она дочь Леонта. Пролог к четвертому акту произносит Время, сообщая зрителям, что прошло шестнадцать лет. Шекспир завершает представления о роли Времени в жизни людей, известные по более ранним его произведениям, метафорическим обобщениям. Время произносит приговор всему, что совершается, оно судит и радостные и ужасные события, различает добро и зло, допускает и исправляет заблуждения — эта роль времени как высшего судьи человеческих дел уже упоминалась. Здесь Шекспир углубляет суждение о Времени, которое говорит: «В моей власти ниспровергнуть закон и в один и тот же час основать и отменить обычай». Далее поясняется различие между понятием неизменного и вечного Времени и «временами», т. е. периодами, которые имеют возраст. Вечное время одинаково относится и к древнему порядку в жизни людей и к «свежему», господствующему в настоящем ограниченному времени. В этой мысли о всеобщем изменении порядка, обычаев, законов заключен философский вывод, общий для многих древних и новых авторов. Шекспир напоминает о неизбежном процессе развития всего, что существует в мироздании.
В изображении любви принца Флоризеля и прекрасной пастушки поэтические образы усиливают своеобразный «космический» облик земного чувства: пастушка в глазах Флоризеля подобна Флоре, управляющей не овцами, а младшими богами, Пердита призывает на помощь Юпитера, чтобы он спас их от грозящей опасности — она чувствует, что «на их пиршестве в каждом блюде есть примесь безрассудства», «и пирующие переваривают их вместе с обычаем». В этой метафоре выражена мысль о том, что их любовь ведет к нарушению «обычая», что «богини судьбы» накажут их. Флоризель напоминает ей, что Юпитер в любовной страсти превратился в быка, великий Нептун — в барана, а золотистый Аполлон сбросил огненную одежду и явился в облике простого пастуха. В подобных пре-вращеньях нет ничего дурного, ведь желанье в нем не сжигает веру. Дальнейшие события подтверждают худшие опасения Пердиты — вмешательство Поликсена едва не приводит их любовь к трагическому концу Диалог переодетого Поликсена и Пердиты воспринимается как аллегорический комментарий к отношениям юной пастушки и наследного принца. Пердита вызывает восхищение короля, в его рассуждениях о природе и искусстве виден ученый, чы мысли глубоки и свободны, он судит смело и непредвзято, ког да речь идет о вещах, далеких от его собственных интересов. Пердита признается, что не выращивает в саду гвоздик и левкоев, потому что за их пестроту их называют «незаконным* детьми природы», их породило искусство садовода. На этс Поликсен возражает, что она неправа: «Природа улучшается только теми средствами, которые создает сама природа: искусство, которое, как ты говоришь, добавляет что-либо к природе, сотворено природой». От этого общего суждения Поликсен переходит к конкретному примеру: садовод «сочетает браком» нежный черенок и дикий ствол, и кора низкого происхождения зачинает от почки благородной породы: «Это искусство исправляет природу, изменяет ее, но само искусство — тоже природа». Вывод Поликсена, казалось, должен оправдать брак Принца и пастушки, но едва он узнает о намерении сына жениться на девушке низкого рода, его охватывает гнев, и влюбленные вынуждены бежать от его угроз.
Основа драматических коллизий в поздних пьесах Шекспира заключена в отношениях, господствующих в реальном мире, в обществе, разделенном на высшие и низкие сословия, в обществе, где господствуют предрассудки обычая, произвол власти, клевета и преступления. В реальные отношения вторгается случай, чудесное, мифическое и фантастическое начало, тот сказочный элемент, который приводит к счастливому концу даже самые трагические противоречия. В поздних драмах-сказках Шекспир, жертвуя правдоподобием и психологической правдой характеров, искусственно приводит запутанные отношения героев к счастливой развязке.
«БУРЯ»
Позднюю драму-сказку «Буря» исследователи воспринимают как поэтическое завещание Шекспира, как размышление о воздействии искусства на жизнь людей и прощание Шекспира с театром. В этом толковании много верного, хотя трудно предполагать, что драматург в свои сорок семь лет («Буря» написана в 1611 или в 1612 г.) уже думал о каком-либо «завещании». В драме действительно изображен мир искусства— музыка, зрелища, поэзия, видения, люди преображаются под влиянием волшебных чар Ариэля — во всем этом можно видеть намерение Шекспира раскрыть глубокую и важную роль искусства. Однако в этом лишь одна сторона замысла драматурга.
В целом философский замысел Шекспира более сложен: «Буря» — это аллегорическая поэтическая сказка, в которой Шекспир ставит вопрос о средствах преобразования мира и человеческого общества, это своеобразная «драматическая утопия», отразившая античные и ренессансные идеи о наилучшем государственном устройстве, о роли науки, искусства, любви и поэзии в жизни общества, а также воздействие на Шекспира многих рассуждений Монтеня о жизни диких племен, о их нравах и обычаях, о социальном неравенстве и собственности.
Первая же сцена в драме — это аллегорическая картин;, морского шторма, которую можно воспринимать как пролог к главной теме — о средствах преобразования общества. Шторм символизирует потрясение в жизни государства. Метафора «корабль — государство» всегда окрашена в политические и социальные тона — как в драмах Шекспира, так и во многих сочинениях, античных и современных Шекспиру. Эту метафору использовал и Джон Фокс в сочинении «Мученики церкви», и Томас Мор в «Утопии», и Монтень — в десятой главе третьей книги, где он развивает мысль о том, что даже в моменты общественных бурь, когда кораблем стараются овладеть волны и ветры, опытный кормчий может его спасти.
Аллегорический смысл первой сцены не вызывает сомнений: кораблю угрожает стихийное бедствие, потрясение вызвало крушение иерархии, рухнули социальные перегородки, корабль гибнет, и в этот момент власть на корабле переходит к боцману-кормчему. «Убирайтесь с дороги, я говорю!» — кричит боцман королю Алонзо и дворянам Себастьяну и Антонио. Советник Гонзало напоминает о почтении к королю, но боцман дерзко отвечает: «Какое дело этим волнам до имени короля». Добрый Гонзало уверен, что боцмана повесят за оскорбление короля несмотря на то, что этот боцман спасет корабль. Даже в момент опасности Антонио и Себастьян сохраняют свои дворянские привычки и осыпают матросов и боцмана грубой бранью и нелепыми обвинениями: «Нас погубят эти пьяницы». На эти ругательства боцман отвечает: «Работайте сами». Нетрудно видеть, что аллегория социально окрашена: в период общественного бедствия, угрожающего гибелью государству, обнажаются все социальные конфликты, проясняется истинная ценность людей, спасение зависит от знания и опыта, а не от положения людей в общественной иерархии.
Если во многих более ранних драмах образ корабля, застигнутого бурей, связан у Шекспира с идеей стихийного социального потрясения, то в драме «Буря» шторм вызван разумом и властью ученого: мудрец Просперо вызвал бурю, чтобы восстановить справедливость и наказать преступников.
Мысль о связи науки и государственного управления возникает в рассказе Просперо о прошлых событиях: он был герцогом Миланским, но увлекся изучением наук и передал власть своему брату Антонио. Метафора в речи Просперо раскрывает связь власти и состояния государственных дел. Власть пробудила в Антонио его дурные страсти. Владея ключами от всех должностей, зная, кого возвысить, а кого повергнуть вниз, Антонио «все сердца в государстве настроил на ту ноту, какая нравилась его слуху». Он «высасывал соки из ствола» законного властителя, в конце концов вошел в сношения с врагом Просперо неаполитанским королем Алонзо и захватил власть.
Шекспир решает проблему отношений государственной власти и науки во многом иначе, нежели Монтень. Монтень скептически относится к идеям Платона о том, что управлять должны философы. Он говорит о своеобразии мышления ученых, которое мешает им управлять делами. Шекспир же показывает, что если мудрецы откажутся от государственных дел, то захватившие власть честолюбцы могут привести к гибели и государство и самих ученых.
Образы Ариэля и Калибана часто получают аллегорическое истолкование, они создают контраст между властью искусства и низменными, грубыми страстями в человеческой природе. Это противопоставление насыщено множеством разных, слабо связанных друг с другом ассоциаций. Несомненно, что Ариэль воплощает силы природы и всех видов искусства: он умеет летать, плавать, вызывать гром, молнию, он не горит в огне, быстро мчится на облаках, он воспроизводит рев морской бури, возбуждает видения в воображении людей, он обладает властью не только над природой, но и над чувствами людей, вызывает любовь в сердцах Миранды и Фердинанда, раскаяние в душе Алонзо, страх Себастьяно и Антонио, даже Калибан поддается воздействию волшебной музыки. Ариэль символизирует власть искусства над людьми, особенно власть театра — его «чудеса» могут восприниматься и как театральное представление.
Исследователи потратили немало усилий, чтобы разгадать аллегорию, связанную с образом ведьмы Сикораксы, матери Калибана, которая до появления Просперо владела островом. За строптивый нрав она заключила Ариэля в расщепленную сосну, и только Просперо освободил его от мучений и заставил служить себе. Образ Сикораксы символизирует в пьесе власть невежественной грубой силы, политические и религиозные преследования, угнетающие разум, фантазию, искусство. Однако природа Ариэля такова, что он с трудом подчиняется даже разумному и доброму господину, он жаждет получить полную свободу и служит целям Просперо только временно, т. е. по природе творческие силы человека стремятся к свободе, однако они вынуждены подчиняться или злым или добрым силам, и их полная независимость от человеческого общества относительна— свободны лишь стихийные силы природы, но искусство должно быть подчинено власти разума.
Образ Калибана часто воспринимают лишь как олицетворение грубых пороков или низших слоев общества, выполняющих черную работу. Думается, что творение Шекспира значительно сложнее, поэтому и абстрактно-психологическое и узкосоциальное толкования образа являются упрощением. Это порождение поэтической фантазии прежде всего стало возможно в эпоху географических открытий, когда европейцы узнали о жизни и нравах диких племен. Во многих отношениях и утопические мечты советника Гонзало и образ Калибана связаны в драме Шекспира с идеями Монтеня, который восхвалял обычаи дикарей во вновь открытых землях.
Почему Просперо оказывается резким и даже грубым в обращении со своим «рабом» Калибаном? Это объясняется тем, что когда-то Калибан пытался обесчестить Миранду, и потому Просперо был вынужден применить к нему принуждение. Кроме того, Просперо признается, что только воспитанием не может изменить грубую природу Калибана. И он оказывается прав: Калибан восторженно приветствует шута Тринкуло и дворецкого Стефано, которым он за бутылку «божественного напитка» готов отдать и свою свободу и весь остров. Калибан уговаривает их убить Просперо, сжечь его книги и завладеть островом. Эта аллегория говорит о том, что Шекспир разделял опасения гуманистов относительно народных мятежей: в драме показано, как бунт дикаря и пьяных слуг едва не закончился гибелью мудреца и волшебника. Весь бунт изображен в комическом свете, особенно смешно звучит в устах пьянчуги-дворецкого песенка, которая заканчивается припевом: «Мысль свободна». В аллегорической форме изображено бессмысленное и глупое бунтарство пьяниц и невежд, которые стремятся к «свободе» от труда и всяких законов, сдерживающих их низменные страсти.
Поэтическая аллегория заключена и в изображении любви Миранды и Фердинанда. Тема любви в этой драме органически связана с общим замыслом, с темой воспитания людей. Просперо с помощью Ариэля возбудил их любовь, но он воздвигает препятствия, чтобы испытать истинность и прочность возникшего чувства. Его наставления Фердинанду несомненно отражают авторские идеи: он призывает юного принца к сдержанности и терпению: если до свершения священного брачного обряда он «развяжет узел девственности», их союз будет непрочным: «Бесплодная ненависть, презрение с горечью во взгляде и раздоры насыплют на брачное ложе такие отвратительные сорняки, что вы оба его возненавидите: поэтому будь осторожен». В ответ Фердинанд говорит о том, что его цель — спокойный союз, прекрасное потомство и долгая жизнь, его любовь такого свойства, что ни темнота, ни удобный случай, ни сильное искушение, ни любой злой гений не смогут побудить его честь растаять перед вожделением и в праздничный день притупить всю остроту желанья. Тогда Просперо показывает театральное
представление — свадебную «маску», в которой Ирида, Церера и Юнона приносят свои дары счастливым влюбленным. Пение, музыка, танцы нимф — весь театральный праздник порождает у Просперо образное суждение о жизни: когда-нибудь все в мире растает, как эти видения, и даже великий земной шар растворится без следа: «Мы сотканы из той же ткани, что и сны, и наша маленькая жизнь окружена сном». И Просперо отказывается от волшебной власти. Это решение не означает примирения мудреца со злом, это всего лишь признание, что жизш человеческая имеет предел, что даже мудрейшие люди когда либо исчезнут — как все, что существует. Просперо осуществи свои цели — он восстановил справедливость, сделал людей луч ше, наказал преступление, вернулся в мир людей и дарова. счастье дочери и юному принцу, он повелевал стихиями и людь ми, но и он признает, что силы человека не беспредельны, в этог смысл грустного финала волшебной поэтической сказки.
Своеобразие метафор и аллегорий в так называемы; «проблемных» и «романтических» драмах последнего периодг состоит в том, что они усиливают свойственную этим пьеса! дидактическую направленность, заостряют те или иные «проб лемы», служат созданию атмосферы чудесного, сказочногс начала, помогающего разрешению трагических по своему характеру конфликтов, подобно тому как в сказках они заканчиваются победой добра и всеобщим примирением.

 2015-05-06
2015-05-06 697
697







