Колодец гигантов
Язык, который так меня ужалил,
Что даже изменился цвет лица,
Мне сам же и лекарством язву залил;[446]
Копье Ахилла и его отца
Бывало так же, слышал я, причиной
Начальных мук и доброго конца.[447]
Спиной к больному рву, мы шли равниной,[448]
Которую он поясом облег,
И слова не промолвил ни единый.
Ни ночь была, ни день, и я не мог
Проникнуть взором в дали окоема,
Но вскоре я услышал зычный рог,
Который громче был любого грома,
И я глаза навел на этот рев,
Как будто зренье было им влекомо.
В плачевной сече, где святых бойцов
Великий Карл утратил в оны лета,
Не так ужасен был Орландов зов.[449]
И вот возник из сумрачного света
Каких-то башен вознесенный строй;
И я: «Учитель, что за город это?»
«Ты мечешь взгляд, – сказал вожатый мой, –
Сквозь этот сумрак слишком издалека,
А это может обмануть порой.
Ты убедишься, приближая око,
Как, издали судя, ты был неправ;
Так подбодрись же и шагай широко».
И, ласково меня за руку взяв:
«Чтобы тебе их облик не был страшен,
Узнай сейчас, еще не увидав,
Что это – строй гигантов, а не башен;
Они стоят в колодце, вкруг жерла,
И низ их, от пупа, оградой скрашен».
Как, если тает облачная мгла,
Взгляд начинает различать немного
Все то, что муть туманная крала,
Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
Сквозь этот плотный воздух под уклон,
Обман мой таял, и росла тревога:
Как башнями по кругу обнесен
Монтереджоне[450] на своей вершине,
Так здесь, венчая круговой заслон,
Маячили, подобные твердыне,
Ужасные гиганты, те, кого
Дий, в небе грохоча, страшит поныне.[451]
Уже я различал у одного
Лицо и грудь, живот до бедер тучных
И руки книзу вдоль боков его.
Спасла Природа многих злополучных,
Подобные пресекши племена,
Чтоб Марс не мог иметь таких подручных;
И если нераскаянна она
В слонах или китах, тут есть раскрытый
Для взора смысл, и мера здесь видна;
Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты.
Лицом он так широк и длинен был,
Как шишка в Риме близ Петрова храма;[452]
И весь костяк размером подходил;
От кромки – ноги прикрывала яма –
До лба не дотянулись бы вовек
Три фриза,[453] стоя друг на друге прямо;
От места, где обычно человек
Скрепляет плащ, до бедер – тридцать клалось
Больших пядей. «Rafel mai amech
Izabi almi», – яростно раздалось
Из диких уст, которым искони
Нежнее петь псалмы не полагалось.
И вождь ему: «Ты лучше в рог звени,
Безумный дух! В него – избыток злобы
И всякой страсти из себя гони!
О смутный дух, ощупай шею, чтобы
Найти ремень; тогда бы ты постиг,
Что рог подвешен у твоей утробы».[454]
И мне: «Он сам явил свой истый лик;
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык.
Довольно с нас; беседы с ним напрасны:
Как он ничьих не понял бы речей,
Так никому слова его не ясны».[455]
Мы продолжали путь, свернув левей,
И, отойдя на выстрел самострела,
Нашли другого, больше и дичей.
Чья сила великана одолела,
Не знаю; сзади – правая рука,
А левая вдоль переда висела
Прикрученной, и, оплетя бока,
Цепь завивалась, по открытой части,
От шеи вниз, до пятого витка.
«Гордец, насильем домогаясь власти,
С верховным Дием в бой вступил, и вот, –
Сказал мой вождь, – возмездье буйной страсти.
То Эфиальт[456]; он был их верховод,
Когда богов гиганты устрашали;
Теперь он рук вовек не шевельнет».
И я сказал учителю: «Нельзя ли,
Чтобы, каков безмерный Бриарей[457],
Мои глаза на опыте узнали?»
И он ответил: «Здесь вблизи Антей;
Он говорит, он в пропасти порока
Опустит нас, свободный от цепей.
А тот, тобою названный, – далеко;
Как этот – скован, и такой, как он;
Лицо лишь разве более жестоко».
Так мощно башня искони времен
Не содрогалась от землетрясенья,
Как Эфиальт сотрясся, разъярен.
Я ждал, в испуге, смертного мгновенья,
И впрямь меня убил бы страх один,
Когда бы я не видел эти звенья.
Мы вновь пошли, и новый исполин,
Антей, возник из темной котловины,
От чресл до шеи ростом в пять аршин.
«О ты, что в дебрях роковой долины, –
Где Сципион был вознесен судьбой,
Рассеяв Ганнибаловы дружины, –
Не счел бы львов, растерзанных тобой,
Ты, о котором говорят: таков он,
Что, если б он вел братьев в горний бой,
Сынам Земли венец был уготован,[458]
Спусти нас – и не хмурь надменный взгляд –
В глубины, где Коцит морозом скован.
Тифей и Титий[459] далеко стоят;
Мой спутник дар тебе вручит бесценный;
Не корчи рот, нагнись; он будет рад
Тебя опять прославить во вселенной;
Он жив и долгий век себе сулит,
Когда не будет призван в свет блаженный».
Так молвил вождь; и вот гигант спешит
Принять его в простертые ладони,
Которых крепость испытал Алкид.
Вергилий, ощутив себя в их лоне,
Сказал: «Стань тут», – и, чтоб мой страх исчез,
Обвил меня рукой, надежней брони.
Как Гаризенда[460], если стать под свес,
Вершину словно клонит понемногу
Навстречу туче в высоте небес,
Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу,
Навис Антей, и в этот миг я знал,
Что сам не эту выбрал бы дорогу.
Но он легко нас опустил в провал,
Где поглощен Иуда тьмой предельной
И Люцифер. И, разогнувшись, встал,
Взнесясь подобно мачте корабельной.
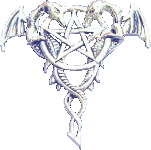
 2015-06-16
2015-06-16 196
196







