7.1[586]
Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге Григорию Отрепьеву, назвавшемуся царским сыном Дмитрием Ивановичем всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. И доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потому все воры к нему собрались: не на царский престол его возвести, но все древние царские сокровища расхитить. Вся Россия. от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович называется, тушинским же вором все Российское государство разоряется.
Малое некое число городов в Поморье не соблазнилось и по крестному целованию держалось Московского государства. Иные же по причине дальнего отстояния подчинены были врагам российским. Труден же был путь отовсюду к Москве для всех добра хотевших, ибо обложили враги царствующий град вокруг. Из-за недостатка во всем необходимом в предельно бедственном состоянии был град Москва. Из него убегавшие, и не желая, число врагов пополняли, и самоуверенно по этому поводу враги веселились.
Великая же тогда польза была царствующему граду от обители чудотворца Сергия. У моря на Севере живущие люди и из Великого Новгорода люди, и из Вологды, и с Двины-реки и вся Сибирская земля — все помогали Москве. Также и из Нижегородской земли, и из Казани люди все без измены служили. И когда кому-нибудь из всех названных мест некуда было деться, то все они в обитель чудотворца приходили.
В последние годы текущего времени Шуйский, по имени Василий, называемый царем всей Руси, сам себя избрав, сел на престол имевших верховную власть первых самодержцев, думаю, без Божия избрания и без его воли, и не по общему из всех городов Руси собранному народному совету, но по своей воле; (это свершилось) с помощью некоего присоединившегося к нему ложного вельможи, совершенно худородного Михаила Татищева, согласного с ним в мыслях, непостоянного в делах и словах, хищного как волк. Этот вышеупомянутый Василий, без соизволения людей всей земли, случайно и спешно, насколько возможна была в этом деле скорость, людьми, находящимися только тут, в царствующем городе, без всякого его сопротивления, сначала в собственном его дворе был наречен, а потом и поставлен царем всей великой России.
В годы, когда прекратился со смертью предел жизни царствующего над нами Бориса и когда поражен был гневом ярости Господней и убит рукою народа Расстрига[587], зависть к царствованию возникла я у царя Василия, и, как стрелою подстреленный властолюбием первых, он поступил еще более дерзко, чем те двое: весьма неосмотрительно и спешно сел на престол, так как'не был искусен в этом. Он создал себе дом и не углубил его в землю, но основал его только на песке. Без согласия всей земли сам себя поставил царем, и все люди были смущены этим скорым его помазанием {на царство); этим он возбудил к себе ненависть всех городов своего государства. Отсюда, после первых (захватчиков), началось все зло на Руси и стали происходить в земле многие нестроения; именно — (началось) непослушание и самовластие рабов и осада городов, так что свои, одной с нами веры рабы, придя войском к матери городов (Москве), этим своим приближением к стенам города изменнически оказывали презрение самой главе царства, а нововоцарившийся (Василий Шуйский) со всем своим родом был ими заперт, как птица в клетке.
Когда внезапно пораженный гневом ярости Господней, преданный руками народа телесной смерти среди самых царских чертогов, а потом выброшенный из них на площадь посреди столицы, пал, как бы пораженный громом, львенок, аспид[588] или, лучше, яйцо василиска[589],— Гришка Расстрига, по прозвищу Отрепьев,— он был как бы сыном по своему злобному обещанию Литовскому королю Сигизмунду[590]. Тогда король Сигизмунд дерзко ополчился на все то доброе, что в нас с помощью Божией спело и умножалось, и прежде всего на благочестивую и пресветлую веру, а потом на изобилие земных благ. Если он и не сам, ополчившись, двинулся и пришел на нас, то отпустил к городу — главе нашего царства — всех своих хорошо вооруженных людей с приказанием прельстить и вторично некоторого (тушинского вора) облечь, как в одежду, в несвойственное имя — и прочее, чему их обоих научил учитель их — враг[591]. И те наши города, которые им случилось разорить, они стерли все до конца и сделали пустыми и, подойдя к матери городов и остановившись в нескольких верстах с целью осады, создали укрепления. Нашего царя, срамодействующего Василия, со всем родом и с теми, кто был в городе, напугав, заперли, как птицу в клетке, и заставили его оставаться тут безвыходно.
Имя Расстриги, вновь ожившее после его достоверного убиения, пришло вместе с прочими и начало служить коварным замыслам второго поругателя истинного имени, который ложно называл себя настоящим государем царевичем Димитрием, прельщая нас, что он нами царствует, и, сочиняя ложь, говорил, что он как-то сохранился и бегством спасся от смерти. Этой ложью он неразумных уловлял в свою волю.
Среди отступников, соединившихся с чужими силами, помогающих мудровать против нас нашим противникам, были не только одни мелкие наши воины, но немало было и из вельмож и других близких к царю сановников. Вместе с ними каждый из тех, которые по чину принадлежали к царскому двору,— переезжал вон из города в стан противников, прельстившись неподтвержденным обманом и соблазняя прочих, показывая всем образец своей слабости и немужества, как будто можно было всех людей привести в подобную им погибель. И эти так делали, и другие, из соседних городов, которые клялись телесному врагу (самозванцу) крестной клятвой, пачкая ложью не столько уста, сколько души свои,— одни, не любя царя, в городе, другие — из-за недостатка необходимого для жизни, так как в городе тогда был сильный голод. Коротко говоря, не столько осталось людей в городе с царем, сколько было перебежчиков, которые перешли к ложному царю.
Если даже перебежавшие туда и знали, что он ложный царь, поклонялись ему, как кумиру, представленному в телесном образе, досаждая таким образом настоящему царю, который находился в городе, и городу, как чужому, вместе с врагами все время творя всякие пакости. Они же, незадолго перед этим в концы земли всего нашего царства, как саранча, расходились безбоязненно, не находя нигде сопротивляющихся им, а наоборот, (находя) способствующих им: все города и села они пленили, жителей и верных подвергая мукам, а имения их расхищая. И невозможно кому-нибудь счесть или описать многочисленные беды русского народа.
8. ПРОКОПИЙ ЛЯПУНОВ [592]
Среди московского служилого люда особым характером отличались рязанцы. Иностранцы хвалят их храбрость, московские летописцы отмечают дерзкий нрав рязанцев. А среди рязанцев на рубеже XVI и XVII веков руководящую роль играла типичная их представительница — семья Ляпуновых. Особенно выделялся из них Прокопий Петрович. «Прокопий,— так характеризует его С. М. Соловьев,— красивый, умный и храбрый, в военном деле искусный человек обладал также страшною энергией, которая не давала ему покоя, заставляла всегда рваться в первые ряды, отнимала у него умение дожидаться. Такие люди обыкновенно становятся народными вождями в смутные времена: истомленный, гнетомый нерешительным положением народ ждет первого сильного слова». Прокопий с братьями были в ряду первых застрельщиков начавшейся по смерти Грозного смуты. Недоумение, охватившее массу русских людей при слухах о спасении царевича Димитрия, отсутствие преданности Годунову, казавшемуся многим «случайным» человеком на престоле, достаточно объясняют измену войска при первой вести о смерти царя Бориса. Служилые люди «заречных» городов, (за Окою), рязанцы и другие передались Самозванцу и помогли ему овладеть престолом. За это их ждали награды; царь Димитрий, «хотя всю землю прельстити», повелел вызвать в Москву выборных от провинциальных дворянских дружин с челобитьями о поместьях и денежном жалованье. Скорая гибель Самозванца не могла встретить сочувствия среди дворян, тем более, что престол достался в руки Василию Шуйскому, боярскому царю. Местнические привилегии[593] боярства стояли поперек дороги в служебной их карьере. Крупное боярское землевладение было опасным соперником в борьбе за крестьянские рабочие руки. И брожение, происходившее среди провинциального дворянства, получило в царствование Шуйского новый смысл, это не просто смута, а борьба за сословные интересы. Быстро и дружно поднялись южные области Московского государства против боярского правительства, воцарившегося в Москве. Поднялись те самые области и те самые люди, которые поддержали первого Самозванца. Движение началось в Северском краю, началось во имя будто бы вторично спасшегося Димитрия, хотя налицо и не было никого, кто взял бы на себя это имя. Душою и вождем восстания стал бывший холоп князя Телятевского, Иван Болотников. В молодости Болотников был взят в плен татарами и продан туркам; несколько лет был галерным невольником в Турции, потом бежал, побывал в Венеции, откуда пробрался в Польшу. Узнав о положении дел на родине, Болотников явился в Путивль к вождю восстания, князю Шаховскому[594], и получил команду над одним из отрядов. Появление Болотникова скоро определило характер движения. Бывший холоп, он обратился с воззваниями к боярским людям и крестьянам, призывая их к восстанию против господ. «Воровские листы» Болотникова возбуждали боярских холопов избивать своих бояр, а их жен, вотчины и поместья брать себе и сулили им боярство и воеводство, окольничество и дьячество. Так Болотников поставил целью своего движения не политический, а социальный переворот. Весть об этом восстании подняла на Шуйского украинные и рязанские города. Но тут движение носило иной характер. Григорий Сумбулов[595] и Прокопий Ляпунов подняли на боярское правительство высший слой провинциального дворянства. Поднялись мелкопоместные люди под предводительством Истомы Пашкова[596]. Дворянские ополчения соединились с Болотниковым.
Стихийный характер всего движения, проявившиеся в нем грозные черты социальной революции делали союз с ним дворянских отрядов неестественным. Соединение с Болотниковым скоро раскрыло им глаза: их союзник был более опасным врагом, чем "московское боярство, больше грозил их землевладельческим и сословным интересам. Рязанцы, дворяне поехали прочь от «злых грабителей». Восставшая толпа разложилась на те общественные элементы, из которых случайно составилась. Измена привела к поражению Болотникова. А Прокопию Ляпунову в Москве было сказано думное дворянство[597].
С суровой жестокостью провел царь Василий усмирение восставших. Но оно не было доведено до конца, когда с Северщины поднялась новая волна смуты, принесшая под Москву второго Самозванца, Тушинского Вора. Отряды Вора состояли из тех же элементов, как и отряды Болотникова,— и Ляпуновы остаются на стороне Шуйского. Но это была верность не Шуйскому, а тому порядку, которому грозила смута, и как только Ляпунов нашел в царском племяннике, М. В. Скопине-Шуйском, человека, соединявшего качества вождя с личной значительностью, он, не умевший выжидать, шлет грамоту молодому воеводе с укоризненными речами против царя Василия и поздравлением Скопина в царском достоинстве[598]. Скопин разорвал грамоту, умолчал о ней, но дело вскрылось и набросило на него тень. Неожиданная смерть, его постигшая, приписана была отраве, которую ему поднесли Шуйские,— и рязанский воевода рассылает грамоты в другие города, призывая помочь ему в мщении царю Василию. Организовать открытое восстание ему не удалось. Тогда он вступил в заговор с кн. В. В. Голицыным и другими московскими врагами Шуйского. По почину Прокопия начинают действовать в Москве брат его Захар с товарищами[599]. Они явились к царю с требованием, чтобы он «положил посох царский», потому что из-за него кровь льется и земля пустеет. Шуйский отказался; тогда Захар Ляпунов и его единомышленники собрали у Серпуховских ворот бояр, дворян и торговых людей на совет и приговорили бить челом царю Василию, чтобы он царство оставил. Через два дня Захар Ляпунов с товарищами и монахами Чудова монастыря произвели насильно обряд пострижения Шуйского и его жены. Ляпуновская партия предлагала заменить его князем В. В. Голицыным. Но в Москве была и другая значительная сила, партия придворной знати. Она порешила избрать в цари польского королевича Владислава. Находясь между двух огней, между шайками второго Самозванца и польскими войсками, бояре и дворяне из двух зол выбрали меньшее и, боясь черни, сочувствовавшей Вору, присягнули Владиславу. Рассеялся этот страх, Вор был убит, выяснилось, что король Сигизмунд не дает сына на царство, а хочет себе подчинить Москву,— и началось среди русских людей движение против поляков. Это движение не нашло опоры в боярстве; бояре дорожили и кандидатурой Владислава, и условиями его избрания, ограничивавшими его власть[600]. Центральным деятелем в национальном движении против господства иноземцев выступали патриарх Гермоген, но еще раньше его призыва стал самостоятельно действовать Прокопий Ляпунов. Под его команду сходятся к Москве служилые люди и ополчения из разных городов. Он попытался привлечь на «земскую» службу делу национальной самозащиты отряды, приставшие к Вору, казаков, холопов, крестьян, обещая крепостным людям волю, а казакам награду. Это касалось тех, кто уже был в ополчениях, оставшихся от рассеянных шаек Вора; их Ляпунов хотел видеть не врагами в тылу у себя, а союзниками в борьбе с поляками. Призыв имел успех. Все ратные люди, которые прежде служили второму Самозванцу, пришли со своим воеводой кн. Дм. Трубецким[601] помогать Ляпунову; пришли и казацкие отряды с Заруцким[602]. Так составилось ополчение 1611 года. Оно смотрело на себя не как на войско только, а как на своего рода «совет всей земли». Вожди назначали воевод по городам, раздавали поместья, распоряжались сбором денег. Для правильного ведения дел устроены были приказы. Преобладающее влияние принадлежало Ляпунову и дворянам, и это отразилось на мероприятиях по установлению порядка. Особое внимание обращено было на вопросы служилого землевладения. Старались, по возможности, восстановить тот порядок, который сложился в Московском государстве к концу XVI века. Но именно недовольство этим порядком было силой, которая вызвала к восстанию низшие слои населения, пошедшие за первым Лжедмитрием, за Болотниковым, за Тушинским Вором и теперь стоявшие в ополчении рядом с Ляпуновым. Он повторил свою ошибку 1606 г., вступив в союз с врагами того порядка, на восстановление которого поднялся. Начали казаки «над Прокофьем думать, как бы его убить». Летописец рассказывает, что казаки с ведома своих начальников «написали грамоту от Прокофья по городам, что будто велено казаков по городам побивати и руку его подписаша». Грамоты эти один из атаманов принес в казачий круг, вызвали Ляпунова для объяснений и там его убили. И были его убийцами, говорил позднее князь Пожарский, «старые заводчики всякому злу, атаманы, казаки и холопы боярские». Ополчение распалось. Казаки взяли верх, и в подмосковном лагере настала такая смута, что дворянское войско разошлось, оставив одних казаков продолжать осаду польского гарнизона.
9. МАРИНА МНИШЕК [603]
Женщина, в начале XVII века игравшая такую видную, но позорную роль в нашей истории, была жалким орудием той римско-католической пропаганды, которая, находясь в руках иезуитов, не останавливалась ни перед какими средствами для проведения заветной идеи подчинения восточной церкви папскому престолу.
"Марина была одна из нескольких дочерей Юрия Мнишка. Судя по старым портретам и современным описаниям, она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагою, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии. Мнишек свозил Димитрия в Варшаву и взял с последнего запись на очень выгодных для себя условиях. Названный Димитрий, именем св. Троицы, обещая жениться на панне Марине, наложил на себя проклятие в случае неисполнения этого обещания; кроме тех сумм, которые он обязывался выдать будущему тестю, он обещал еще, сверх всего, выслать своей невесте из московской казны для ее убранства и для ее обихода разные драгоценности и столовое серебро. Марине, будущей царице, предоставлялись во владение Новгород и Псков 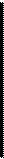 с тем, что сам царь не будет уже управлять этими землями, а в случае, если царь не исполнит такого условия в течение года, Марине предоставлял право развестись с ним. Наконец, в этой записи, которою названный царевич так стеснял себя для своей будущей жены, было выразительно сказано и несколько раз повторено, также в числе условий брака, что царь будет промышлять всеми способами привести к подчинению римскому престолу свое Московское государство. Таким образом, будущая царица принимала в глазах католиков высокое, апостольское призвание[604].
с тем, что сам царь не будет уже управлять этими землями, а в случае, если царь не исполнит такого условия в течение года, Марине предоставлял право развестись с ним. Наконец, в этой записи, которою названный царевич так стеснял себя для своей будущей жены, было выразительно сказано и несколько раз повторено, также в числе условий брака, что царь будет промышлять всеми способами привести к подчинению римскому престолу свое Московское государство. Таким образом, будущая царица принимала в глазах католиков высокое, апостольское призвание[604].
В ноябре 1605 года дьяк Афанасий Власьев[605], отправленный послом в Польшу, заявил Сигизмунду о намерении своего государя Сочетаться браком с Мариною в благодарность за те великие услуги и усердие, какие оказал ему сендомирский воевода. Во время обручения, 12-го ноября, Власьев, представлявший лицо государя, удивил поляков своим простодушием и своими московскими приемами.
Благоговение его к будущей своей государыне было так велико, что он не решился надеть, как следовало, обручальное кольцо и прикоснуться обнаженной рукой до руки Марины, После обручения был обед, а потом бал. Марина — говорит один из очевидцев — была дивно хороша и прелестна в этот вечер в короне из драгоценных камней, расположенных в виде цветов. Московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми, изящными движениями и роскошными черными волосами, рассыпанными по белому серебристому платью, усыпанному каменьями и жемчугом. Посол не танцевал с нею, говоря, что он недостоин прикоснуться к своей государыне. Но после танцев этого посла поразила неприятная для московского человека сцена. Мнишек подвел дочь к королю, приказал кланяться в ноги и благодарить короля за великие его благодеяния, а король проговорил ей поучение о том, чтоб она не забывала, что родилась в Польском королевстве, и любила бы обычаи польские. Власьев тогда же заметил канцлеру Сапеге, что это оскорбительно для достоинства русского государя.
Папа[606] заботился о том, чтобы сделать Марину своим орудием, и написал ей письмо, в котором, поздравляя с обручением, выражался так: «Теперь-то мы ожидаем от твоего величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Ты, вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение св. апостольской церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело».
Марина, со множеством сопровождавших ее лиц, переехала границу 8 апреля. Паны ехали не на короткое время и надеялись попировать на славу. Мнишек вез за собой одного венгерского[607] несколько десятков бочек. Тысячи московских людей устраивали для них мосты и гати. Везде в Московской земле встречали Марину священники с образами, народ с хлебом-солью и дарами. 3-го мая Марина самым пышным образом въехала в столицу. Народ в огромном стечении приветствовал свою будущую государыню..Посреди множества карет, ехавших впереди и сзади и нагруженных панами и паньями, ехала будущая царица, в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными каменьями. Звон колоколов, гром пушечных выстрелов, звуки польской музыки, восклицания, раздававшиеся разом и по-великорусски, и по-малорусски, и по-польски, сливались между собою. Едва ли еще когда-нибудь Москва принимала такой шумный праздничный вид. Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собою залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, роскошные надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. Но то был день обольщения; ложь была подкладкою всего этого мишурного торжества.
Марина с первого раза не сумела переломить себя настолько, чтобы скрыть неуважение к русским обычаям. Прискорбно ей было, что ее лишали возможности слушать католическую обедню; ее тяготило то, что она должна была жить в схизматическом монастыре[608]. Царь угощал у себя родственников невесты, а невеста должна' была из приличия сидеть в монастыре, но чтоб ей не было скучно, царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись: неслыханное для них было явление — песни и музыка в святой обители; и Димитрий, и Марина отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием.
Между тем у духовенства поднялся вопрос: следует ли допустить к бракосочетанию Марину-католичку или необходимо крестить ее в православную веру как нехристианку? Царь, верный своему всегдашнему взгляду, что все христианские религии равны и следует предоставить веру внутренней совести каждого, требовал от своей жены только наружного исполнения обрядов и уважения к церкви^ патриарх Игнатий потакал ему; но поднялся тогда казанский мит-', рополит Гермоген и коломенский епископ Иосиф, оба суровый1 ревнители православия, оба ненавистники всего иноземного. Диа митрий выпроводил Гермогена в его епархию. В четверг, 8 мая, назначен был день свадьбы.
По русскому обычаю не венчались накануне постных дней? правда, это собственно не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай: царь не хотел оказывать уважения к обы-
чаям.
Совершилось венчание. Потекли веселые дни пиров и праздников. Марина, хотя и являлась в русском платье, когда принимала-поздравления от русских людей, но предпочитала польское, и сам царь одевался по-польски, когда веселился со своими гостями.
Но настало 16-е мая...[609] Марину, обобранную дочиста, отослали к отцу и приставили стражу. Царь был убит; труп его, выставленный на Красной площади, был до такой степени обезображен, что нельзя было распознать в нем черт человеческого лица, В августе 1606 года Марину с отцом, братом, дядею и племянником Мнишка послали в Ярославль. Там они пребывали под стражею до июня 1608 года.
Между тем совершились важные перевороты. Болотников именем спасшегося в другой раз от смерти Димитрия успел поднять на ноги русский народ; Шуйский едва-едва удержался, но Димитрий, которого все ждали, не явился; народ, утомившись ожиданием, оставил Болотникова; Шуйский, после упорной борьбы, уничтожил его. Но вдруг новый названный Димитрий явился в Стародуб. Об его личности сохранились до крайности противоречивые известия[610]. По всему видно, он был только жалким орудием партии польских панов, решившейся во что бы ни стало произвести смуту в Московском государстве.
Дела нового самозванца пошли успешно. Весть о том, что Димитрий жив, быстро разнеслась по Руси. Поляки с ним двинулись — и город сдавался за городом. Взяты были Карачев, Брянск, Орел. Выступивши весною из Орла, самозванец со своею шайкою разбил войско Шуйского под Болховым и беспрепятственно дошел до самой Москвы. Первого июля он прибыл к Москве, а на другой день поляки заложили лагерь в восьми верстах от Москвы, в селе
Тушине, между Москвою-рекою и впадавшею в нее рекою Всходнекг[611].
В это время Шуйский, после двухлетних недоразумений и споров, заключил с польскими послами перемирие на три года и одиннадцать месяцев. По этому перемирию всех задержанных поляков следовало отпустить и дать все нужное до границы. Мнишек как-то успел дать знать в Тушино, что они едут в Польшу, с тем, чтобы их перехватили на дороге. Так как поляки наверно не знали, согласится ли Марина признать обманщика за прежнего мужа, то отправили погоню только для того, чтобы русские повсюду узнали, что царь посылает за женою.
Мнишек нарочно ехал медленно, так что 16-го августа его нагнали под деревнею Любеницами, уже недалеко от границы. Провожатые разбежались. Марина, страшась за неизвестность своей судьбы, отдалась под защиту Яна Сапеги[612], который с 7000 удальцов шел к Тушину; Сапега уверил Марину, что муж ее действительно спасся, и повез ее с собою. Марина не видала трупа названного царя Димитрия, поверила и так была рада, что, едучи в карете, веселилась и пела. Тогда к ней подъехал князь Мосальский и сказал: «Вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете, оно бы кстати было, если бы вы в Тушине нашли вашего мужа; на беду, там уже не тот Димитрий, а другой»[613]. Марина стала вопить и плакать.
Марину 1-го сентября привезли против воли в Тушино. Но Мнишек вместе с Рожинским[614] и Зборовским[615] отправился к «вору»[616], и тот обещал ему 100 000 руб. и Северскую землю с четырнадцатью городами. Мнишек продал свою дочь.
Вор на другой день приехал к Марине. Марина отвернулась от него с омерзением. Паны принуждены были приставить к ней стражу. Но, при помощи нежного родителя, наконец уговорили Марину. К этому присоединились убеждения какого-то иезуита, который уверял, что с ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви.
На другой день Сапега с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор; там посреди многочисленного войска мнимые супруги бросились друг другу в объятья и благодарили Бога за то, что дал им соединиться вновь.
Признание Мариною нового Димитрия своим мужем сильно подняло его сторону. Русские города с землями один за другим признавали его. Южные области, кроме Рязани, уже прежде были за него; после того, как разошлась весть о соединении его с Мариною, сдались ему: Псков, Иван-город, Орешек, Переяславль-Залесский, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Тверь, Бежецкий Верх, Юрьев, Кашин, Торжок, Белоозеро, Вологда, Владимир, Шуя, Балахна, Лух, Гороховец, Арзамас, Романов и другие. Новгород едва держался. Сапега осаждал Троицу, но не мог взять, несмотря ни на какие усилия. В таком положении были дела вора несколько месяцев. Тушинский лагерь беспрестанно наполнялся и поляками, и русскими. В нем было до 18.000 конных и 2000 пеших поляков, более 40 000 разных казаков: и запорожских, и донских, и неопределенное число московских людей. Сами предводители не знали, сколько их было, потому что одни убывали, другие прибывали. Главная сила вора состояла тогда в казачестве, которое стремилось к ниспровержению прежнего порядка и установлению казачьей вольности.
С наступлением осени начались постройки; для жилья вырыли землянки и в них устроили печи, для лошадей сплели из хвороста с соломою загоны. Те, которые были познатнее и побогаче, ставили себе избы. Особым обозом от военного стояли торговые люди, которых было до трех тысяч. Отовсюду привозили печеный хлеб, масло, гнали быков, баранов, гусей; водки и пива было изобильно. Поляки приказывали русским в окрестностях курить вино[617], варить пиво и доставлять в лагерь.
Поляки и русские «воры», которых отправлял Рожинский по городам, скоро вооружили против себя русских. Сначала вор обещал тарханные грамоты, освобождавшие русских от всяких податей; жители вскоре увидели, что им придется давать столько, сколько захотят с них брать. Наконец, поляки и русские сами собою составляли шайки, нападали на села и неистовствовали над людьми: для потехи истребляли они достояние русского человека, убивали скот, бросали мясо в воду, насиловали женщин и даже недорослых девочек. Были случаи, что женщины, спасаясь от бесчестия, резались и топились на глазах злодеев, а другие бежали от насилия и замерзали по полям и лесам. Поляки умышленно оказывали пренебрежение к святыне, загоняли в церкви скот, кормили собак в алтарях.
Такие поступки ожесточили народ; уверенность в том, что в Тушине настоящий Димитрий, быстро исчезла. Спустя три месяца после признания Тушинского вора города с землями одни за другими присягали Шуйскому, собирали ополчения; началась народная война; стали убивать, хватать и топить тушинцев. Из Тушина посылались для усмирения народа отряды, которые своими злодействами еще более озлобили народ против вора. Между тем, с севера шел Скопин с шведскою помощью, одерживал верх над тушинцами и своими успехами ободрял народное восстание, а с Волги пришло к нему на помощь другое ополчение, Шереметева[618].
Сигизмунд подступил к Смоленску осенью 1609 года и требовал сдачи, прямо заявляя о своем намерении овладеть Московским государством. В ноябре он послал депутатов к войску вора, в Тушино, с тем, чтобы отвлечь поляков от самозванца и привлечь их к своему войску.
Поляки в глаза обзывали самозванца обманщиком и вором и кричали на него так, что он прятался от них. Не приставая пока к королю всем составом войска, находившегося в Тушине, поляки поодиночке переходили на его сторону. Бояре, находившиеся с вором, вместе с митрополитом Филаретом Романовым, которого, взявши в Ростов силою, поневоле держали в Тушине, отрекались разом и от самозванца, и от Шуйского и заявляли желание отдаться Сигизмунду, с тем только, чтобы православная вера была сохранена ненарушимо.
Когда вор увидел, что ему нет надежды и его могут не сегодня-завтра лишить свободы,— переоделся в крестьянское платье, бежал из табора в Калугу,
Сначала бегство его произвело большое волнение в таборе. Общее волнение всего лучше утишили бывшие в Тушине московские бояре, объявив, что они желают иметь царем Сигизмундова сына, Владислава. Поляки решили послать к своему королю депутацию с тем, чтобы выторговать побольше выгод, а московские люди послали из своей среды митрополита Филарета и боярина Салтыкова с товарищами, в числе сорока двух человек, просить на царство Владислава.
Бояре уехали к Сигизмунду просить Владислава; депутаты от тушинского войска поехали торговаться со своим королем о вознаграждении; они не забыли Марины, и король обещал ей дать удел в Московском государстве.
Но в тушинском лагере началось полное разложение: вор из Калуги требовал казни Рожинского и других, приказывал доставить в Калугу для казни изменников бояр, обратившихся к польскому королю, убеждал служивших ему поляков ехать в Калугу вместе с Мариною и расточал разные обещания.
Тогда Марина оставила у себя в шатре письмо такого содержания: «Без родителей, без кровных, без друзей и покровителей мне остается спасать себя от последней беды, уготовляемой мне теми, 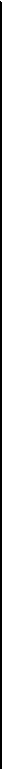 которые должны были бы оказывать защиту и попечение. Меня держат, как пленницу. Негодяи ругаются над моею честью; в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам, за меня торгуются, замышляют отдать в руки того, кто не имеет ни малейшего права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, свидетельствуюсь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. Бывши раз московскою царицею, повелительницею многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтинки, никогда не захочу этого. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, оно будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидают».
которые должны были бы оказывать защиту и попечение. Меня держат, как пленницу. Негодяи ругаются над моею честью; в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам, за меня торгуются, замышляют отдать в руки того, кто не имеет ни малейшего права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, свидетельствуюсь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. Бывши раз московскою царицею, повелительницею многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтинки, никогда не захочу этого. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, оно будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидают».
Ночью с 16-го на 17-е февраля Марина ускакала из Тушина, переодетая в гусарское платье, с одною служанкою и несколькими казаками. Путь ее лежал в Калугу.
Недолго оставался вор с Мариною в Калуге, живя сначала в монастыре, а потом в построенном для него дворце. Скопина не стало. Польский гетман Жолкевский[619] разбил наголову войско Шуйского. Народ явно не терпел своего царя. Как только весть об этом дошла в Калугу, вор с Мариною быстро двинулся к Москве. Сапега предводительствовал его полчищами. Вор взял Боровск. Кашира и Коломна сдались добровольно. Полчище подошло к Москве. Марина поместилась в монастыре Николая на Угреше[620], а самозванец 11-го июня расположился в селе Коломенском. Это было в то время, когда с другой стороны шел к столице победитель войск Шуйского, Жолкевский.
Василий был сведен с престола. Гетман Жолкевский расположился с войском на Девичьем поле, на стороне[621], противоположной той, где стоял вор.
Бояре московские стали умолять Жолкевского, чтобы он вместе с московскими людьми расправился окончательно с вором. Жолкевский обогнул Москву и шел на битву. Сапега вывел против него свое войско. Вор ушел к жене в Угрешский монастырь. Но прежде, чем дошло до битвы между Жолкевским и Сапегою, оба предводителя съехались между собою в виду двух войск. Жолкевский успел склонить Сапегу обещаниями удовлетворить служивших у вора поляков, и Сапега дал слово отступить от самозванца и Марины, но с тем, однако, чтобы называвший себя Димитрием был обеспечен. Вожди разъехались, и вечером, в тот же день, Жолкевский послал Сапеге письменное условие, в котором обещал именем короля дать самозванцу и Марине в удел Самбор или Гродно.
Когда представили вору и Марине условия, предложенные Жолкевским, Марина сказала польским депутатам: «Пусть король Си-гизмунд даст царю Краков, а царь из милости уступит ему Варшаву». Вор прибавил: «Лучше я буду служить где-нибудь у мужика и добывать трудом кусок хлеба, чем смотреть из рук его польского величества».
Когда такой ответ передан был Жолкевскому, гетман, с дозволения бояр, двинулся с войском через Москву, с тем, чтобы захватить вора и Марину в монастыре. Но какой-то изменник москвич сообщил об этом вору заранее. Вор с Мариною и ее женской прислугою, не успевши ничего захватить с собою, убежал в Калугу в сопровождении отряда донцов под начальством атамана Заруцкого. К концу 1610 года взаимные недоразумения между поляками и русскими возросли уже до сильной степени. Во многих городах не хотели признавать королевича и признавали Димитрия не потому, чтобы в самом деле верили в последнего, а потому, чтобы иметь какой-нибудь значок против поляков[622]. Но в декабре с вором случилось трагическое событие. Касимовский царь Ураз-Махмет[623] пристал к вору еще в Тушине, а когда вор убежал из Тушина, он приехал служить Жолкевскому, но его сын и бабка поехали за вором в Калугу. Касимовскому царю понравилось у поляков, и он, поживши несколько недель под Смоленском, отправился в Калугу с намерением отвлечь сына от вора. Вор пригласил касимовского царя на охоту и в присутствии двух приверженцев своих убил его собственноручно. Тело было брошено в Оку. Вор после этого кричал, что касимовский царь хотел убить его. Но за касимовского царя явился мстителем его друг, крещеный татарин Петр Урусов[624]. Он упрекнул вора убийством касимовского царя. Вор посадил Урусова в тюрьму и держал шесть недель, а в начале декабря 1610 г. по просьбе Марины простил, обласкал и приблизил к себе. 10-го декабря вор вместе с Урусовым и несколькими русскими и татарами отправился на прогулку за Москву-реку. Некогда трезвый, в это время вор страшно пьянствовал и, едучи в санях, беспрестанно кричал, чтобы ему подавали вино. Урусов, следовавший за ним верхом, ударил его саблею, а меньшой брат Урусова отсек ему голову. Тело раздели и бросили на снегу. Урусовы с татарами убежали. Русские, провожавшие вора, прискакали в Калугу и известили Марину.
Марина, ходившая тогда на последних днях беременности, привезла на санях тело вора и ночью, с факелом в руке, бегала по улицам, рвала на себе волосы и одежду, с плачем молила о мщении. Калужане не слишком чувствительно отнеслись к ней. Она обратилась тогда к донцам. Ими начальствовал Заруцкий: он воодушевил казаков; они напали на татар и перебили до 200 человек. Через несколько дней Марина родила сына, которого назвали Иваном. Она требовала ему присяги как законному наследнику русского престола.
Смерть вора лишила многие города знамени, под которыми они сопротивлялись полякам, и это послужило к возрождению нравственной силы народа. Прокопий Ляпунов взывал к русскому народу во имя спасения отечества уже без всякого обмана, и русские люди присягали стоять за православную веру и Московское государство с тем, чтобы впоследствии, очистивши свою землю от поляков и литовцев, служить тому царю, кого, по Божьему соизволению, изберут всею землею. Но предводитель восстания принимал к себе всех без исключения, лишь бы только было побольше ратной силы; поэтому он не отказал и Заруцкому, и Трубецкому, когда они изъявили согласие служить русскому делу. Заруцкий, выехавши из Калуги с Мариною, оставил Марину в Туле, а сам прибыл в Рязань, где условился с Ляпуновым, возвратился в Тулу и стал собирать казаков. Ляпунов был руководителем всего дела, и ни Заруцкий, ни Марина не смели заикнуться о присяге малолетнему сыну Марины. Заруцкий не терпел Ляпунова и вооружал против него казаков. Еще более не терпела его Марина. 25-го июля Ляпунов был убит казаками.
С тех пор Марина смело уже могла заявлять о правах своего сына. Заруцкий и Трубецкой провозгласили этого младенца наследником престола, присягнули ему, требовали от русских людей ему верности и именем его бились с поляками. Они со своим полчищем стояли под Москвою; Марину поместили в Коломне. Казацкие шайки свирепствовали.по Русской земле. Между тем в Астрахани убийца Тушинского вора Урусов еще подставил какого-то Димитрия, а в Иван-городе провозгласил себя Димитрием вор Сидорка, бывший московский дьякон, был признан в Пскове и утвердился в этом городе.
В октябре 1612 года Москва была освобождена от поляков. В феврале 1613 года съехавшиеся в Москву для избрания царя выборные люди прежде всего заявили единодушно, чтобы отнюдь не выбирать законопреступного сына Марины. На престол был избран Михаил Федорович Романов; Заруцкий и Марина между тем рассылали грамоты, требуя присяги малолетнему сыну Марины Ивану Ди-митриевичу. Новый царь назначил против Заруцкого главным воеводою князя Ивана Никитича Одоевского[625]. Одоевский двинулся против него с войском. Под Воронежем в конце 1613 года произошла кровопролитная битва, продолжавшаяся два дня. Воровское полчище было разбито, потеряло весь свой обоз и знамена.
Заруцкий с Мариною убежали в Астрахань; там нашли они последний притон. Они убили астраханского воеводу Хворостини-на[626], склонили на свою сторону нагайских татар и затевали широкое дело: вооружить против Руси персидского шаха Аббаса[627], втянуть в войну и Турцию, поднять волжских казаков, возбудить всех удальцов на Руси, привыкших к смутам и потому недовольных восстановлявшимся порядком.
В марте снаряжено было большое войско под начальством того же князя Одоевского, а в товарищи ему придан был окольничий Семен Головин, шурин и сподвижник Михаила Скопина-Шуйского[628].
Стрельцы осадили воров. Казаки не ожидали гостей, не вступили в битву со стрельцами, связали Заруцкого и Марину и выдали с сыном, Марину везли связанною. В таком виде прибыла Марина в Москву, куда восемь лет тому назад въезжала с таким великолепием, надеясь там царствовать.
Четырехлетнего сына Марины повесили всенародно за Серпуховскими воротами; Заруцкого посадили на кол. Марина умерла в Москве[629], в тюрьме, от болезни и «с тоски по своей воле».
10. ПРИГЛАШЕНИЕ МОСКОВСКИМИ БОЯРАМИ ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВИЧА НА РУССКИЙ ПРЕСТОЛ [630]
По благословению и по совету святейшего Ермогена, патриарха Московского и всея Руссии, и митрополитов, и архиепископов, и епископов, и архимандритов, и игуменов, и всего освященного собора[631] и по приговору бояр и дворян и дьяков думных, и стольников, и торговых людей, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых людей великого Московского государства мы бояре князь Федор Иванович Мстиславский, да князь Василий Васильевич Голицын, да Федор Иванович Шереметев, да окольничий князь Данило Иванович Мезетской, да думные дьяки Василий Телепнев, да Томило Луговской[632], сьезжалися великого государя Жигимонта[633] короля Польского и великого князя Литовского с Станиславом Желтковским с Жолкви, с воеводою, гетманом короны польской и говорили о обираньи государском на Владимирское и Московское и на все великие государства Российского царствия и приговорили на том: что послати бити челом к великому государю к Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, и к сыну его к королевичу ко Владиславу Жигимонтовичу[634], чтоб великий государь Жигимонт король пожаловал, дал на Владимирское и Московское и на все великие государства Российского царства сына своего Владислава королевича; о чем святейший Ермоген патриарх Московский и всея Руссии, и весь освященный собор Бога молят, и Владислава королевича на Российское государство хотят с радостию. А мы все бояре и дворяне, и дьяки думные, и приказные люди, и торговые люди, и стрельцы, и казаки, и всех чинов служилые люди Московского государства великому государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу и детям его целовали святой животворящий крест Господень на том, что нам ему вовеки служити, как прежним прирожденным государям. А на которой мере государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу быти на Российском государстве, и о том мы бояре дали гетману письмо по статьям, и на те статьи дал нам боярам гетман запись и утвердил своею рукою и печатью, и на той записи целовали крест гетман и-все полковники за великого государя Жигимонта короля; а мы бояре дали гетману сее запись о тех же статьях: королевичу Владиславу Жигимонтовичу, колико придет в царствующий град Москву, венчать на государство царским венцом по прежнему чину, А будучи королевичу Владиславу Жигимонтовичу на Российском государстве, церкви Божий по всем городам и селам чтити я от разоренья оберегати и святым Божиим иконам и чудотворным мощам поклонятися и почитати, костелов и иных вер молебных храмов в Московском государстве нигде не ставити; а что говорил гетман, чтоб в Москве хотя б один костел быти мог для людей польских и литовских, которые при государе королевиче мешкати[635] будут, о том государю королевичу с патриархом и со всем духовным чином и с боярами и со всеми думными людьми говорйти; а христианские наши православные веры греческого закона ничем не рушати и не бесчестити и иных никаких вер не вводит^ чтоб наша святая православная вера греческого закона имела свою целость и красоту по-прежнему. А что дано церквам Божиим и в монастыри вотчин или угодий, не отъимати. Боярам и дворянам, и приказным всяким людям у всяких государственных дел быти по-прежнему; а польским и литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в воеводах и в приказных людя:, ле быти. Прежних обычаев и чинов не переменяти и московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцы не понижати. А жалованье денежное и вотчины, кто что имел, тому быти по-прежнему. Суду быти по прежнему обычаю и по судебнику Российского государства, а будет похотят в чем пополнити для укрепления судов, и государю на то поволити с думою бояр и всей земли. А кто винен будет, того по вине его казнити, осудивши наперед
с бояры и с думными людьми; а жены, дети, братья, которые того дела не делали, тех не казнити и вотчин у них не отъимати; а не сыскав вины и не осудивши судом всеми бояры, никого не казнити. Доходы государские с городов, с волостей, также с кабаков и с тамог[636] велети государю сбирати по-прежнему; не поговоря с бояры, ни в чем не прибавливати. А которые города от войны запустели, и в те городы и уезды послати государю описати и дозирати, много ль чего убыло, и доходы велети имати по описи и по дозору; а на запу-стошенные вотчины и поместья дати льготы, поговоря с бояры. Купцам торговати повально по-прежнему. А про вора, что называется царевичем Дмитрием Ивановичем, гетману промышляти с нами, бояры, как бы того вора изымати или убити; а как вор изымай или убит будет, и гетману со всем королевским войском от Москвы отойти. А только вор Москве похочет какое воровство или насильство чинити, и гетману против того вора стояти и биться с ним. И во всем королевичу Владиславу Жигимонтовичу делати по нашему прошенью, и по договору послов с великим государем Жигимонтом королем, и по сей утверженной записи. А о крещеньи, чтоб государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу пожаловати креститися в нашу православную христианскую веру и быти в нашей в православной христианской греческой вере; и о иных недоговорных статьяхи о всяких делах как бы меж государьми и их государствы о всем договор и докончание учинилось. А для утверждения, к сей записи мы бояре печати свои приложили, а дьяки руки свои приписали[637].
11. ИВАН СУСАНИН [638]
Исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо больше значения, их качества идеализируются. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений.
Историческая личность делается как будто бы типом стремлений известной эпохи, а в самом деле выражением того, что давней эпохе хочет дать новое время. К таким личностям принадлежит в русской истории Иван Сусанин, спаситель избранной династии Романовых в лице их первого венценосного прародителя, — идеал гражданского подвижничества, до которого только мог возвыситься крестьянин в самодержавном государстве; личность, принявшая венец бессмертия и в думе поэта, и в превосходном музыкальном произведении[639].
Представлять себе Ивана Сусанина спасителем царя и отечества, благоговеть пред его высоким подвигом самоотвержения мы привыкли со школьной скамьи, ибо нам об этом сообщали учебники.
Когда мы захотим обратиться к первоначальным известиям, то прежде всего поразит нас то, что ни в русских, ни в иностранных тогдашних сочинениях, несмотря на множество подробностей, хорошо очерчивающих эту эпоху, нет ни слова об этом происшествии. Единственный источник, откуда взят этот, теперь общеизвестный и многознаменательный для нас факт,— грамота, данная по совету и прошению матери царя Михаила 1619 года ноября 30 крестьянину Костромского уезда, села Домнина, Богдашке Собинину, где говорится:
«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом 121 году[640] были на Костроме и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те норы мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти». Царская милость, оказанная зятю Сусанина, состояла в том, что по жалованной грамоте велено «половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашко, ныне живет, во всем обелить[641] и детям их и внучатам й во всей родне неподвижно».
В 1633 году дана была другая грамота вдове Богдана Собинина, дочери Ивана Сусанина Антониде с детьми ее. Царь дал Собининым вместо наследственных Деревнищ пустошь Коробово. В этой грамоте история Ивана Сусанина повторяется почти дослова так же, как и в прежней грамоте.
В 1691 году, от имени царей Иоанна и Петра, выдана была еще подтвердительная грамота. В подтвердительной грамоте Екатерины II декабря 8-го 1767 г. повторяется то же.
Наконец, и в последней из жалованных храмот Собининым 1837 г. от императора Николая Павловича, нет ничего нового против прежнего.
Вот все, что проходило путем официальным об этом событии в течение более двух веков. Источник его единственный — первая грамота 1619 года.
До XIX века, сколько известно, никто не думал видеть в Сусанине спасителя царской особы и подвиг его считать событием исторической важности.
В 1804 году в «Географическом словаре» Щекатова[642], в 3-м томе, под статьею «Пустошь Коробова» рассказывается следующее:
«Когда избрание российского государя упало на боярина Михаила Федоровича Романова, тогда гонимые из всех российских стран поляки, уведав, что избранный государь находился не в городе Костроме, а в отчине своей, почли сей случай к погублению его удобнейшим. Итак, собравшиеся в немалом числе бегут прямо к селению, не сомневаясь найти в нем молодого боярина. По прибытии в оное, встречается с ними дворцового села Домнина крестьянин Иван Сусанов; хватают его и спрашивают о месте пребывания искомой особы.
Поселянин, приметив на лицах начертанное злонамерение, отговаривается незнанием; но поляки его мучат и отягчают несносными ранами; однако все сие не сильно было принудить к открытию столь важной тайны. Наконец, по претерпении многих мучений от сих злодеев, страдалец лишается жизни, коею, однако ж, спасает жизнь своего государя. По вступлении на престол царь Михаил Федорович в награждение за оказанную сим крестьянином верность даровал потомству его в вечный род вольность пользования, пожаловал землею и уволил от всех податей, присовокупив к тому, чтоб они по делам их, кроме дворца, нигде судимы не были. Высокие преемники его престола всегда подтверждали сии данные им преимущества особливыми грамотами, чем неоспоримо доказывается верность сего анекдота[643]».
По последнему выражению незнакомый с грамотами мог в самом деле подумать, что все, описанное в рассказе Щекатова, изложено в этих грамотах, тогда как здесь заключаются обстоятельства, не только не находящиеся в первой грамоте, единственном источнике -об этом событии, но еще противны ей. В грамоте царской говорится, что царь был тогда на Костроме, а у Щекатова он не в Костроме, а в Домнине. Повод к такому искажению действительности очевиден: Кострома был город укрепленный; Михаил Федорович был в нем безопасен. А если Михаил Федорович был безопасен на Костроме (собственно он находился в Ипатьевском монастыре), то Сусанину не из-за чего было подвергать себя мучениям и не объявлять полякам, где царь. Для отстранения такой несообразности кто-то и выдумал, будто царь Михаил Федорович находился тогда в селе Домнине. Рассказ Щекатова несообразен с возможностью течения самого дела. Если поляки пришли в село Домнино, то уж, конечно, нашли в этом селе не одного Сусанина. В таком случае они пытали бы и мучили не одно лицо, а многих; тогда и грамота дана была бы не одному семейству, а многим. Ясно, что, не довольствуясь коротким известием о событии, изложенном в грамоте, хотели дополнить эту скудость плодами воображения, да не сумели. Но у Щекатова еще первый шаг: гораздо далее его пошел в вымыслах историк Глинка[644].
В его «Истории» повествуется следующее:
«Поляки, узнав о единодушном избрании на престол Михаила Федоровича Романова, решились его погубить. В это время Михаил находился в костромском своем поместье. Многочисленное скопище врагов туда устремилось. Уже убийцы недалеко были от нареченного царя, но Бог оградил его непобедимой стражей — любовью и сердцами россиян. Враги, не зная куда идти, остановили встретившегося им крестьянина. Он назывался Иваном Сусаниным; расспрашивали они о месте пребывания Михаила. Остроумный Сусанин, проникнув коварство врагов, сказал: «Ступайте за мной, я проведу вас в царское поместье». Сусанин ведет их совсем в противоположную сторону, по лесам и по снегам, К полуночи очутились они в непроходимом лесу. Злодеи возроптали на Сусанина. «Ты обманул нас»,— воскликнули они. — «Не я,— отвечал Сусанин,— вы сами себя обманули. Ложно мыслили вы, что я выдам вам нареченного государя. Вот голова моя. Делайте со мной, что хотите». Сусанин умер в лютых муках. Вскоре и убийцы его погибли».
Вначале Глинка сходится с Щекатовым, ибо приводит Михаила в Домнино. Далее Глинка уже совершенно независим от Щекатова.
Рассказ Глинки несравненно правдоподобнее щекатовского, но зато еще произвольнее. Необходимо было произвесть Сусанина в звание спасителя царской особы, в идеал народной доблести: Сусанин берется вести поляков,. в Домнино, где находился царь, а заводит их в другую сторону. Вот уже из одного Сусанина — Сусанина грамоты сделалось два различных Сусанина: Сусанин Щекатова и Сусанин Цяинки. Оба Сусанина действуют в разных местах и разными способами: щекатовский отличается своим подвигом в самом селе Домнине. Сусанин Глинки обязывается вести поляков в Домнино и ведет их в другое место; первое, как мы сказали, и нелепо, и противно грамоте; второе, при большей художественности построения, все-таки не сходится с грамотою: царь Михаил сам говорит в еврей грамоте, что он был в Костроме и при том с своею матерью, а не в Домнине. Но в Кострому Сусанин не мог вести поляков: это совершенно было бы неудобно. Что-нибудь одно: если поляки действительно приходили, то или их было много, или мало; но их никак не могло быть много, ибо об этом, как мы сказали, верно, что-нибудь сохранилось бы; а если мало — то что они могли сделать в Костроме? Тогда Сусанину не нужно было заводить ах в другое место: ему можно было исполнить желание поляков и вести их прямо в Кострому, а между тем только стоило дать знать в город — и враги попались бы сами в сети. Да притом в Кострому лежала торная дорога: тут не нужно было особых вожсй. Есть ли в грамоте что-нибудь похожее на то, что Сусанин был вожем прибывших поляков? Нет ни следа. Уместна ли при этом сказка о том, что он взялся их вести? Зашедши в Костромской уезд, польские и литовские люди не знали, где Михаил, следовательно, и не могли нуждаться в воже: им нужно было прежде узнать, где тот, кого им нужно, а потом уже искать туда пути. Так в грамоте и стоит: Сусанин погиб за то, что не сказал полякам, где царь. Чтобы допустить возможность такого анекдота, как у Глинки, надобно уничтожить силу грамоты, единственного источника об этом событии.
Между тем, с легкой руки Глинки, анекдот о том, что Сусанин завел поляков, искавших головы Михаила Федоровича, не туда, куда им было нужно,— анекдот этот сделался более или менее общепризнанным фактом.
Нет сомнения, что все, выдуманное через двести лет о Сусанине, не имеет никакого исторического основания, и единственным источником о нем остается первая грамота.
Уже выше мы заметили, что об этом происшествии нет ни слова у современных повествователей, как русских, так и иностранных. Летописцы наши того времени, довольно щедрые на рассказы, вовсе не упоминают об этом. Я имел под рукою много летописных списков, писанных в половине XVII столетия, и ни в одном нет и помина о Сусанине. Стало быть, даже через тридцать, пятьдесят или шестьдесят лет занимавшиеся историею своего отечества или вовсе не знали о сусанинском подвиге, или не считали его достойным того, чтобы о нем упоминать.
В речи, произнесенной митрополитом при венчании Михаила Федоровича, исчисляются все неправды и разорения, нанесенные поляками в России, и, между прочим, несчастия, которые мужественно переносил Михаил. Кажется, как бы здесь не упомянуть о таком важном злодействе и о явном небесном покровительстве над царем — однако, нет ничего! Стало быть, и в июне 1613 года никто не знал о сусанинском подвиге.
В 1614 году отправлен был с посольством в Польшу Федор Желябужский[645] для заключения мира; русские старались выставить на вид полякам, что только могли вспомнить — всякие обиды и оскорбления и разорения, нанесенные России. Чего лучше было бы в таком случае привести на память бесчестное посягательство на жизнь царя? Что могло лучше выставить полякам волю Божию, так чудесно сохранившую, в минуту опасности, царственного юношу рукою крестьянина? Что могло резче и сильнее говорить в пользу того, что русский народ единодушно не хочет чужеземной власти и силен крепостью и верностью, как не это самоотвержение народного человека, поселянина? Что красноречивее и убедительнее этого подвига могло заставить поляков оставить дальнейшие покушения на овладение московским народом? И, однако, нет ни слова ни о покушении польских и литовских людей на жизнь Михаила, ни о самопожертвовании Сусанина.
Грамота Богдашке Собинину дана почти через восемь лет после того времени, когда случилась смерть Сусанина. Есть ли возможность предположить, чтоб новоизбранный царь мог так долго забывать такую важную услугу, ему оказанную? Конечно, он о ней не знал. Это мы тем более имеем право признавать, что Михаил Федорович по восшествии своем на престол тотчас же награждал всех, кто в печальные годины испытания благоприятствовал его семейству. Неужели возможно, чтоб царь забывал про это столько лет? Грамота дана «по нашему царскому милосердию и по совету и прошению матери нашей, государыни великой старицы иноки Марфы Ивановны [646]». Эти слова заставляют подозревать, что коль скоро был совет и прошение, то, значит, представлялось какое-то побуждение — против дарования такой грамоты; по крайней мере, право Собинина на это пожалованье не представлялось очевидным.
Еще Соловьев, со свойственным ему беспристрастием, справедливо заметил, что в то время в краю Костромском не было поляков и что Сусанина поймали, вероятно, свои воровские люди, казацкие шайки, бродившие везде по Руси. Могло быть, что в числе воров, напавших на Сусанина, были литовские люди, но уж никак тут не был какой-нибудь отряд, посланный с политической целью схватить или убить Михаила. Это могла быть мелкая стая воришек, в которую затесались отсталые от своих отрядов литовские люди. 
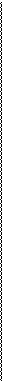 А такая стая в то время и не могла быть опасна для Михаила Федоровича, сидевшего в укрепленном монастыре и окруженного детьми боярскими.
А такая стая в то время и не могла быть опасна для Михаила Федоровича, сидевшего в укрепленном монастыре и окруженного детьми боярскими.
Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда казаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян («казаки, посланные в разные места на службу, берут укгзные кормы, да сверх кормов воруют, проезжих всяких людей по дорогам и крестьян по селам и деревням бьют, грабят, пытают, огнем жгут, ломают, до смерти побивают»). Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил обельную грамоту. Путь, избранный им, видим. Он обратился к мягкому сердцу старушки, а она попросила сына. Сын, разумеется, не отказал заступничеству матери. В тот век все, кто только мог, выискивал случай увернуться от тягла: закладывались за монастыри или за бояр; мотались по свету, увиливая от тягла; если было можно, выпрашивали себе льготы. Льгота от податей и повинностей вообще не была редкостью в Московском государстве.
Таким образом, в истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одною из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находился новоизбранный царь Михаил Федорович,— это остается под сомнением.
12. НАЧАЛО ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ [647]
 2013-12-28
2013-12-28 898
898








