Анатолий Георгиевич Алексин
Сева Котлов за полярным кругом
Алексин, Анатолий. Повести – 0

Анатолий Георгиевич Алексин
Сева Котлов за полярным кругом
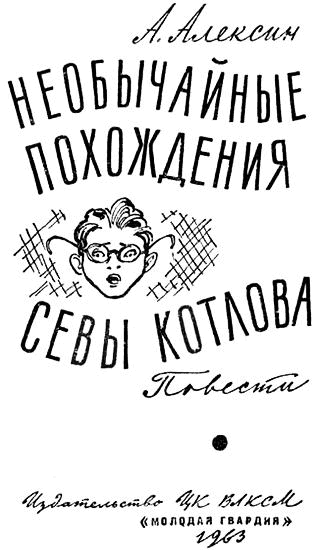
Все довольны, кроме Димы

Учителя литературы очень любят задавать домашние сочинения на тему «О чем я мечтаю». Эти сочинения мне всегда трудно писать, потому – что я мечтаю об очень многом и никак не могу решить, о какой же именно мечте написать. Помучившись немного за письменным столом, узнав на всякий случай, о чем мечтают мама, папа и старший брат Дима, и убедившись, что их мечты мне совсем не подходят, я сажусь и пишу то, что, я уверен, с удовольствием прочтет наша учительница. Я пишу, что очень хочу уехать за тысячи километров от Москвы, чтобы открыть залежи каких‑нибудь полезных ископаемых, или скелеты древних животных, или даже новые земли…
На самом же деле, когда мне приходилось летом уезжать из Москвы не за тысячи, а всего‑навсего за двадцать пять километров, в пионерский лагерь, я очень скучал по своему двору, и по своей улице, и по своим школьным товарищам. Но вот наступил день, когда мне со всем этим пришлось распрощаться.
Расскажу по порядку. Впервые я услышал о своем дальнем путешествии от соседки Генриетты Петровны. Наша соседка все новости узнавала первой. Она нигде не работала и поэтому успевала раньше других выскакивать на телефонные звонки, слушать и смотреть все передачи и даже объявления по радио и телевизору. Но только потом Генриетта Петровна передавала эти новости так, будто играла в «испорченный телефон».
Вот, например, если по радио обещали ясную, солнечную погоду, Генриетта Петровна обязательно говорила, что «возможны осадки в виде дождя и снега», – все наши соседи захватывали с собой плащи, зонтики и таскались с ними по жаре до самого вечера. Если моему старшему брату Диме звонил кто‑нибудь из его товарищей‑десятиклассников, Генриетта Петровна с улыбочкой сообщала, что его звал какой‑то приятный женский голос. Дима сразу начинал звонить своей Кире Самошкиной, а она в ответ только плечами пожимала (хотя этого по телефону, конечно, не было видно). Тогда Генриетта Петровна как ни в чем не бывало говорила: «Я не виновата, что у ваших приятелей женские голоса, а у приятельниц – мужские имена: ведь Кира – это же просто‑напросто Кирилл. Не так ли?» Ну, тут я даже соглашался с Генриеттой Петровной: Кира – действительно ужасное имя. Но об этом после…
А сейчас расскажу, как все получилось в тот самый памятный день. Я пришел из школы, и Генриетта Петровна сразу сообщила, что нам всем, то есть маме, папе, Диме и мне, как всегда, очень повезло и что мы уезжаем из Москвы куда‑то далеко, на юг. Я тут же сообразил, что мы, наверно, поедем далеко на север. Так оно и было на самом деле.
Вечером папа экстренно собрал семейный совет, который он называл «семейным квартетом», потому что нас было четверо. Ну, сперва все шло как в знаменитой басне Крылова: каждый «играл» по‑своему. Папа сказал, что он очень счастлив, потому что наконец‑то будет изучать вечную мерзлоту не в московских холодильниках и не по бумажкам, а, как папа сказал, «весомо, грубо, зримо». Это, оказывается (я уж потом узнал!), он употребил слова Маяковского.
Мама стала быстро‑быстро расставлять на столе посуду, хотя ужинать было еще рано: она была не так сильно счастлива, как папа. Одна тарелка даже упала на пол, но не разбилась. Мама как‑то очень громко, не своим голосом расхохоталась (представляю себе, какой был бы «хохот», если бы это случилось со мной! Но ведь маме все можно: и ронять и даже разбивать).
– Ничего‑о, – сказал ей папа, – не волнуйся: ты скоро привыкнешь к этой мысли…
И уже через полчаса мама действительно привыкла. Она стала так деловито вытаскивать чемоданы и собирать вещи, будто уже давным‑давно знала, что мы поедем в Заполярье, только никому об этом не говорила. Я заметил, что мама вообще очень быстро привыкала к папиным мыслям. Она часто не соглашалась с папой, но потом (я уж это точно заметил) поступала именно так, как он советовал. Хотя никогда в этом не признавалась…
Папа был невысокого роста, и мама, по ее словам, именно из‑за этого всю жизнь проходила на низких каблуках. Папа брил голову наголо, потому что ему кто‑то сказал, что от этого будут лучше расти волосы. Волосы лучше не росли, но зато папу называли не лысым, а бритым. Про маму же нашу во дворе говорили, что она «красивая, как артистка». Хотя мама работала всего‑навсего бухгалтером.
Мама при других всегда защищала и нахваливала папу, а дома поступала совсем наоборот. Однажды я слышал, как мама сказала папе: «Никогда не хвали ребят в их присутствии: это непедагогично!» Тогда я понял, что папу она, наверно, ругала в его присутствии, как это говорится, «в воспитательных целях».
Собирая вещи, мама сказала, например, что никто из папиного отдела, конечно, никогда в жизни не согласился бы ехать так далеко и что одного только папу могли уговорить на это. А через несколько минут на кухне она уверяла соседей, что все папины сотрудники очень хотели, прямо‑таки мечтали поехать в Заполярье, чтобы изучать там вечную мерзлоту, но что доверили это важное дело одному только папе. Короче говоря, мама собиралась в дорогу.
Я был еще счастливее папы! Еще бы: я поеду не куда‑нибудь на дачу и не в пионерский лагерь, а в город Заполярск, который так называется потому, что находится за самым Полярным кругом. На радостях я даже стал напевать известную песенку, которую чуть ли не каждый день передавали по радио:
Едем мы, друзья,
в дальние края!..
Дима поморщился, словно у него зубы заныли.
– Какой у тебя ужасный слух!..
– Я ведь не в театре выступаю.
– Да… Но мы вынуждены тебя слушать!
Папа сбоку внимательно посмотрел на Диму и сказал:
– Не ссорьтесь перед дорогой: это плохая примета.
Дима передвинул свои роговые очки с переносицы на кончик носа и опять отправил их на переносицу. Потом он принялся так усиленно чесать свой затылок, что мне, как всегда в подобных случаях, казалось, что он вот‑вот доскребется до самой коры головного мозга.
– Дело в том… Дело в том, – медленно, но твердо проговорил Дима, – что я никуда не поеду.
Папа даже привстал со стула.
– Как не поедешь?
– Так… очень просто. Не смогу поехать, – подтвердил Дима и вышел в коридор.
Папа с мамой удивленно переглянулись. И только один я во всей нашей семье, да, пожалуй, и во всем мире, знал, почему Дима не хочет ехать в Заполярск: он был влюблен в Киру Самошкину.
Я узнал об этом совершенно случайно. Если вы помните, как раз из‑за Димы я перестал вести свой дневник: Дима заглядывал в него, узнавал все мои мысли и самым коварным образом срывал мои самые лучшие, самые смелые планы, которые почему‑то считал баловством. Ну, а другие, которые ему нравились, тайно поддерживал… В общем мне это надоело, и я забросил свой дневник. Я вообще перестал доверять свои мысли и планы бумаге: пусть о них никто не знает заранее! И даже вот этот рассказ о нашей поездке в Заполярск я пишу через полтора года, когда уже начал учиться в седьмом классе. А в те дни, когда мы стали собираться в путь, я еще всего‑навсего был пятиклассником…
Так вот однажды я заметил, что Дима что‑то записывает по ночам в толстую «общую» тетрадку. Да, да, представьте себе: вскочит в одних трусиках – и сразу за стол! Берет ручку, раскрывает тетрадь, так задумчиво‑задумчиво закинет голову вверх, повздыхает немножко и что‑то там запишет. Потом пошепчет немного себе под нос и снова пишет…
Я решил заглянуть в эту тетрадку, раз уж Дима в мой дневник заглядывал. На самой первой странице было написано: «Посвящается К. С.».
Я даже вздрогнул: неужели Дима решил что‑то посвятить лично мне? А что ж такого особенного? Ведь я как‑никак его единственный брат! И, конечно, эта строчка, если ее расшифровать, обозначает: «Посвящается Котлову Севе». Целую минуту я был просто счастлив… А потом у меня на глазах даже слезы выступили, потому что на следующей странице я прочитал:
Мы с тобою всегда будем вместе!
Ты – мой самый надежный друг.
Я клянусь своим сердцем и честью:
Нет дороже людей вокруг!
«Ну, конечно, это про меня! – решил я. – Все абсолютно точно: «самый надежный друг» и «нет дороже людей вокруг!». Сердце у меня сильно‑сильно забилось. Я побежал в ванную комнату, где Дима в это время мылся, попросил открыть мне дверь и дрожащим, взволнованным голосом произнес:
– Димочка, мы обязательно всегда будем вместе! Ты тоже самый надежный друг! И я самый надежный… Так что ты не волнуйся, пожалуйста. Я тебя никогда не покину!

Дима, завернувшись в мохнатое полотенце, посмотрел на меня, как на сумасшедшего. И это показалось мне странным. Я поскорей вернулся в комнату и прочитал следующее стихотворение, которое начиналось такой строчкой: «Я скучаю по тебе всегда…»
И тут я слегка засомневался: может, я все‑таки не совсем верно расшифровал эти буквы – «К. С.»? Ну в самом деле, зачем же Диме обо мне скучать, если я у него всегда под боком? И даже иногда мешаю ему готовить уроки и решать шахматные задачи, о чем Дима прямо так и говорит, и не стихами, а в довольно‑таки грубой форме.
Я перевернул еще одну страницу, и вдруг мне все стало ясно. Там я прочел:
С тобой, родная Кира,
Прошел бы до Памира!
Так. Все понятно: Кира Самошкина! Вот кому была посвящена «общая» тетрадка в красном клеенчатом переплете. Дима собирался шагать до Памира, а ему предлагали ехать совсем в другую сторону. Да еще без Киры! Дима ехать не хотел… Прямо наотрез отказывался. Надо было что‑то срочно предпринять!
Я буду корреспондентом!
В тот вечер, когда папа сообщил на «семейном квартете», что мы едем в Заполярск, я запел известную песенку, которая так не понравилась нашему влюбленному Диме. Я бы, пожалуй, и заплясал, если бы не постеснялся…
Но на следующий день, по дороге в школу, мне вдруг стало грустно. Я подумал, что скоро переулок, по которому я уже пять с половиной лет бегал по утрам, размахивая портфелем, будет от меня далеко‑далеко. И никто мне не будет кричать по утрам: «Здорово, Котелок!» Никто даже и знать не будет, что меня зовут Котелком. Может быть, мне придумают другое прозвище, к которому я все равно уже никогда не привыкну (ну, например, станут называть меня «паровым котлом» или как‑нибудь вроде этого). А может, и вообще не дадут никакого прозвища…
От всех этих мыслей у меня был такой вид, что председатель совета отряда Толя Буланчиков своим обычным неторопливым и солидным голосом произнес:
– Я вижу, Сева, что ты находишься в глубокой задумчивости. И это очень хорошо. Нам сейчас как раз нужна твоя смекалка и твоя… так сказать, богатая творческая фантазия!
– У вас скоро уже не будет моей богатой фантазии… – загробным голосом произнес я.
– Нет, почему же? Ты ошибаешься… Ведь скоро лето наступит, и у нас, во дворе школы, будет городской пионерский лагерь. Вот мы и хотим, чтобы ты придумал какие‑нибудь увлекательные летние дела…
Толя в последнее время стал говорить как бы от имени всего совета отряда: «мы хотим», «мы ждем от тебя»…
– Меня с вами летом уже не будет, – тихо и грустно проговорил я.
– Мы понимаем. Ты, наверно, уедешь в загородный лагерь, да? Но ведь потом ты вернешься. И тогда…
– Я уже никогда не вернусь к вам, – еще печальнее сообщил я.
Толя Буланчиков взглянул на меня с удивлением и даже с испугом.
– Можно подумать, что ты умирать собрался.
– Нет, я не умру… Но я уеду очень‑очень далеко. В город Заполярск…
Через несколько минут уже весь наш класс знал об этой новости. И тут мне стало еще больше не по себе: я понял, что всем ребятам не хочется расставаться со мной. И даже тем, которым я, кажется, причинял одни только неприятности и которые, как я думал, очень хотели бы от меня избавиться. Нет, никто от меня избавляться не желал…
– Ты всегда будешь с нами, дорогой Сева! Мы тебя не забудем! – торжественно произнес Толя Буланчиков.
– Вот еще, надгробную речь завел! – воскликнула ехидная Галя Калинкина, которую мы недавно выбрали редактором стенгазеты за это самое ее ехидство, которое Толя Буланчиков назвал «умением критически мыслить». – Давайте лучше сделаем так, чтобы он с нами не расставался.
– Это невозможно, – сказал я. – Мама уже вещи собрала…
– Нет, ты меня не понял, – стала пояснять Галя. – Я хочу, чтобы ты с нами не расставался в переносном смысле слова…
– Как это «в переносном»?
– А очень просто… Ты будешь нашим специальным корреспондентом за Полярным кругом! Будешь в каждый номер стенгазеты присылать всякие интересные заметки. Мы будем их читать и как бы беседовать с тобой, будем слышать твой голос… Вот мы и не расстанемся!
– Это здорово! Молодец, Галка!.. Это же замечательно! – загалдели со всех сторон. – У нас теперь будет свой корреспондент!
– Вот хорошо, если бы мы вообще все разъехались в разные стороны, и тогда бы у нас всюду были корреспонденты! – увлекся наш отрядный поэт Тимка Лапин.
– Нет, зачем же нам всем разъезжаться и тем самым разрушать коллектив? – возразил Толя Буланчиков. – Тогда и стенгазету читать будет некому. Все будут только писать!.. А вообще предложение Гали очень разумное. Толковое, я бы сказал, предложение.
– Еще бы! – воскликнул Тимка Лапин. – Пусть он нам рассказывает обо всех своих делах за Полярным кругом, обо всей тамошней жизни. А мы потом, сразу после школы, всем классом приедем в Заполярск работать. А? Здорово? Я читал, что некоторые выпускники так и делают… Прямо всем классом отправляются на разные ударные объекты. Давайте и мы! А?
– Давайте! Поедем на ударные объекты! – закричали все и стали так радостно хлопать Тиму по плечу, что он даже присел на корточки.
– Хорошо, – согласился я. – Буду вашим корреспондентом. Прямо с осени… К первому сентября пришлю первую статью!
– Нет, мы все просто умрем от нетерпения! – не согласилась со мной Галя Калинкина. – Ты, как приедешь, сразу пиши. А еще лучше – с дороги присылай свою первую корреспонденцию. Знаешь, такие бывают «путевые заметки». Вот и ты пришли…
– Но ведь уже лето наступает… И наша стенгазета «закроется» до сентября.
– Газета будет выходить без перерыва! – заявила Галя. Слово «стенгазета» она всегда сокращала и говорила просто «газета», это звучало солиднее. – Ведь летом здесь, во дворе, будет городской пионерский лагерь, и он без газеты тоже никак не обойдется!
– Хорошо, я напишу вам с дороги!
В этот момент ко мне протиснулась добрая, жалостливая Лелька Мухина, та самая, которой я сажал в парту живого ежа, и тихо прошептала в самое ухо:
– Ой, Сева… выйди, пожалуйста, на «удиральную лестницу». Там Витик‑Нытик плачет…
 2020-06-10
2020-06-10 165
165







