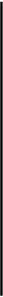
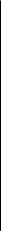

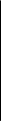
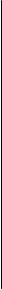

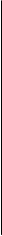
 лял выступления рабочих мануфактуры — и строил бесплатные дома и больницы. Боялся революции — и помогал деньгами революционерам. Даже огромная внутренняя сила не помогла ему справиться с роком: переживая жесточайший внутренний кризис, он ушел из жизни: нарисовал на груди химическим карандашом сердце и выстрелил — целых два раза.
лял выступления рабочих мануфактуры — и строил бесплатные дома и больницы. Боялся революции — и помогал деньгами революционерам. Даже огромная внутренняя сила не помогла ему справиться с роком: переживая жесточайший внутренний кризис, он ушел из жизни: нарисовал на груди химическим карандашом сердце и выстрелил — целых два раза.
Эта судьба всерьез волновала Горького. «Ведь этот самый Савва Морозов, — писал он, — отец его пришел в лаптях... В 62—63 году пришли эти люди с сильным соком и взялись за дело, начали строить фабрики, заводы, судоходство развивать. Судоходство на Волге создано с такой быстротой, которой американцы, умеющие работать очень и очень хорошо, только дивляются. А кто это создал? Сироткины, Журавлевы. Это все мужичье...
И вот приходит такой человек и начинает работать, заставляет детей своих работать... и на это дело, как видно, тратит свои лучшие соки, и как производителю, как отцу ему чего-то не хватает. Дальнейшая стадия — его сын работает уже по инерции, без того пафоса, без той поэзии труда, без той страсти, с которой работал его отец... В третьем поколении люди начинают вырождаться...
Это, вероятно, происходит потому, что дед вложил всю свою силу в это дело, на сына не хватило, а у сына — на внука — тоже не хватило энергии».
Это почти иррациоальное, мистическое объяснение Горький дополняет видением конкретно-исторической обусловленности процесса: исчерпанностью творческого потенциала русского капитализма за пятьдесят пять лет пути от Ильи Артамонова-старшего до его внуков, Ильи и Якова. Но за этой проблематикой сугубо социального характера Горький видит и проблему общечеловеческого плана.
Человек — хозяин дела, его творец; в деле, в труде раскрываются его творческие потенции. И судьба Ильи Артамонова-старшего подтверждает это.
Неукротимая энергия Ильи дает свои результаты — появляется первый корпус фабрики. Это человек, не боящийся работы, не утративший еще связь с рабочими, с теми людьми, трудом которых создается дело. И в большом застолье, которое он устраивает для рабочих и в котором сам принимает самое активное участие, еще ничего не предвещает беды. Люди сидят за огромными, специально сколоченными для этой цели столами, соединенные могучей волей хозяина дела, и древний ткач Борис Морозов обращается К Артамонову: «Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить.
Ты — хозяин, ты дело любишь, а оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук, катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница, побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...»
Но век его оказался короток: дело, вызванное к жизни неукротимой энергией Артамонова-старшего, как бы выходит из-под контроля, начинает жить собственной жизнью, подчиняя себе не только рабочих, но и хозяев, своих творцов. Дело в самом прямом смысле убивает Артамонова. После застолья человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли на Оку, куда причалил на барке заказанный для второго корпуса фабрики паровой котел. Рабочие благополучно сгрузили на берег «красное тупое чудовище, похожее на безголового быка». Когда рабочие везут котел по доскам, положенным на песок, горбуну Никите, сыну Артамонова, кажется, «что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно перед веселою силою людей». Горький использует прием олицетворения, нагнетает антиэстетические детали, показывая разрушительную силу дела, воплощенную в этом красном неповоротливом чудище, похожем на тушу освежеванного быка: «Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и неспеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой, — Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью». Когда рабочие попытались поднять его, «котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые». «Пожалуй, — жила лопнула», — говорит он Никите. Надорвавшись, Артамонов-старший погибает.
Эта внешне немотивированная, казалось бы, случайная смерть обусловлена некой иррациональной, почти мистической логикой судьбы Артамоновых, которая является одной из главных мотивировок книги. Чудовищный паровой котел обращается в романе в символ дела, выходящего из-под власти, сводящего на нет расчеты своих собственных творцов. Оно в буквальном смысле раздавливает своего основателя, высасывает жизненные силы из его наследников. Дело давно вышло из-под контроля, обрело мистическую власть над людьми и раздавило первого.
Гибель Артамонова под паровым котлом — страшное событие, ведущее героя к прозрению, увы, слишком позднему: «Эх, ошибся я, Господи... Ошибся...» — эти его слова будут последними перед
Социалистический реализм
Новый реализм



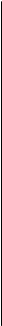 смертью. В чем герой видит свою ошибку? Вероятно, последним проблеском сознания ему дано понять, что не он был хозяином дела, а само дело вышло из повиновения, подчинило людей, династию, род и в прямом смысле раздавило своего создателя и творца. Так вскрывается глубинная, закономерно обусловленная причина гибели хозяина и основателя дела Артамоновых — Ильи Васильева Артамонова.
смертью. В чем герой видит свою ошибку? Вероятно, последним проблеском сознания ему дано понять, что не он был хозяином дела, а само дело вышло из повиновения, подчинило людей, династию, род и в прямом смысле раздавило своего создателя и творца. Так вскрывается глубинная, закономерно обусловленная причина гибели хозяина и основателя дела Артамоновых — Ильи Васильева Артамонова.
Итак, главным предметом изображения в романе является история трех поколений династии русских промышленников. Это предопределяет жанровые особенности романа. С одной стороны, перед нами семейная хроника; с другой стороны, история рода Артамоновых мотивирована обстоятельствами социально-исторического плана (развитие русского капитализма, обусловленное реформами начала 1860-х годов). Поэтому в жанр семейной хроники вторгается социально-исторический, социально-политический аспект жанрового содержания.
В этом романе М. Горький, совмещая частный, собственно романический, и национально-исторический сюжеты идет по традиционному для него пути. Исторические события даны сквозь призму сознания личности, предстают как достояние частного опыта Петра Артамонова, сына Ильи.
Одним из художественных средств раскрытия характера Петра Артамонова, представителя среднего поколения династии, образ которого проходит через весь роман, становится прием двойниче-ства. Прием этот вообще характерен для Горького: двойничество помогает вскрыть пестроту русского характера, на которой настаивал писатель.
М. Горький, обращаясь к приему, отработанному до совершенства Ф. Достоевским, использует его в иных целях. Писателю важно выявить трагический разлад между человеком и делом, показать его отчужденность от дела, когда оно как бы обретает собственную волю, становится неуправляемым, само настигает и уничтожает человека. Дело — фантом, порожденный людьми и уничтожающий, калечащий их. Выявлению этого разлада человека с делом, которое воспринимается им как разлад с самим собой, подчинен психологический анализ в романе.
Внутренняя противоречивость Петра Артамонова, его конфликт с самим собой достигает кульминации в сценах и эпизодах, связанных с Нижегородской ярмаркой. Он видит, что «рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и крас-
ной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале...» Двойственность героя и его разлад с самим собой приводят к ненависти к двойнику—к самому себе, к своему зеркальному отражению: «Артамонов внезапно увидал перед собою того человека, который мешал ему жить легко и умело... он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы...»
Двойничество для Горького — одна из форм воплощения человеческой «пестроты». Но в чем видит писатель «углы», «полюса» характера Петра Артамонова? В том, в первую очередь, что живет он не своей волей, а подчиняет жизнь делу Артамоновых. Не дело подчинено ему, хозяину, а он, Петр, становится рабом своего дела, оно его «облапило и держит».
Сам Петр никогда не сможет понять внутренних причин своей драмы. Вряд ли сможет это сделать и его брат, шустрый и деловой Алексей, или же сын Алексея Мирон. Мистическая власть дела над династией приоткрылась лишь Илье Артамонову-старшему в момент его страшной гибели. Но в романе есть персонаж, которому дано быть свидетелем жизни всех трех поколений Артамоновых и многое в их судьбе понять. Он, как бы не старея, не изменяясь со временем, проходит через все произведение. Это дворник Артамоновых Тихон Вялов.
Немногословный, с хитрецой, прозорливый, внешне неопрятный, часто непочтительный в своих дерзких речах, будучи незаметным свидетелем жизни Артамоновых, он знает о них почти все. Именно Тихону Вялову дано понять мистическую власть дела над Артамоновыми. Он произносит обидные для Петра слова: «Дело, как плесень в погребе, — своей силой растет», показывая порабо-щенность этой плесенью всех представителей династии.
Если новый реализм поставил героя в жесткую зависимость от макросреды, от глобальных исторических обстоятельств, то Горький, сделав эту связь основой реалистических принципов типизации, воспринял ее как трагическую для личности. Так эстетические принципы нового реализма оказались соотнесены с важнейшей философской проблемой, выдвинутой XX в.: человек и история; свобода человека от ее влияний; сама возможность этой свободы.
Эти проблемы он сформулировал в четырехтомной эпопее «Жизнь Клима Самгина», ставшей творческим завещанием. Ее глав-
Социалистический реализм
Новый реализм

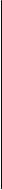

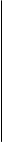 ный герой, личность незаурядная и мыслящая, ведущая свою родословную от лермонтовского героя, удрученного сомнениями в мире и в себе самом, с чисто печоринским равнодушием отвергающий наивные идеи и соблазны бытия, мучится собственной раздвоенностью и невозможностью найти себя, прийти к равенству с самим собой. Его сознание раздирают противоречия действительности, и он не может справиться с ними. Поэтому мотив двойни-чества в «Жизни Клима Самгина» несет мрачный и даже трагический оттенок, развиваясь от тома к тому:
ный герой, личность незаурядная и мыслящая, ведущая свою родословную от лермонтовского героя, удрученного сомнениями в мире и в себе самом, с чисто печоринским равнодушием отвергающий наивные идеи и соблазны бытия, мучится собственной раздвоенностью и невозможностью найти себя, прийти к равенству с самим собой. Его сознание раздирают противоречия действительности, и он не может справиться с ними. Поэтому мотив двойни-чества в «Жизни Клима Самгина» несет мрачный и даже трагический оттенок, развиваясь от тома к тому:
«... двойники его бесчисленно увеличивались, снова окружали его и гнали по пространству...»;
«Мы все — двуглавые, — сказал он вставая. — Зотова, ты, я...»;
«Моя жизнь — монолог, а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его»;
«...Клим Самгин остался, и было совершенно ясно, что это тоже какой-то нереальный человек, очень неприятный и даже как бы совершенно чужой тому, кто думал о нем, в незнакомом деревянном городе, под унылый, испуганный вой собак».
Этот мотив приходит к своей кульминации в третьей книге «повести» (так определил жанр сам Горький, вероятно, имея в виду повествование), обретая законченный смысл в страшном сне Самгина: «Самгин увидел себя на безлюдной, избитой дороге среди двух рядов старых берез, — рядом с ним шагал еще один Клим Самгин. День был солнечный, солнце жарко грело спину, но ни сам Клим, ни двойник его, ни деревья не имели тени, и это было очень тревожно. Двойник молчал, толкая Самгина плечом в ямы и рытвины дороги, толкая на деревья, — он так мешал идти, что Клим тоже толкнул его; тогда он свалился под ноги Клима, обнял их и дико закричал. Чувствуя, что он тоже падает, Самгин схватил спутника, поднял его и почувствовал, что он, как тень, не имеет веса... Самгин высоко поднял его и швырнул прочь, на землю, — он разбился на куски и тотчас вокруг Самгина размножились десятки фигур, совершенно подобных ему... их становилось все больше, все они были горячие, и Самгин задыхался в их безмолвной, бесшумной толпе... они окружали его и гнали по пространству, лишенному теней, к дымчатому небу; оно опиралось на землю плотной темно-синей массой облаков, а в центре их плыло другое солнце, без лучей, огромное, неправильной, сплющенной формы, похожее на жерло печи, — и на этом солнце прыгали черненькие шарики». В самые страшные минуты Клим Иванович Самгин ощущает как бы реальность свое-
го ужасного сна: он разорван на нескольких Самгиных, которые находятся друг с другом в постоянной вражде и ссоре, ибо все они не имеют тени и веса, как мудрец из восточной притчи, вспомнившейся тогда Самгину. Он сидел «под солнцем на скрещении двух дорог, горько плакал, а когда прохожий спросил: о чем он льет слезы? — ответил: «От меня скрылась моя тень, а только она знала, куда мне идти». Ни один из полюсов, разрывающих сознание Самгина, не может взять верх, ибо Клим Иванович не в состоянии сделать выбор, определиться в отношении той или иной стороны действительности. Его феноменальная память захватывает все, но так как герой не может сделать выбора, это лишь усугубляет его трагедию: все больше и больше сторон действительности доступны Самгину, и все больше и больше двойников селятся в нем, все больше противоположностей разрывают его сознание. Герой оказывается порабощен действительностью, разорван ею, она наполняет его собой против его воли. Мечта встать над нею человеком, свободным от ее насилий, увы, была, по Горькому, нереализуемой для личности.
Так в эпос писателя входит один из коренных аспектов его проблематики: что есть свобода для человека, погруженного в исто-рико-социальные обстоятельства первой трети нашего столетия? Чем она может быть ограничена? Только ли государством? Судом общественности? Прямым насилием социальной среды? Может ли быть свободен человек чеховского плана — абсолютно материально обеспеченный, зависимый разве что от самого себя? Ведь именно таких людей заставлял страдать А. Чехов от того, что они не могли поехать в Москву, как три сестры, хотя никаких реальных препятствий к тому вовсе не было; не могли вмешаться в судьбу вишневого сада, заранее обреченного на вырубку вне зависимости от того, станет его хозяином Лопахин, или купец Дериганов, или же останутся старые хозяева. Некое мистическое начало жизни, выраженное Чеховым то в звуке лопнувшей струны, то в крике птицы и шуме самовара, к которому прислушиваются и который не могут понять Лопахин, Раневская, Гаев, исследует и М. Горький. Что мешает человеку стать свободным и поступать в соответствии со своей волей?
Поэтому проблема человеческой свободы или несвободы становится центральной темой всего творчества Горького. Явленная в первых рассказах как гимн романтически трактуемой полной свободе личности от всех оков внешнего социального мира, она уже тогда содержала в себе сомнения в ценности такой свободы для человека. Последнее произведение Горького — «Жизнь Клима Самгина» — несет в себе печальное заключение о невозможности об-
Социалистический реализм
Новый реализм


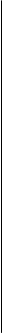
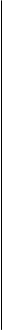 ретения личностной свободы в трагических условиях русской истории XX в.
ретения личностной свободы в трагических условиях русской истории XX в.
Дал ли русский реалистический роман антитезу подобной художественной концепции? Да, антитеза, столь же художественно значимая и могущественная по воздействию на сознание современного человека, появилась уже во второй половине XX в. Это был роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».
«Доктор Живаго» был написан в середине века, поэтому Пастернак обладал большим историческим опытом по сравнению с Горьким, умершим за четверть века до того момента, когда его оппонент поставил последнюю точку в своем романе. Поэтому Пастернак мог использовать те аргументы в споре с Горьким, которые тому были просто недоступны. «Доктор Живаго» — это антитеза горьковскому эпосу, высказанная русским писателем, не принявшим не только революцию, но и насилия истории над человеческой личностью. В утверждении Горьким непреложного взаимодействия человека и истории Пастернак увидел насилие над героем, над человеком вообще — и не принял его. «Доктор Живаго» — утверждение права личности на суверенитет вне зависимости от того, кто или что на него покушается: другой ли человек, государство, революция, история.
С 60-х годов XIX в. русская литература была пронизана пафосом общественного служения. «Натуральная школа», «реальная критика», некрасовский «Современник», романы Чернышевского и критические статьи Д. Писарева утверждали идею общественного служения в качестве первейшего долга личности. Новый реализм воспринял эту идею и положил ее в основание принципов реалистической типизации — в примитивных формах, как, скажем, у Ю. Либединского 20-х годов, в чуть более художественно усложненных, как в героических романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» или же в производственном романе 30-х годов («Время, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентраль» М. Шагинян). Этот же пафос общественного служения был выражен в совершенных эстетических формах в горьковском эпосе. Уникальность для русской литературы романа Б. Пастернака состоит в том, что он едва ли не единственный в русской реалистической литературе XX в., создающейся в метрополии, выступил против.
Пафос общественного неслужения заявлен в романе Пастернака. Он утверждает право человека остаться самим собой, отвергнув выбор между красными и белыми, ибо абсолютной правды нет ни на той, ни на другой стороне.
Он утверждает право быть всего лишь частным человеком. Его герой не желает жертвовать собой на благо н|рода — и Пастернак поддерживает его в этом нежелании. Поддерживает хотя бы потому, что не знает, нужны ли народу эти жертвы, уоддержи-вает потому, что осознает губительность и жестокость гражданской войны, ее историческую бесперспективность. Единственный способ спастись от насилия истории, кровавой и жестокой — сохранить свой частный мир, свое индивидуальное бытие, отстоять право на независимость от любой чужой воли — будь то воля красных, белых, будь то воля народа.
Юрий Андреевич Живаго реализует себя не в глобально-историческом контексте, как это происходит с героем Горького, хочет он того или нет, но в значительно более узком, который, однако, мыслится автором и героем как более важный, глубокий и необходимый для личности: это контекст ближайшего человеческого окружения, дома, семьи, близких и любимых людей, которые способны дать то самое необходимое человеку тепло, что согреет его на продуваемых ледяными ветрами перекрестках истории. То тепло, которого начисто лишен герой Горького.
История XX в., втягивающая человека в свой оборот, мыслится Пастернаком как начало разрушительное. Поэтому сюжет романа составляют постоянные и безуспешные попытки героя спрятаться от страшной и жестокой эпохи, найти для себя и для своей семьи нишу, в которой можно избежать насилия истории и обрести счастье обыденной жизни.
Роман Б. Пастернака исполнен множества бытовых подробностей, которые представляют огромный интерес для его главного героя. Жизнь в занесенном снегами и удаленном от людского мира доме (где все же застает война между красными и белыми, партизанами и непартизанами Юрия Живаго) дает возможность герою порадоваться картошке, уложенной на зиму в гурты, насладиться письменным столом, так и зовущим к работе, к стихам, оценить вкус капусты и лесной ягоды и прелесть зимнего пейзажа за окном. За этим проявляется не приземленность, не неспособность посмотреть на жизнь более широко, но умение видеть частности, поэзию обыденного — дар крайне редкий у русского человека, поглощенного глобальными проблемами и не видящего того, что рядом. Доктор Живаго — в первую очередь поэт, и его взгляд эсте-тезирует все, что попадает в поле зрения героя. Ему дано счастье обыденной жизни, очарованности ее ощутимой реальностью, гармонией каждодневного бытия с любимыми и близкими людьми.
<,
Социалистический реализм
Новый реализм
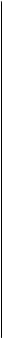

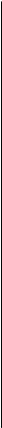
 В романе, где пересекается множество частных судеб на фоне глобальных исторических событий, Пастернаку приходится находить композиционные приемы, которые помогли бы соподчинить сюжетные линии. Эту же задачу решает для себя и Юрий Андреевич Живаго — ведь он тоже художник. «Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему...» Особую роль на этом «житейском ристалище» играют женские образы. Отношение разных героев к одной и той же женщине позволяет сопоставить их в художественной системе образов романа.
В романе, где пересекается множество частных судеб на фоне глобальных исторических событий, Пастернаку приходится находить композиционные приемы, которые помогли бы соподчинить сюжетные линии. Эту же задачу решает для себя и Юрий Андреевич Живаго — ведь он тоже художник. «Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему...» Особую роль на этом «житейском ристалище» играют женские образы. Отношение разных героев к одной и той же женщине позволяет сопоставить их в художественной системе образов романа.
Жизненная позиция Живаго противопоставлена в романе мироощущению другого героя — Антипова-Стрельникова. Они включены в один любовный треугольник, оба безумно и безоглядно любят Лару, судьба которой тоже проходит через весь роман. Лара для Пастернака — воплощение извечной женской тайны, непостижимости женской красоты. Любовь к ней становится для Юрия Андреевича великим счастьем, дарованным судьбой. Именно близость с ней открывает ему высшую красоту простого счастья, способного противостоять любым историческим катастрофам.
Иная судьба у Антипова. В нем сказалась чисто русская неудовлетворенность тем, что имеет человек; желание бросить все, с отчаянной беспощадностью разорвать узы, связывающие его с самыми любимыми людьми: женой Ларой и дочерью. Желая заслужить то, что он уже имеет — их любовь — он отправляется на фронт и затем, переплавленный, перемолотый гражданской войной, становится красным комиссаром Стрельниковым, которого люди предпочитают звать Расстрельниковым. Сея вокруг себя смерть, несясь на бронепоезде, изрыгающем на все, что оказывается рядом, потоки огня, пуль и снарядов, по выжженной и выстывшей России, он забывает о жене и дочери, забывает о своей любви и том тепле, которое могло бы его согреть в бескрайних заснеженных пространствах обезлюдевшей родины. Лара находит удивительные слова для того, чтобы объяснить, что происходит с ее бывшим мужем: «...он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты».
На протяжении романа эти герои встречаются не один раз. Однажды Живаго оказывается на волоске от смерти, и лишь случайная искра человеческого участия, промелькнувшая между ними
и отозвавшаяся в комиссаре, спасает Живаго от расстрела, как некогда такая же искра человечности, промелькнувшая между маршалом Даву и Пьером, спасла графа Безухова. Свои последние дни перед страшным самоубийством Стрельников, бывший некогда просто добрым и сердечным московским мальчиком Пашей Антиповым, безумно влюбленным в красавицу Лару, проведет с Живаго в его отдаленном, скрытом от посторонних глаз, заснеженном убежище. Испепеленный, выжженный дотла гражданской войной, опустошенный смертями, сеянными им самим вокруг ёебя, потерявший все, что имел некогда, не сумев сберечь главное богатство, дарованное жизнью — дочь и жену, он заканчивает жизнь самым привычным и доступным для себя средством: пулей. 1$рий Живаго, чуть ли не на глазах которого случилось это самоубийство, видит, как «в нескольких шагах от крыльца, вкос поперёк дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком", вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины».
Истоки трагической судьбы Стрельникова — в том конфликте личности и истории, который, по мысли Пастернака, может иметь единственное разрешение: гибель личностного, индивидуального начала в человеке. Рассказывая об Антипове, уже ставшем комиссаром Стрельниковым, Лара отмечает важную деталь: «Я нашла, что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете... И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи... Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которым он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят». Человек, теряющий свою индивидуальность и частность под воздействием любой силы, даже такой, как революция, гражданская война, влекомый чувством долга перед народом, сбивается со своего пути и теряет все. Историческая катастрофа произошла потому и тогда, когда человек утратил веру в свое право личностного, только ему присущего взгляда. «Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в ценность собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушению нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего
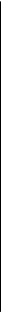 Социалистический реализм
Социалистический реализм
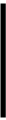
 голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной». Фразы, нивелирующей в человеке индивидуальное, лишь ему присущие; фразы, делающей человека исполнителем чужой воли.
голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной». Фразы, нивелирующей в человеке индивидуальное, лишь ему присущие; фразы, делающей человека исполнителем чужой воли.
Лара и Юрий Живаго — вот два героя, которым удается отстоять собственную самость перед агрессивным и разрушительным нагвдком истории. Это удалось сделать и Климу Ивановичу Самги-ну,^жггавшемуся самим собой, пусть и в полном одиночестве, без друз»й, без любимой женщины, способной его понять. Однако он правючитает остаться один, но не сдаться свирепому валу эпохи, требующей от человека полной капитуляции и открыто презираю-щеишго право на внутреннюю жизнь, независимую от гласа народа ил^Ишцественного мнения. Разница между героями этих романов Щ «на не только исторической дистанцией, но и авторской -$Л Ш; Горький презирает Самгина за его вполне естественное жЩЩщк', самостоятельности, а Пастернак видит в нем основу того линиОстйого самосознания, на котором только и может устоять в период испытаний и сам человек, и его семья, любимые им люди, и сама Россия.
Спор, который ведут между собой М. Горький и Б. Пастернак, касается по сути своей самых основ русского национального сознания. Возможные варианты разрешения этого спора определили столь важную идеологическую сферу русского реализма XX в., как концепция революции.
Ё самом деле, почему герой Пастернака не принимает революции, почему первое радостное восхищение чудной «хирургической операцией», проведенной большевиками в октябре 1917 г., сменяется не только разочарованием, но резким неприятием любой социальной хирургии? Потому что в революции автор и его герой видят преступное насилие над действительностью, насилие в отношении тех первооснов бытия, перед которыми преклоняется Живаго. Поэтому роман «Доктор Живаго» можно считать антитезой не только горьковской эпопее, но и новым, принципиально иным решением вопроса взаимосвязи личности и макросреды исторического времени, которая стала основополагающей для реалистического художественного сознания XX в.
 IV МОДЕРНИЗМ
IV МОДЕРНИЗМ
А/1
Литературно-критические концепции модернизма
«Всякое искусство стремится быть выражением миро! ния своего века», — писал о модернистских эстетических сшщршх (экспрессионизме и импрессионизме) немецкий теоретик искусства О. Вальцель165. Его современник и соотечественник Ю. Баб, размышляя об импрессионистической эстетике, говорил о стремлении художника запечатлеть предметы «в том их мгновенном облике, какой действительно видел. Это новое художественное устремление импрессионизма отнюдь не было новшеством только техническим, — оно было продуктом внутреннего настроения эпохи. Всякая художественная форма ценна и может надеяться на то, чтобы утвердить себя, лишь в том случае, если она имеет известное внутреннее значение, если в ней выражается какой-нибудь новый крупный поворот в развивающемся миросозерцании»166. Думается, что импрессионистическая и экспрессионистическая эстетика во многом стала выражением мироощущения XX в.; само ее возникновение явилось результатом крупных поворотов в развивающемся миросозерцании человечества.
 2014-02-17
2014-02-17 672
672








