Специфика бытия идеальной формы. Аспекты события. Структура событийности. Формы осуществления событийности (ритуал). Кризисы развития.
1. Построенное в предыдущей главе понимание идеальной формы вплотную подводит к собственно онтологической проблематике — к вопросу о том, как эта идеальная форма существует и присутствует в жизни человека. Причем не в частности, а в принципе, необходимым образом, т. е. в соответствии со своей сущностью.
36
Утверждение Л. С. Выготского и его последователей, что идеальная форма существует как культура, не может нас удовлетворить по нескольким основаниям.
Во-первых, если даже предположить, что культура образует некое особое пространство — пространство текстов и знаков, из этого вовсе не следует ее ориентирующая функция. Тексты и знаки могут становиться и становятся особыми объектами и содержаниями, которыми можно заниматься и увлекаться наряду с другими, вовсе не сопоставляя культуру и жизнь, что и происходит достаточно часто. Культура сама по себе и не должна предполагать или требовать каких-либо жизненных сопоставлений. Эту ситуацию взаимонепроницаемости жизни и культуры обострял М. М. Бахтин в работе «К философии поступка»: «И в результате воюют друг против друга два мира, абсолютно не сообщающиеся и не проницаемые друг для друга: мир культуры и мир жизни, единственный мир, в котором мы творим, познаем, созерцаем, жили и умираем; мир, в котором объективируется акт нашей деятельности, и мир, в котором этот акт единожды совершается. Акт нашей деятельности, нашего переживания, как двуликий Янус, глядит в разные стороны: в объективное единство культурной области и в неповторимую единственность переживаемой жизни, но нет единого и единственного плана, где оба лика взаимно бы себя определяли по отношению к одному-единственному единству» [2, с. 82—83].
Во-вторых, уже было доказано, что готовый и функционирующий знак, взятый не сам по себе, а именно в приложении к ситуации поведения, требует вовсе не идеи, а правила соотнесения с данными наличными обстоятельствами, т. е. существует, все более приближаясь к поведенческому автоматизму и стереотипу правильного восприятия чего-либо. Подобная жизнь знака (превращение опосредствования в правило) часто приводит вовсе не к обнаружению идеи действия, а, наоборот, к «застреванию» в наличных обстоятельствах — так называемой «функциональной фиксированности прошлого опыта» [4, с. 199—234], которая является своеобразным эквивалентом той «биоорганической» натуральной формы поведения, которую имел в виду Л. С. Выготский в своих первоначальных исследованиях опосредствования.
Остается представить себе, что идеальная форма — это особый объект, который вообще не «есть» в том смысле, как это обычно и обыденно понимается. Это не то, на что можно указать пальцем, не то, что имеется в наличии и может быть дано. Это форма, в суть жизни которой входит не «пребывание», а то, что Л. С. Выготский называл «свершением», говоря о свершении (а не пребывании) мысли в слове. Идеальная форма — это то, существование чего есть рождение или воз -рождение, ибо это то, наличие чего
37
есть про -явленность, т. е. как бы переход из затемненности и замутненности в ясность и явность. Именно в этом смысле я (вслед за многими авторитетами1) утверждаю, что бытие идеальной формы есть ее событие.
Выполненность и свершенность идеальной формы есть ее открытость, явленность и даже, более того, адресованность кому-то. В этом смысле близкой к конструкции события идеальной формы является категория откровения. Я не буду здесь разбирать сложнейшею теологическую проблематику, приведу только две мысли Ф. В. Й. Шеллинга: «...Бога никогда нет, если бытие есть то, что находит свое выражение в объективном мире; если бы он был, то не было бы нас; однако он беспрерывно открывает себя нам» [16, т. 1, с. 465]. О познании Бога истинного Шеллинг говорит, что «...познание это не «естественно», но именно поэтому оно не неподвижное, но постоянно и непрестанно лишь становящееся. Ибо сам истинный Бог для сознания — не Бог существующий, пребывающий, но лишь постоянно становящийся, который и именуется «Бог живый», Бог лишь являющийся, которого непрестанно надо звать и удерживать, словно пытаясь удержать явление» [16, т. 2, с. 308—309].
2. В понимании бытия идеальной формы как события содержится несколько очень важных сторон, которые предстоит различить, проанализировать и более ясно зафиксировать.
Событие идеальной формы предполагает субъекта, которому она явлена и адресована. Причем и его она предполагает «в режиме» становления и свершения. В событии возникает то, что М. Хайдеггер называет «остовом», т. е. то, как человек и бытие друг друга «устанавливают», как они взаимопринадлежат друг другу. «Речь о том, — говорит М. Хайдеггер, — что надо попросту испытать, т. е. обратиться к тому Собственному (Eigen), в котором человек и бытие друг к другу приспособлены (ge-eignet), к тому, что мы называем событием» [15, с. 76—77]. В нашем случае важна именно эта взаимность того, кто является (как было установлено в предыдущей главе, является всегда некто —субъект, находящийся в определенной позиции, и его действие), и того, кому явлено. В этом смысле, вслед за Хайдеггером, событие можно назвать событием.
Здесь необходимо остановиться. У нас термин со-бытие ввел в психологию развития В. И. Слободчиков [12]. Он имел в виду общность бытия двух людей. «Живая общность, сплетение и взаимосвязь двух жизней, их внутреннее единство и внешняя противопоставленность…
38
не просто одно из условий развития наряду с многими другими... а фундаментальное основание самой возможности возникновения человеческой субъективности, основание нормального развития и полноценной жизни человека... Эту уникальную, внутренне противоречивую живую общность двух людей мы обозначаем как со-бытие» [12, с. 17].
Приведенная мысль вроде бы очень близка тому, что сказано мной, но только на первый взгляд. Я говорю нечто как раз противоположное, меняя акцент и утверждая, что общность и взаимность не бытие, не наличность и не «есть», а именно событие, акт, становление. Но утверждаю это, в отличие от В. И. Слободчикова, не в рамке понимания и полагания оснований полноценной человеческой жизни, а в рамке понимания и полагания «бытия развития» и в этом смысле не спорю с ним, а лишь говорю про другое. В дальнейшем я, однако, во избежание путаницы не буду пользоваться термином со-бытие, имея в виду, что событие есть, в частности, и акт встречи двух персон, из которых одна олицетворяет для другой идеальное действие.
Итак, событие идеальной формы есть, во-первых, свершение двух субъектов (до и вне этого нельзя говорить об их наличии) и, во-вторых, их взаимность, на которую также нельзя «указать пальцем».
Второй аспект события — это его недетерминированность, то, что оно не является следствием и продолжением естественного течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в иную реальность1. Это же М. К. Мамардашвили пишет о сознании, утверждая, что обладать сознанием — это значит иметь возможность испытывать те состояния, которые не получаются естественным образом, не являются следствием или продуктом какого-либо естественного (например, физиологического) процесса.
Очень интересно об этом аспекте событийности говорит Ю. М. Лотман. Он считает, что событие является основой организации художественного текста. Событие, по Ю. М. Лотману, это не всякое происшествие, а лишь то, которое связано с переходом персонажа через границу «семантического поля», т. е., например, с его переходом из обыденного в чудесный мир в волшебной сказке [7]. При этом событием является только то, что произошло, при том, что могло произойти с очень малой долей вероятности. Событие, полагает Ю. М. Лотман, это то, что происходит не вследствие стечения обстоятельств, а несмотря на их стечение. Он подчеркивает, что «...событие — это всегда нарушение некоторого запрета, факт, который имел место, хотя и не должен был его иметь» [7, с. 286].
39
В представлении о непредзаданном характере события мы подходим к его наиболее интенсивной характеристике — пониманию событийности как какой-то, пусть и в минимальной степени, чудесности. Для раскрытия этой характеристики необходимо воспользоваться тем пониманием Чуда, которое дал А. Ф. Лосев в «Диалектике мифа». Он пишет: «Само слово «Чудо» указывает во всех языках именно на этот момент удивления явившемуся и происходящему....Чудо обладает в основе своей, стало быть, характером извещения, проявления, возвещения, свидетельства, удивительного знамения, манифестации, как бы пророчества, а не бытия самих фактов, не наступления самих событий» [6, с. 551]. По своему содержанию и конструкции Чудо, по Лосеву, есть совпадение двух планов жизни — внутренне-замысленного и реально-исторического [6, с. 545—551].
Нечто начинает (или не начинает) видеться нами как Чудо, когда «...мы начинаем сравнивать реально вещественный образ вещи с ее первообразом, парадигмой, «образцом», с ее идеальной выполненностью и идеальным пределом полноты всякого возможного ее осуществления и приближения к своим собственным внутренним заданиям» [6, с. 550]. Но именно это идеальное, полное осуществление и есть «полная» идеальная форма. В этом смысле ее явление и переход от наличного к совершенному есть удивительное, ниоткуда не следующее и ничего не продолжающее происшествие — Чудо.
Самое, однако, интересное в анализе и понимании событийности — это то, что событие ни в коем случае нельзя понимать лишь как особую, пусть предельно впечатляющую и удивительную, но случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и переживание. Вся та внутренняя и внешне выраженная работа, о которой говорилось в предыдущей главе (все эти преодоления, перестройки функциональных органов, выходы в иное, отображения), составляет внутреннюю картину события как действия. Анализ культуропорождающего действия, т. е. такого, в котором создается и воссоздается идеальная форма, будет приведен в разделе II. Здесь же необходимо обратить внимание на то, что «неестественность» не означает «случайность».
Приведу одну из дневниковых записей Д. Б. Эльконина.
«Пришел Петр Яковлевич1. Ему очень понравился малыш2, и он долго смотрел на него, особенно в то время, когда я с ним разговаривал, пытаясь вызвать у него улыбку. При этом ясно было видно, как он сосредоточивается на лице и начинает производить какие-то
40
попытки произнести звук. Петр Яковлевич сказал (и это очень верно и мудро): «Какую же громадную работу проводит этот маленький человек!» Да, прямо на глазах происходило рождение первейшей потребности, потребности в другом человеке как основном, центральном компоненте условий жизни (я это называл ситуацией социального, именно социального комфорта). Это работа, во-первых, по рассматриванию, отождествлению знакомого лица и, во-вторых, по поискам тех движений голосового аппарата, посредством которых можно ответить на обращение и установить связь с данным компонентом ситуации.
Здесь рождается принципиальное различие между криком как психофизической реакцией и первым активным звуком как актом поведения, направленным на взрослого, а тем самым на выделение предмета потребности, а тем самым и на формирование этой потребности» [19, с. 506].
В подтверждение мысли об «энергичности», действенной квинтэссенции события приведу еще одно высказывание Ф. В. Й. Шеллинга: «Откровение совершается, когда прорывается некая пелена мрачного; следовательно, откровение предполагает в качестве своей предпосылки омраченность, нечто вставшее между сознанием и Богом, который должен выступить наружу в откровении» [16, т. 2, с. 310].
Вот это преодоление «омраченности», как бы снятие с глаз пелены, особые действия по проявлению и связанные с ними энергичные усилия и поиск составляют ту особую работу, которая совершается в событии.
На другую сторону неестественности-но-не-случайности, т. е. произвольности акта, составляющего событие, указывает М. К. Мамардашвили. Он говорит об «обязательности формы» и существовании в культуре некой «машинки», которая как бы «собирает» человеческое переживание и усиливает его.
М. К. Мамардашвили вспоминает: «...Дело происходит в грузинской горной деревне, где родился отец и где я часто бывал, там на похоронах плачут профессиональные плакальщицы, как ударами кнута взбивая чувствительность и приводя человека в психически ненормальное состояние, близкое к экстатическому. Они профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения. Юношей я не мог понять: зачем это? Ведь они притворяются! А позже, как мне показалось, понял: психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т. п.) не могут сохраняться в одной и той же интенсивности, рассеиваются, сменяются в дурной бесконечности, пропадают бесследно и не могут сами по себе, своим сиюминутным дискретным, конкретным содержанием
41
служить основанием для явлении памяти, продуктивного переживания, человеческой связи общения. Почему, собственно, и как можно помнить умершего, переживать человеческое чувство? Всплакнул, а потом рассеялось, забыл! Дело в том, что естественно забыть, а помнить — искусственно» [8, с. 88].
Вдумываясь в мысль М. К. Мамардашвили, не будем, однако, забывать, что сам по себе ритуал, как и всякое культурное создание, ироничен: он может помочь усилить переживание, а может помочь симулировать его — не воссоздать и вновь породить, а, наоборот, снять суть и оставить лишь оболочку.
Итак, событие — это, во-первых, явление (откровение) идеальной формы. Нетривиально здесь то, что сама идеальная форма иначе и не может существовать; явленность (про-явленность) входит в ее суть; идеальная форма — это не то, что может быть наличным и данным.
Во-вторых, само явление идеальной формы ниоткуда не следует и никем не детерминировано. Оно есть не продолжение естественного хода жизни, а перерыв, промежуток в нем. В этом смысле явление идеальной формы есть Чудо. Оно Чудо еще и в том смысле, что сама идеальность (совершенство) становится реальностью (актуальностью) — переживается и осмысливается как реальный и жизненный, а не только воображаемый факт.
В-третьих, именно потому, что событие не является «точкой на линии» естественного разворачивания жизни, а, наоборот, задает разрыв и промежуток в этом разворачивании, оно требует специальных усилий, специальных средств и специальной организации, т. е. осмысленного и энергичного действия.
3. Дальнейшее разворачивание представлений о событийности требует постановки вопроса, который на первый взгляд кажется парадоксальным. Это вопрос о строении и структуре самого того разрыва («промежутка») в естественном жизнетечении, который возникает при явлении идеальной формы. Самой постановкой этого вопроса я утверждаю, что недостаточно лишь разговора о «переходности» и «граничности», необходимо задать и «форму этой пустоты», т. е. соотнести все грани той ситуации, которая возникает и строится как событие.
Первая трактовка, связанная с обыденным, житейским пониманием события, от которой следует отказаться, это его представление лишь как «всплеска», «взвизга» бытия. Идет, например, человек по улице, и вдруг что-то случается — внезапно что-то падает с большим шумом, или скрежещут тормоза машин, или нечто иное в этом роде. И, естественно, человек останавливается и разворачивается по направлению к случившемуся. Говоря психологическим языком, событие в этой трактовке выступает как сильный и неожиданный стимул.
42
И действительно, почему бы не считать данную ситуацию подходящей под наше описание событийности? Ведь есть и явление чего-то доселе неявленного, и некий поворот естественного хода жизни, и связанное с этим поворотом указание на невозможность продолжения текущего функционирования, и разворот — свидетельство адресованности и воспринятости. В этой ситуации нет только одного — смысла, который задается тем, что является и открывается именно идеальная форма, а не сильный стимул, доселе бывший скрытым или вовсе не существовавший.
Убедительным примером является сама наша история. Две тысячи с лишним лет тому назад много всего случилось в Римской империи: были и войны, и политические интриги, и многое другое. Но лишь одно из всего этого удерживается всей европейской культурой как новое рождение и начало нового исторического времени, которое и поныне продолжается, причем удерживается то, что чисто фактически не было грандиозным потрясением тогдашнего миропорядка и даже вовсе не было происшествием, из ряда вон выходящим. Однако же получилось так, что реалию этой идеи очень многие люди ищут и пытаются обрести вот уже почти две тысячи лет.
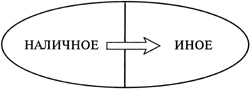
Рис. 1
Итак, событие вовсе необязательно связано с грандиозным переломом «объективной реальности». Вместе с тем его обязательным структурным элементом является необходимость перехода из одного в другой тип поведения, или, метафорически выражаясь, тип движения в жизни. И когда приводятся примеры всякого рода «сильных стимулов», то имеется в виду прежде всего именно это, именно необходимость остановки, поворота головы и изменения движения; имеется в виду ситуация, в которой проявляется недостаточность наличного функционирования. Схематически этот элемент структуры события можно изобразить как переход «наличное — иное» (рис. 1), где наличное изображается как условное «пространство» привычного функционирования; соответственно иное — как «пространство», требующее другого функционирования, а между этими «пространствами» находится выраженная
43
граница — метка перехода от одного к другому типу поведения.
Повторим еще раз, что этот переход, во-первых, не является достаточным для описания события и, во-вторых, его ни в коем случае нельзя принимать за нечто первичное и исходное по отношению к смысловому моменту событийности. Нельзя понимать в том духе, что сначала (исходно) уже есть указанный переход, а потом (и вследствие этого) возникает его идея. Может случиться и так, что смысловое начало перехода действительно сложится «потом», но это далеко не всеобщее правило. Пока что образцом того, что представлено на рисунке, может служить, например, переход от ходьбы по полю к ходьбе в густом лесу, где требуется другой тип передвижения и где сам этот переход явно выделен. Или, например, переход от передвижения по пляжу к плаванию в море.
Я уже указывал на то, что полнота структуры события задается не самим переходом «наличное — иное», а некой его особой осмысленностью, идеей этого перехода. Сейчас предстоит уточнить эту мысль.
Возвращаясь к примеру об уличном происшествии, я утверждаю, что, если бы оно выступило не просто как случай на улице, а самим своим фактом еще знаменовало нечто, находящееся за пределами его фактичности и фактуры, это было бы ближе к сути рассматриваемого нами явления. А если бы знамение и значение обнажали идею какой-то совершенной жизни, реалию, «этость» которой предстоит обрести, то было бы еще ближе. Например, простое падение на улице может предстать лишь как досадная оплошность, а может и как символ очень серьезного поворота, связанного с радикальным переосмыслением всего хода жизни. Это же самое можно утверждать и по поводу других примеров.
Итак, переход «наличное — иное» тогда является событийным, когда он означает (символизирует и манифестирует) переход к реалии, «этости» какого-то совершенства и полноты и соответственно сам означен именно как таковой, т. е. переход к более полному и более совершенному «движению в мире». Другими словами, переход «наличное — иное» должен совпадать с переходом «реалия — идея» (рис. 2).
Точно так же как сам по себе переход «наличное — иное» — лишь элемент структуры события, ее элементом является и взаимопереход «реалия — идея» («идея — реалия»): первое — это лишь воображение чего-либо, отрыв от данных обстоятельств, а второе, наоборот, проекция некой отвлеченной схемы в данную ситуацию. Единицей событийности выступает именно одновременность и взаимность двух указанных переходов, т. е. такой переход
44
от наличного к иному, который есть вместе с тем и взаимопереход реалии и идеи, и такой взаимопереход реалии и идеи, который вместе с тем есть действительно (а не мнимо), фактически (а не лишь воображаемо или мысленно) перемена обстоятельств жизни.
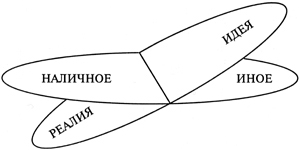
Рис. 2
В схеме события как совпадения двух переходов завершается представление об отношении реальной и идеальной форм. Эта схема задает структурную и смысловую полноту идеальной формы, которая не существует иначе, как в виде пересечения и совпадения двух переходов: между наличным и иным и между идеальным и реальным. Наша схема отвечает и исходной посылке: идеальная форма не существует иначе, как в явлении, т. е. такой «вещи», как идеальная форма, просто нет в мире. Схема события задает явление как способ существования идеальной формы.
4. Теперь нам предстоит убедиться в том, что выстроенная только что конструкция, во-первых, является интуицией и прообразом «жизненных реалий» акта развития (а не следствием произвольных умозрительных спекуляций) и, во-вторых, требует расширения границ понимания исходного способа «передачи» идеальной формы — опосредствования.
Для этого надо сделать следующее: а) указать на культурно-исторические практики организации жизни, которые являются способами построения событийности, и, если потребуется, расширить представление об опосредствовании; б) рассмотреть «складывание» схемы событийности на какой-либо реальной истории (например, онтогенезе) и выделить его фазы, т. е. фактически выделить исторический способ явления идеальной формы.
Фактически существующими «зеркалами», в которых отражена и видна реальность конструкции события, являются миф и волшебная сказка. Последнюю мы уже отчасти разбирали, а сейчас сделаем это более полно, используя работы Ю. М. Лотмана и В. Я. Проппа.
45
Итак, стержнем сюжета волшебной сказки (как и любого художественного текста) является, по Ю. М. Лотману [7], событие, которое состоит в пересечении границы между двумя «семантическими пространствами» (герой переходит из дома в лес, из одного царства в другое и т. д.). Между этими двумя пространствами существует выраженная граница (например, мост через реку, камень на перепутье или дом Бабы Яги). Ее выраженность заключается в том, что сам переход требует особых действий: это может быть бой, остановка и размышление, отгадывание загадок. Сказка (и миф) предполагает очень простую «географию»: есть два пространства, одно из которых обыденно и привычно для героя, а другое определено лишь тем, что пребывание в нем явно и властно требует иных способов «движения».
Однако для понимания сути сказки этой «географии» недостаточно. Понятно ведь, что дело не в самих по себе боях и отгадках, а в том, что переход из одного пространства в другое требует от героя особых качеств и способностей, которые заданы как полнота совершенства. С героем происходит метаморфоза (чудо), он перевоплощается в совершенного человека, т. е. обретает реалию, плоть совершенного существа. Утрируя и огрубляя, можно сказать, что все переходы «наличное — иное» в сказке «выстроены» лишь затем, чтобы акцентировать и выделить акт преображения и перевоплощения героя — осуществление им собою совершенства.
Какой же реалии человеческого поведения отвечает сказка? Что она отображает? Что она может «амплифицировать» (по М. Мамардашвили) и в этом смысле опосредствовать?
Отмечу, что вопрос об опосредствующей функции сказки тем более актуален, чем более выражено стремление ее дидактизировать, например, используя для формирования «морально правильного» поведения и «морально хороших» качеств1.
Разумеется, можно экстрагировать из сказки моральные нормы и образцы поведения. Более того, некоторые (в особенности современные авторские, а не традиционные) сказки прямо-таки провоцируют на это. Однако в том ли суть и значение сказки и особенно волшебной сказки, чтобы служить источником образцов поведения?
В работе «Исторические корни волшебной сказки» [11] В. Я. Пропп показал, что историческими корнями сказочного сюжета являются обряды и ритуалы (обряды инициации, брачные обряды и обряды погребения). Легко увидеть, что и в иных обрядах акцентирован именно переход из одних состояний и миров в другие; они строятся либо как имитация, либо как реальное воссоздание
46
подобных переходов. При этом понятно, что сам переход строится не как механический, естественный акт (в таком случае нечего было бы строить), а именно как переход в особую реальность особой идеи. Например, обряды инициации знаменуют собой переход на более зрелую возрастную ступень, т. е. к более высокому и совершенному способу жизни.
В культурно-исторической концепции, однако, подобные «символические устройства» (или, словами М. Мамардашвили, машины) не были замечены и отмечены. Но ведь всякая новая форма деятельности в той мере, в какой есть задача увидеть ее как новую, должна начинаться и начинается с ритуала. На втором году жизни ребенка это, например, высаживание его на горшок, еда за столом и с помощью ложки, прогулка, всегда в одно и то же время и по одной и той же событийной схеме. В шесть-семь лет это обряд прихода в школу, а также различные ритуальные действия при входе в класс и рассаживании по партам. Сами по себе эти действия не имеют прямого и существенного отношения к содержанию работы. У них иная функция — отделение этого содержания от много и тем самым выделение именно его. Даже такие простые и редуцированные обряды, как снимание шляпы перед входом в дом, имеют ту же функцию подчеркивания перехода в другой, иначе организованный мир. Но подобные ритуалы потому и редуцированы (правилосообразны), что этот переход не знаменует собой (в отличие, например, от обряда прихода в школу) превращения, преображения и перевоплощения в более совершенную персону и причастие к более совершенной жизни.
Ритуал — это и есть способ организации (построения) событийности, та первая форма, в которой обнаруживается новая реальность новой идеи. Его суть и смысл в знаменовании и свидетельствовании того, что «дальше», за «границей», которая им специально отмечена, «находится» некое совершенство, требующее перевоплощения. Видимо, именно потому, что структура ритуала почти полностью соответствует структуре волшебной сказки, В. Я. Пропп считал ритуал ее источником и прообразом.
Однако ритуал окажется таковым, если «за» или «внутри» очерченных им границ произойдет действительное перевоплощение: шаман действительно вызовет роды [5], молящийся действительно услышит Глас Божий, содержание последующего возраста действительно наступит, жених и невеста действительно станут мужем и женой, а ученик действительно получит «в руки» новое, важное и интересное содержание. И если это случится, то в новой деятельности идеальное содержание ритуала будет не только обнаруживаться, но и удерживаться и воссоздаваться как смысл, идея и прообраз этой деятельности, как то, в отношении к чему и где она есть, существует.
47
В представленном понимании сказки и ритуала для нас особенно важно одно обстоятельство. В той мере, в какой ритуально-символическая (или мифолого-символическая) культурная форма оказывается способом организации поведения (а она им оказывается), требуется изменение границ представления об опосредствовании вообще и о знаковом опосредствовании в частности. Возникает нужда в сопоставлении «работы» двух этих семиотических образований. Однако и без детального сопоставления интуитивно ясно, что это разные формы организации поведения, разные формы полагания его субъекта, и поэтому они «держат» разные содержания. Подробно различие между этими формами и содержаниями будет разобрано в следующей главе, а сейчас необходимо лишь констатировать, что в ритуале задаются область и сфера, составляющие контекст и смысл того, что будет строиться в действии. Выражаясь языком Д. Б. Эльконина, в ритуале задаются (адресуются действующему) те смыслы и задачи, которые впоследствии будут развертываться и разрешаться посредством определенного способа действия. Причем в виде смыслов и задач выступает не просто другая, а совершенная жизнь. Ритуал — это средство обнаружения и утверждения новых и совершенных замыслов и идей жизни. В том опосредствовании, о котором вели речь Л. С. Выготский и его последователи, имплицитно содержался другой аспект поведения — переход от уже как бы обнаруженного замысла и задачи к их осуществлению и разрешению. Понятно, что в этом втором случае и способ (техника) опосредствования должен быть иным.
Особое внимание необходимо обратить на возрастные обряды и ритуалы, которые связаны с переходом к последующей возрастной стадии и новому содержанию жизни. В так называемом традиционном сообществе эти обряды составляли неотъемлемую часть культуры [1]. Наиболее ярким из них является обряд инициации, связанный с переходом от детской к взрослой жизни. Несомненно, что возрастной аспект имеет и обряд первого причастия. До недавнего времени у нас в стране был очень ярко выражен обряд перехода к школьной жизни (1 сентября). Это те обряды, в которых взросление выступает как событие, а взрослость — как идеальная форма.
Было бы ошибкой, если бы чистая форма событийности — психологическая одновременность двух переходов (наличное — иное и реалия — идея) была бы понята как объективно заданная «машина» построения фактически исторических обстоятельств какого-то отрезка жизни, т. е. этот отрезок был бы представлен подобно упомянутой мною «географии» волшебной сказки вне и независимо от поведения самого живущего. На такое представление провоцируют слова о ритуале как культурной «машине», организующей жизнь, а также некоторые верные и простые фактические
48
наблюдения. Например, приход в школу действительно является переходом в другой, иначе устроенный мир, в котором фактическое разделение наличного и иного на самом деле имеет место. Но, как было уже подчеркнуто, это само по себе не предполагает разделения и объединения реалии и идеи и тем более не предполагает совпадения двух переходов, т. е. осмысления одного через другой. Всякий символ должен быть принят, т. е. опробован в своем значении. Подобное опробование и составляет реальную историю человека. И задача состоит в том, чтобы показать, что опробуется и ищется именно совпадение двух переходов, но опробуется и ищется, а не вдруг появляется в виде готовой структуры и «затягивает» в себя человека. Отмечу сразу, что в детской и возрастной психологии, строившейся в русле концепции Л. С. Выготского, нет достаточных данных на эту тему и нет их потому, что так называемая социальная ситуация развития специально не анализировалась и не структурировалась в аспекте соотнесения обстоятельств жизни ребенка и данности — заданности идеального — реального. Она рассматривалась более абстрактно и синтетично — в аспекте соотнесения объективного места ребенка в системе отношений и его представлений или переживаний об этом (Божович, 1968; Выготский, 1984; Леонтьев, 1981; Нежнова, 1988).
Я рассмотрю здесь достаточно бегло «складывание» социальной ситуации развития в критических возрастах, опираясь при этом на наблюдения К. Н. Поливановой [10], которой удалось понять течение кризиса в аспекте соотнесения реальной и идеальной форм и выделить фазы (этапы) его протекания.
Первую фазу кризиса К. Н. Поливанова характеризует как обнаружение идеальной формы, подчеркивая, что это еще формальное представление о ней. Таковы, например, представления 6-летнего ребенка о школьной жизни, которую он видит лишь со стороны ее внешней атрибутики: формы, учебников, «серьезных занятий» и т. п. Именно так в первой фазе кризиса представляется «более взрослая» и тем самым более совершенная жизнь.
Переходя ко второй, собственно критической фазе, прежде всего необходимо отметить, что критический период — это возраст, в котором начинает субъективно соотноситься то, что до тех пор «жило» в сознании как бы отдельно. Например, до подросткового кризиса жизнь в семье и жизнь в компании сверстников проходили несвязанно, как две разные сферы времяпрепровождения. Для подростка же характерно именно со-противо-поставление этих двух социумов и «пространств», перенос отношений, характерных для одного из них, в другое. Точно так же и 7-летний ребенок подчас начинает относиться к домашним, так или иначе ориентируясь на школьные отношения
49
со взрослым. Существенно, что одна из этих сфер отношений может быть охарактеризована как наличная и привычная, а другая — как идеализированная, лучшая, совершенная. Это одно наводит на мысль, во-первых, о том, что идеальная форма выступает как определенная практика, т. е. определенная практика начинает идеализироваться, и, во-вторых, о том, что эта идеальность проецируется на наличное и привычное, в результате чего последнее перестает быть таковым, а превращается в новую ситуацию, в которой ищется и опробуется реальность идеи. Следовательно, иное, как особое пространство, противопоставленное наличному, либо прежде, чем натурально возникнуть (быть «подставленным»), либо после своего фактического возникновения строится на наличном и из него самого. «Как ни парадоксально это звучит, — пишет К. Н. Поливанова, — ребенок начинает опробовать привычную систему отношений, привычную ситуацию» [10, с. 67].
Здесь и возникают конфликты, характерные для возрастного кризиса и связанные с границами утверждения новой, совершенной жизни внутри старой и привычной. Эти конфликты, по К. Н. Поливановой, характеризуют вторую фазу кризиса.
В конце этой фазы ребенок разделяет внешние препятствия и препятствия, связанные с его собственными возможностями, т. е. у него возникает рефлексивное отношение к ситуации, которое знаменует переход к третьей фазе — фазе поиска и обретения новой реалии: новой формы и средств деятельности, нового значимого другого и т. д. Эта фаза соответствует выходу из кризиса — построению новой социальной ситуации развития.
Для нас существенно, что если в первой фазе совершенная форма реальности лишь обнаруживается, то во второй и третьей она удерживается и воссоздается. В ее удерживании и состоит положительный смысл подчас острых конфликтных ситуаций и связанных с ними переживаний.
Итак, завершая беглое рассмотрение течения критического возраста, необходимо акцентировать следующее:
идею составляет не только и даже не столько некое представление, сколько определенная практика действий и отношений;
явление идеальной формы проходит две стадии: на первой она обнаруживается, а на второй утверждается, удерживается и воссоздается посредством попыток прямой проекции в наличную ситуацию;
при этом переход «наличное — иное» строится как преобразование самого наличного, которое выступает в качестве «пробного тела» идеи — того «места» и предмета, действуя в котором и с которым можно найти и утвердить реалию совершенства; в подобном
50
опробовании происходит «встреча» и взаимная увязка двух переходов, составляющих структуру события;
следовательно, переход «наличное — иное» не столько пространственный («географический»), сколько смысловой; как объективный (данный в ритуале) он осмысливается лишь в результате разграничения и преобразования самой наличной ситуации — преодоления в ней наличных форм жизни;
именно в этом смысле — преодоления наличной ситуации и наличных форм поведения и построения реальных опор желаемого совершенства (т. е. именно в смысле события как явления, обретения и удержания идеальной формы) — возрастной кризис является актом развития.
5. Сформулируем кратко основные положения о событии.
Идеальная форма есть то, что по своей сути не может пребывать, а может лишь сбываться — открываться и являться. Событие идеальной формы — это всеобщий способ ее существования. Акт развития и событие — синонимы.
Событие не есть продолжение каких-либо причинных или начало целевых детерминаций, не есть следствие и последствие чего бы то ни было. Идеальная форма является не вследствие стечения обстоятельств, а вопреки ему. В этом смысле событие — особая переходная форма жизни.
Переходность и недетерминированность явления идеальной формы связаны не со случайностью, а, наоборот, с необходимостью очень серьезных и специальных усилий по проявлению, удержанию и воссозданию идеальной формы — обнаружению и сохранению реальности идеи.
Переходность события не означает аморфности и бесструктурности. Событие — это такой переход от наличного к иному, который есть вместе с тем и взаимопереход идеи и реалии. Одновременность двух указанных переходов составляет ядерную структуру — единицу событийности.
Культурным способом и образцом «жизни на переходе» и соответственно способом осуществления событийности является обрядово-мифологическая (обрядово-символическая) форма. В обряде и ритуале содержится взаимосвязь двух переходов, составляющих структуру события.
Самого наличия обрядово-мифологической формы организации жизни недостаточно для описания живой, жизненно-исторической ткани события (акта развития). Эту ткань составляют специальные попытки осуществления идеи именно в наличной ситуации, а не за ее пределами. Наличная ситуация становится пробным пространством осуществления идеи — обретения ее реалии, и именно в этой
51
ситуации в итоге проявляются новые возможности и она оказывается разграниченной на «старую» и «новую». Подобное опробование и разграничение не могут проходить иначе, как преодоление и внешних ограничителей самой наличной ситуации, и ограничений собственного способа поведения. Именно поэтому жизненно-историческая плоть события неизбежно есть кризис большей или меньшей степени интенсивности. Лишь в кризисе рождаются субъектность акта развития и его действительные участники.
В последних словах заключен переход к следующей главе, названной «Посредничество», ибо, на мой взгляд, именно в посредничестве полно воплощена субъектность акта развития.
1. Артемова О. А. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. — М., 1987.
2. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. — М., 1986.
3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968.
4. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления. — М., 1965.
5. Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М., 1985.
6. Лосев А. Ф. Из ранних произведений. — М., 1990.
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970.
8. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М., 1990.
9. Нежнова Т. А. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 1988. — № 1.
10. Поливанова К. Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // Вопр. психол. — 1994. — № 1.
11. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л., 1986.
12. Слободчиков В. И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека // Вопр. психол. — 1986. — № 6.
13. Смирнова Е. О., Лагутина А. Е. Осознание своего опыта детьми в семье и в детском доме // Вопр. психол. — 1991. — № 6.
14. Стрелкова Л. П. Условия развития эмпатии под влиянием художественного произведения // Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста. — М., 1986.
15. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М., 1991.
16. Шеллинг Ф. В. Й. Собр. соч.: В 2 т. — М., 1987. — Т. 1; М., 1989. — Т. 2.
17. Эльконин Б. Д. Кризис детства и основания проектирования форм Детского развития // Вопр. психол. — 1992. — № 3—4.
18. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978.
19. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — М., 1989.
20. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. — М., 1984.
52
 2015-05-22
2015-05-22 1923
1923
