Родители – невротики воспитают своего ребенка невротиком, какой бы системы воспитания они ни придерживались. Эта поговорка психологов, к сожалению, навеяна реальной жизнью, хотя и звучит пессимистично. Ведь когда мироощущение взрослых окрашено тягостными предчувствиями, а воображение – тревожными ожиданиями, они не только окружают свой быт забором всех и всяческих опасений, но и превращают своих детей в «сосуд для проекции собственного бессознательного». Так что «мягко забитые», по выражению П.Ф. Лесгафта, дети вырастают чем-то похожими друг на друга [9]. Здесь срабатывает несколько механизмов. Во-первых, концентрация внимания на ограниченном круге впечатлений при их монотонной повторяемости всегда ведет к утрате способности самостоятельно управлять своими действиями. Во-вторых, удерживая ребенка при себе, взрослые невольно заставляют его приноравливаться к своим взглядам, вкусам, интересам, еще не нужным, непонятным и недоступным детской психологии. В-третьих, родители вместо того, чтобы переживать вместе с ребенком, начинают переживать вместо него, как бы присасываясь к его источнику эмоций, а не пополняя его. Естественно, воображение начинает играть явно неадекватную роль в развитии личности.
В младенчестве дети только радуются ежеминутному общению с взрослыми, особенно с родителями, так как присутствие матери исчерпывает их потребность во внешних впечатлениях. Темпы развития задатков личности притормаживаются, но «затисканные» дети не чувствуют себя несчастными. Дефицит самостоятельности еще не дает себя знать. Тревожность же перетекает и впитывается в душу незаметно (матери достаточно вытереть нос ребенку нервным движением, чтобы вся ее неуверенность в себе передалась ему полностью).
В дошкольном возрасте ощущение глухой враждебности мира становится отчетливее. Тем более, что родители могут изолировать ребенка от притока внешних впечатлений не только психологически, но и фактически. Лично я, уже будучи на склоне лет, до сих пор вспоминаю со жгучим стыдом, как мы – дети, приехавшие на лето в деревню, бегали в лес и поле мимо дома пастухов, где томилась наша сверстница, которую родители закрывали на ключ до своего возвращения со стадом. Бедный ребенок всеми силами старался заманить нас к себе, но нам было запрещено ходить в этот дом, так как пастухи считались чужаками. И хотя такой удел все-таки редкость, работая с детьми, время от времени приходится сталкиваться со случаями, когда родители-отщепенцы ведут вместе с ними очень замкнутую жизнь. Ну, а тех, кто зациклен на семье, вообще много среди невротиков. Дело в том, что именно в дошкольном возрасте просыпается интерес к рождению и смерти. Сейчас дети боятся, что близкие умрут, хоть и не понимают до конца, в чем это состоит. Но тревога есть. И если от родителей слишком многое зависит, если они – центр жизни, страх за них нередко приобретает невротическую окраску. Обкусывание ногтей, булимия, ночной энурез – нередкие спутники психической изоляции. Начинается закладка комплекса «живущего в норе».
В начальной школе многое зависит от успехов в учебе. Если все складывается хорошо, домашний ребенок становится любимчиком учителя и продолжает развиваться как бы в скорлупе отношений, напоминающих семейные. В частных школах, куда родители отдают своих детей, полагая, что тем в обычном коллективе будет не по себе, такой стиль отношений специально культивируется. Если же успехи сомнительны или вовсе недосягаемы, а система и среда не склонны к поблажкам, школа оправдывает уже впитавшиеся тревожные опасения. Дети стремятся инстинктивно сохранить примат семьи в оценке внешних значений, что только усугубляет отчуждение. В обычной школе учитель не может допустить главенства родительского мнения над своим, даже если бы этого хотел. В глазах остальных он – власть. Он уберегает от когнитивного диссонанса. Он не может быть не прав. У тех же, кто хотя бы исподтишка ориентируется на родителей, зреет чувство скрытого превосходства над системой. Тот зародыш позиции отщепенца, который в дальнейшем позволит скептически относиться к ожиданиям со стороны общества и государства. Пока все это выглядит как обидчивость и упрямство, не лишенные ипохондрической окраски (стремления склонить ситуацию в свою пользу, изображая болезнь). Как известно, «маменькины сынки» часто бывают симулянтами.
В отроческом возрасте индуцированная родителями невротическая предрасположенность обрушивается на них самих. Пренебрежительное отношение к системе (за счет прочного тыла) с готовностью конфликтовать с учителями и тревожное – к среде, где воображаемые страхи становятся вполне реальными, резко сузили возможность занять достойное положение в обществе. А это одна из основополагающих потребностей возрастной психологии. Вынужденные сидеть в «экологической нише» семьи, дети привычно ждут, что та возьмет на себя их проблемы, а она уже не в состоянии это сделать. Общение с родителями начинает напоминать отшельничество. И многие идут на это, лишь бы уберечь детей от испытаний реальной жизни подольше. В моей экспертной практике был случай, когда родители гордились тем, что их 12-летний сын целый год изо дня в день сидел с отцом и лепил с ним крепость из пластилина, за что дали какую-то премию. Когда же повзрослевший подросток оказался в совершенно нелепой криминальной ситуации из-за своей потрясающей неопытности (речь шла об убийстве), мать никак не могла понять, что плохого в том, что ребенка ограждали от дурных уличных примеров.
Естественно, столь эксвизитный случай явно нетипичен по результату, но как выразитель тенденции вполне соответствует психологии воспитания в изоляции. В душе отрока появляется и нарастает то, что в англоязычной психологии называют термином splitting (утрату эмоционального интереса к реальным впечатлениям, перенос эмоций в воображение, замену общепринятых смыслов на индивидуально значимые). В отличие от
shisis, где ведущую роль играет патогенез, здесь речь идет исключительно о способе защитного поведения на неправильное воспитание. Так закрепляется позиция отщепенца. А поскольку за пределы семьи выйти становится все труднее, родители из потребителей, паразитирующих на детских эмоциях, превращаются в доноров, а дети – в требовательных эгоистов, ревностно следящих за тем, чтобы те не расходовали свои чувства на стороне.
В подростковом возрасте перенос локуса контроля внутрь личности и отрыв самооценки от уровня притязаний с готовностью истолковывать небрежное отношение к себе со стороны окружающих как враждебное завершает свое формирование. Реакция эмансипации, будучи не в силах вырваться за пределы «экологической ниши», направлена на укрепление ролей-статусов. Роли-функции, маневрировать которыми нет навыка, игнорируются как малозначимые («я такой – какой есть и отстаньте от меня»). Роли-принципы, лишенные первой линии обороны, оказываются уязвимы, что заставляет выстраивать дополнительные редуты из снобизма. Материала хрупкого, но легкодоступного. А поскольку потребность в социальных экспериментах все-таки подогревается спонтанностью, «домашние дети» могут оказаться наивно доверчивыми или безрассудно смелыми (от незнания) в чуждой по духу и враждебно настроенной среде. Понятно, что первые же столкновения с безжалостной и целесообразной жизнью заставляют большинство из них возвращаться в обстановку привычной социальной изоляции. И семье приходится становиться ареной приобретения опыта межличностных столкновений. Недостаткам близких людей придается слишком большое значение, а на утрясание конфликтов с ними уходит очень много сил. Бесконечное самокопание и внутрисемейная рефлексия закладывает прочный фундамент отчуждения в отношениях с людьми, не утратившими здравого смысла в оценке масштабов жизненного пространства и склонных воспринимать подобную драматизацию как занятие мелкое и ненужное. Став взрослыми, люди, выросшие в обстановке семейной изоляции, сохраняя о себе благоприятное мнение и даже излишне самоуверенные в привычном кругу, зачастую оказываются некстати в обычной жизни, где никто не хочет принимать их соответственно притязаниям.
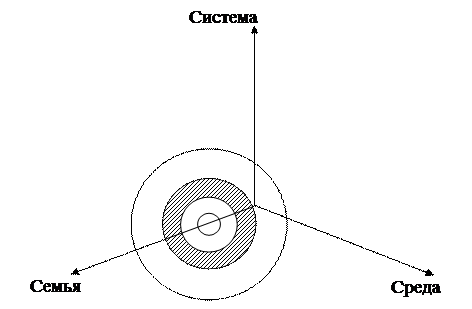 Прибегая к схеме, с помощью которой мы экономим текст, специфику характера можно представить себе следующим образом:
Прибегая к схеме, с помощью которой мы экономим текст, специфику характера можно представить себе следующим образом:
Роли-статусы мы закрасили более темной штриховкой, чтобы показать их приоритетное значение в структуре личности. С учетом того, что смыслы поведения будут формироваться преимущественно в сфере семейных ценностей, и даже включать в себя элементы психологической защиты по типу экологической ниши. Естественно, спонтанность, лишенная возможности дойти до уровня функций, где она распыляется на игру условностями, будучи реализована на уровне статусов, драматизирует значение лично значимого (признаваемого лично значимым). Человеку свойственно создавать психологическую защиту из традиций, верность которым позволяет ему чувствовать себя увереннее в себе. Так закрепляется позиция отщепенца, который видит свое преимущество в готовности признать свою никчемность перед официальными ожиданиями со стороны государства и общества, чем возвыситься над «презренной пользой». Это залог и способ психической средовой адаптации, пока жизнь не заставит всерьез считаться с интересами окружающих. Например, когда любовь придет в конфликт с установками.
Успех видится вдали от долга и ответственности, а угроза перераздражения располагает к аддиктивному уходу от действительности и стремлении отгородиться, так как выигрыш не имеет значения (по М.Люшеру).
Преобладает тенденция переносить вовне то, что создано воображением с иллюзией достижения и вытеснением отрицательного результата, игнорирование потребности в общении с позиций ранимости, упрямства, зависти к чужим успехам (по Л.Зонди).
Сочетание отсутствия критики с грандиозностью самооценки (по Н.Мак- Вильямс).
Позиция взрослого человека с комплексом отщепенца выглядит как деинституализация.
Скромных отщепенцев не бывает, разве что застенчивые.
Отщепенцы – те, кого, по словам Ф. Ницше, «всякая общность принижает», и они «не желают принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а также реализовать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях» (по Ю. Клейбергу) [10]. При этом далеко не всегда, а чаще и вовсе без того, чтобы быть сильно угнетаемыми, обиженными или брошенными на произвол судьбы. Как отмечал А.Герцен, «самобытность еще не всегда есть вражда с обществом. Про тиводействие, возбуждаемое в человеке окружающими, – ответ его личности на влияние среды. Нравственная независимость человека – такая же непреложная истина, как и его зависимость от среды, с той разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознание – тем больше самобытность, чем меньше сознание – тем связь со средой теснее, тем больше среда поглощает лицо» [11].
Так бывает в обычной жизни, но поскольку мы берем к рассмотрению девиантное развитие личности, где обычные причинно-следственные отношения предстают в заостренном, гротескном варианте, то и остановимся на тех случаях, где это отчуждение предстает как психологическая защита от неблагоприятного стечения обстоятельств.
Почва – особенности психического склада, когда мир воспринимается без той убедительности, которая гарантирует уверенность.
Ситуация – социальная изоляция в детстве в кругу взрослых (семьи), которые настороженно относятся к миру из-за своей невротичности или отчуждения иного рода.
Паттерн – тонкая оболочка ролей-функций как причина тревожных ожиданий.
Драйв – переключиться в воображении на образ мира, подходящий как среда обитания и носитель ценностных ориентаций.
 |
Защита – уход в когнитивное пространство, освобождающий от аффилиативной напряженности.
Поход в мир воображения, чем бы он ни был вызван, всегда имеет следствием отчуждение не только от тех, кто «не своего круга», но и от людей схожей судьбы. Если отщепенцы и объединяются, то не столько по велению чувств, сколько в рамках некой более или менее отвлеченной идеи, чтобы вскоре схлестнуться на почве не менее отвлеченного противостояния. Мысль как источник чувств поворачивает вектор интересов внутрь личности, делая человека неимоверным эгоистом, равнодушным к живому социальному окружению. Слабость или даже отсутствие аффилиативной сплоченности можно проследить по многим примерам. Начиная
с исторических, когда носители сверхценных идей подвергали народ (в масштабах, которые были им доступны) страданиям, до обыкновенных невротиков, демонстрирующих в эксперименте по исслндованию аффилиативной заинтересованности полное равнодушие к позиции группы.
Самодостаточность делает такого склада людей довольно устойчивыми в привычных обстоятельствах, когда равновесие с обществом и собой достигнуто. Они прочно держатся за свои привычки, выстраивая образ жизни по модели крепости (снаружи бастионы мнений и предпочтений, далее стены социальных ориентаций, за которыми располагается башня принципов). Любое сближение с людьми на почве симпатий приобретает характер сражения, почувствовав неизбежность которого, предмет сердечной склонности, как правило, предпочитает уклониться от таких проблем. Постепенно общение с собой обретает своеобразную привлекательность, а желание выйти за стены окостеневших привычек становится все слабее. Чтобы попасть в маргинальную среду, где люди соприкасаются ролями-статусами (чем она и привлекательна), жизнь должна поставить отщепенцев в неординарную ситуацию, когда неконгруэнтность ситуации истощает приспособительные возможности. Устав от необходимости приноравливаться к тому, что не нравится, отщепенцы склонны к импульсивным реакциям отказа и разрушения, в результате которых вполне могут оказаться на обочине жизни. Диапазон здесь самый разный, от разрыва отношений с близкими «в один момент», до вполне реального покушения на жизнь «как снег на голову» для окружающих. «Все было как обычно, а он вышел в другую комнату и застрелился», – такую, или примерно такую, фразу мне приходилось слышать от примитивных умом, но упрямых характером вдов в своей экспертной практике. Естественно, в обыденной жизни речь идет о чем-нибудь попроще: внезапное увольнение без подготовки нового рабочего места; уход из дома, «срыв» в запой и т.п., по мотиву «потом хоть трава не расти» и «все как-нибудь образуется». Самовольное оставление воинской части больше других присуще именно семейно изолированным в детстве юношам с привычками отщепенца.
В маргинальном варианте отщепенцы ведут себя соответственно той защитной тенденции, которую характер впитал с детства. Бродяжничество (после того, как все брошено, а строить заново не хочется) выглядит как отшельничество, затворничество, отказ даже от тех примитивных институциональных схем, которые возникают в среде бомжей, не лишенных аффилиативной тяги к отождествлению с себе подобными.
Пьянство у отщепенев (в отличие от аутсайдеров) не пробуждает и не стимулирует аффилиативности. Будучи ориентировано на себя, оно вписывается в образ жизни, избранный человеком по собственному вкусу: ежедневное расслабление после тягостной неконгруэнтности; запой в предвидении социального «срыва»; сентиментальное сострадание к самому себе, оправдывающее пассивную бездеятельность и т. п. Об одном из вариантов писал С. Довлатов, чей текст я привожу по возможности без купюр. «Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует (здесь мы расходимся в истолковании термина, который для нас не метафора, а дефиниция и означает социальную дезинтеграцию – Б.А.). Сама их чужеродность – залог величия. Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению, многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высока. Ну и, конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора – алкоголь. Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу предрасположен. Алкоголь на время мирил меня с действительностью».
И, наконец, делинквентное поведение. В мотивы противоправного посягательства у отщепенцев просачивается очень своеобразное жертвенное начало, в форме ненужного риска, не вызванного и не оправданного обстоятельствами. Да еще при совершении деяния, не имеющего прямой выгоды. Например, если брать крайние случаи, кража у своих (крысятничество) относится к числу страшных грехов, начиная с детства, а в условиях уголовной субкультуры вообще смертельно опасно, и идут на него люди из числа отверженных. Каждый оперативный работник мест лишения свободы отлично знает, что о подготовке какой-то запрещенной акции ему донесут именно такого склада люди. Преступление не для того, чтобы отомстить или воспользоваться, вообще очень интересный феномен. Мотив, подталкивающий на него изнутри личности, как бы окрашен служением некому идолу, на алтарь которого приносится свидетельство своего пренебрежения земным. Особенно это бросается в глаза в поведении «безмотивных» убийц. Поражает бравада опасностью разоблачения на момент совершения преступления. Человек вроде бы хочет, чтобы его увидели, а после задержания (кстати сказать, именно тех, кто не особо скрывается, поймать бывает особенно трудно) никто (из тех, с кем мне приходилось работать) угрызений совести не демонстрировал и, скорее всего, их не испытывал.
Когда же речь идет о гражданском неповиновении, люди с психологией отщепенца обязательно доминируют среди тех, кто приносит жертву. Лишь потом, когда первый этап пройден, появляются аутсайдеры, готовые мстить всем и вся, изгои, которые не прочь поживиться, и остальные социально отчужденные элементы. «Социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки, вырвавшиеся из полицейских застенков, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты, – словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира нуждались в оружии, Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу – и революция вспыхнет» – понимали организаторы из числа идейных революционеров – воспитанных, образованных и состоятельных людей, чье прошлое ничем особенным не омрачалось (Д. Лондон «Мексиканец»). И если окинуть взором нашу недавнюю историю, мы увидим среди тех, кто готовил революцию, людей с прочными семейными традициями в детстве. Было ли это воспитание изолирующим, сказать трудно, для этого нет автобиографических указаний, но факт остается фактом: аутсайдеров из приютов и изгоев с улицы в среде нелегальной революционной организации замечено не было. А. Герцен не раз убеждал общественность не доверять тем, кто имеет в революции корыстный интерес, и в пылу полемики даже обзывал сторонников К. Маркса «серой шайкой». Новые времена лишь подтверждают старый опыт. Когда по ходу реформ и прочих преобразований требуются жертвы, на авансцену выходят люди с психологией отщепенца.
В истории нашей страны старообрядчество, жертвы борьбы с которым превышают потери самых тяжелых войн (не в смысле прямого уничтожения, а выведения из общества), много веков было неотъемлемой страницей нашей истории. И стоит вспомнить, что именно староверы придавали особое значение семейному воспитанию, отгораживая его не только от иноверцев, но и внутри своей общины не давая большой свободы детям. На сегодняшний день этот вариант социального отчуждения советской историей отнесен безоговорочно к дореволюционному прошлому, преданному забвению, но с точки зрения психологии он никуда не исчез. И по мере того, как возрождается официальная православная церковь, тесно спаянная с системой управления обществом, религиозное диссидентство, делающее ставку на семью, напоминает о себе все более ощутимо.
 2015-07-14
2015-07-14 898
898








