I
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
1Ч151\ 5-7567-0155-9 © «Аспект Пресс», 2001,2002.
Все учебники издательства «Аспект Пресс»
Эта книга представляет собой размышления о русской литературе XX в. Судьба автора сложилась так, что он впервые попал в университетскую аудиторию в качестве преподавателя литературной истории завершившегося столетия в разгар горбачевской перестройки, в эпоху разворачивающейся, набирающей силу гласности. В нашей профессиональной среде лавина задержанных публикаций художественных произведений, писавшихся «в стол» (а такими богато любое советское десятилетие) или же опубликованных на Западе и лишь тогда возвращавшихся к русскому читателю, открывала, с одной стороны, невероятные ранее возможности принципиально нового осознания литературной истории в ее полноте (как наивны мы тогда были, полагая, что это так просто сделать). С другой стороны, каждый новый месяц, приносивший очередные номера «толстых» журналов, опрокидывал прежние литературоведческие концепции, сформированные в 30—80-е годы. Поэтому конец 80-х годов можно воспринять как романтическую эпоху литературоведения: научные коллективы, вузовские кафедры, критики и литературоведы собирались писать новые истории литературы и новые учебники взамен старых и безнадежно устаревших.
Однако романтическое мироощущение рубежа 80—90-х годов сменилось своего рода вакуумом второй половины последнего десятилетия XX в. Старые концепции не нужно было отрицать и ниспровергать, они не нуждались в таком ниспровержении, чтобы уйти из научного обихода; борьба не на жизнь, а на смерть с социалистическим реализмом во временной перспективе тоже оказалась борьбой с ветряными мельницами. А вот новых и авторитетных концепций не видно и по сей день. Сказалось, вероятно, невиданное сопротивление литературного материала, накопленного за целое столетие и обрушившегося на сознание живущих в его конце. Все эти сложности вполне прочувствовал и автор этой книги. Профессиональная деятельность часто ставила его в довольно затруднительные положения: во время лекции или семинара вдруг выяснялось, что продуманный совсем недавно литературоведческий «сюжет» вдруг дает трещину или просто разваливается, и на глазах у студентов лектор неожиданно для них и для себя обнаруживал необъяснимые, казалось бы, явления литературной жизни прошлых десятилетий. К счастью, такие ситуации обычно заканчивались совместными попытками найти объяснения необъяснимому.
Задача филолога, по меткому определению Л. В. Щербы, состоит в том, чтобы ответить на три вопроса: Что? Как? и Почему? И если на первые два — что и как? — ответы все чаще появлялись в книгах, периодике, в архивных публикациях, то на третий вопрос — почему? — отвечать было значительно сложнее. Готовых ответов не было (да и теперь почти нет), их приходилось искать, часто вместе со студентами. Эта книга — результат этих поисков, которыми автор хочет поделиться со своими читателями.
Кто эти читатели? Разумеется, каждый, кто пишет, думает о своем адресате. Кто он — колкий скептик, открывший книгу для того, чтобы отвергнуть ее? Или же наоборот, будущий единомышленник? Автор будет рад любому читателю и любому прочтению, хотя бы уже потому, что с вероятным читателем его объединяют общие интересы и общий объект рефлексии — русская литература, русская культура, русская судьба, как она складывалась в ушедшем столетии. Ведь вряд ли человек, равнодушный к ним, возьмет в руки это издание. К счастью, неравнодушных среди читающей публики большинство.
Этих людей условно можно разделить на две группы. С одной стороны, это те, кто профессионально связан с изучением русской цивилизации в XX в.: школьные учителя и вузовские преподаватели; гуманитарии-исследователи (историки, филологи, социологи, философы, политологи, культурологи); студенты-гуманитарии. С другой стороны, люди, прямо не связанные своей профессией и своим родом деятельности с русской культурой и историей XX столетия, но ощущающие свое «генетическое» родство с ней и не мыслящие свое бытие, социальное и частное, без укоренения в ее традицию. Поэтому перед автором стояла задача говорить о вещах, как ему представляется, достаточно сложных, не на «птичьем» языке филологической науки (который, кстати сказать, еще и не сложился в современном литературоведении, не оформился как достаточно авторитетный и общепризнанный), а на общедоступном современном русском языке, обладающем всеми возможностями для выражения любой, даже самой сложной, мысли. Это, однако, не значит, что автор стремился к какой-то необыкновенной веселости, легкости и популярности письма: уважение к собеседнику (а ведь читатель — тоже собеседник) предложи нет сохранение собственного речевого дискурса. Наивысшая степень уважения к собеседнику проявляется тогда, когда говоришь с
ним на том языке, на котором разговариваешь с самим собой. В противном случае ты не сможешь найти понимания или доверия ни у коллеги, ни у слушателя лекции, ни у студента. Наверное, и у читателя не найдешь.
Эта книга, конечно, не претендует и не может претендовать на то, чтобы закрыть все болезненные «почему?» нашей литературной и не только литературной истории. В ней, скорее, содержится попытка поставить вопросы, обозначить «странные» явления литературного процесса, увидев в литературе отражение нашей общей национальной истории.
Среди таких странных и алогичных явлений — существование русской литературы почти всего XX в. в русле трех подсистем: метрополии, потаенной литературы и диаспоры. Они развивались параллельно, часто в противопоставлении друг другу, но уходили корнями в общую историческую почву. Различие между ними было обусловлено конкретно-историческими обстоятельствами их возникновения и бытования. Каждая из них породила значимые литературные явления, но, скорее, вопреки деформированным условиям литературной жизни. Между тремя ветвями литературы не было естественного взаимообмена (или же он был весьма затруднен), творческого взаимодействия, являющегося источником художественного развития. Сам факт их сосуществования является странным и алогичным с точки зрения нормальных, естественных условий литературного развития.
Литература эмиграции создавалась в условиях, казалось бы, отрицавших саму возможность существования национальной литературы: иноязычная и инокультурная среда и крайне разреженный слой читателей, к которому, собственно, и обращается писатель. Но, рассеянная по всем континентам, русская диаспора сделала невозможное: она создала центры русской эмиграции (русский Берлин, Париж, Харбин, Прага) со своими издательствами, газетами, журналами, формами социальной и культурной жизни; вырастила целое поколение писателей, творческое формирование которых проходило уже за рубежом, в иноязычной среде; сформировала слой читателей, ощущавших себя русскими и сумевших целых два последующих поколения воспитать людьми, которые считали русский язык своим родным языком.
Две другие ветви национальной литературы развивались здесь, в метрополии, но их развитие было обусловлено принципиально иными обстоятельствами. Одну из этих ветвей составила потаенная литература, созданная художниками, которые не имели возмож-
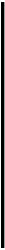 ности или же принципиально не хотели публиковать свои произведения — по соображениям идейно-политического характера. В конце 80-х годов, когда поток этой литературы хлынул на журнальные страницы, стало ясно, что каждое советское десятилетие богато рукописями, отложенными в стол — отвергнутыми издательствами, как это было с романами А. Платонова «Чевенгур», «Котлован» в 30-е годы, с поэмой А. Твардовского «Вам, из другого поколенья» в 60-е, написанными с надеждой на далекую посмертную публикацию, как в случае с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова, утаиваемыми, заучиваемыми наизусть автором и его сподвижниками, как «Реквием» А. Ахматовой, или же рассказы, повести, драмы А. Солженицына.
ности или же принципиально не хотели публиковать свои произведения — по соображениям идейно-политического характера. В конце 80-х годов, когда поток этой литературы хлынул на журнальные страницы, стало ясно, что каждое советское десятилетие богато рукописями, отложенными в стол — отвергнутыми издательствами, как это было с романами А. Платонова «Чевенгур», «Котлован» в 30-е годы, с поэмой А. Твардовского «Вам, из другого поколенья» в 60-е, написанными с надеждой на далекую посмертную публикацию, как в случае с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова, утаиваемыми, заучиваемыми наизусть автором и его сподвижниками, как «Реквием» А. Ахматовой, или же рассказы, повести, драмы А. Солженицына.
Третью ветвь русской литературы XX в. составила советская литература — та, что создавалась в нашей стране, публиковалась, находила сразу же выход к читателю. Но условия ее развития были не менее драматичны. Именно эта ветвь испытывала на себе самое мощное давление политического пресса. Литература оказалась подчинена государству.
С точки зрения всех законов литературного развития, само существование трех мощных литературных подсистем, создававших русскую литера гуру XX столетия, представляется немыслимым: они были лишены естественного взаимодействия, возможности обмена накопленным опытом, взаимного влияния, общего слоя читательской аудитории.
Помимо этого алогизма литературного процесса первая треть столетия изобилует еще многими странностями. Одна из них — смена художественных парадигм, приведшая к вытеснению художественного кода рубежа веков, заданного эстетикой модернизма (в первую очередь, символистской эстетикой), «художественным языком» социалистического реализма, утвердившегося к началу 30-х годов. Смена эта, обозначившая отказ от результатов «художественной революции» рубежа веков, произошла очень быстро — в течение одного десятилетия.
Казалось бы, проще всего объяснить эти явления и сам характер деформаций, который испытывал на себе литературный процесс советского времени, можно было бы обстоятельствами вне-литературного, социально-политического плана. В самом деле, характер литературного процесса советского времени определяют новые отношения между литературой и властью. Советская власть с самого начала была склонна рассматривать литературу как явление партийно-государственной жизни. Литературе навязывались не
свойственные ей пропагандистские и идеологические функции. В результате возникла и реализовалась идея партийно-государственного руководства всеми формами литературной жизни. Политическое давление, которому литература подверглась с первых и до последних дней советской власти, деформировало органичный, естественный процесс литературного развития.
Однако подход к литературному процессу с точки зрения обстоятельств экстралитературного, социально-политического плана не может быть признан единственно возможным и исчерпывающим. Ведь литература несла в себе и стремилась реализовать внутренние, имманентные законы развития, обуславливающие потребность отражения и преображения действительности с точки зрения художественного сознания XX в.
Перед современным историком литературы (да и не только филологом, но перед любым гуманитарным исследователем вообще) стоит задача выбора точки зрения на свой объект. Особенно это важно, когда речь идет о русской культуре XX в. Но возможна ли вообще одна-единственная точка зрения, способная дать исчерпывающее представление?
Ситуация рубежа веков (XX и XXI вв.) ознаменована не только множеством нерешенных проблем, своего рода идеологическим вакуумом гуманитарного знания, но и пониманием того, что не может быть одной единственно верной точки зрения (так же, как и одного единственно верного учения). Это тоже результат научного развития XX столетия, имеющего не только философскую, но и несомненную этическую достоверность и ценность. Ведь именно XX в. привнес в научную методологию мысль о невозможности существования одного-единственного языка, описывающего явление. Идеи А. Эйнштейна, поставившего основополагающие константы мира в зависимость от точки зрения наблюдателя, теория хронотопа М. М. Бахтина, раскрывшая объективно-субъективный характер взаимосвязи времени и пространства в художественном произведении; исследования микромира, открытие Н. Бором дуализма «волна-частица», показавшее, что именно точка зрения исследователя-экспериментатора определяет характер поведения физического объекта (одно и то же физическое явление ведет себя то как частица, то как волна, и разница определяется именно позицией исследователя, а не состоянием объекта), предопределили мысль о дополнительности разных точек зрения — в том числе и в сфере гуманитарного знания. «Представление о возможности одного идеального языка как оптимального механизма для выражения реальности является иллюзией, — писал Ю. М. Лотман. — Минимально работающей структурой является наличие двух языков и их неспособность, каждого в отдельности, охватить внешний мир»1. Мысль о необходимости нескольких точек зрения для адекватного восприятия истории, культуры и литературы стала основополагающей не только для поздних работ Ю. М. Лотмана, но и для тарту-ско-московской школы2 — вероятно, последней школы отечественного литературоведения, созданной в XX в., а потому итоговой, завершающей его методологические искания.
Сколько же существует точек зрения на литературные итоги XX в.? К сожалению, не так много, что может показаться достаточно странным. Еще раз вспомним, как на рубеже 80-90-х годов яростно сокрушались идеологические концепции советского литературоведения, но «новый взгляд»3, к которому, казалось тогда, так просто прийти, не увенчал литературно-критические итоги XX столетия. Повторим еще раз то, что представляется очевидным: из множества написанных за последние десятилетия статей и книг (при всей важности и актуальности многих из них) обобщающая и авторитетная точка зрения на литературный процесс, на историю культуры, на политическую историю XX в. так и не сложилась.
Одно из заблуждений рубежа 80-90-х годов было связано с тем, что ученые и критики не поставили перед собой задачу выхода из прежней, сформированной в советском литературоведении идеологической парадигмы, остававшейся практически неизменной с середины 30-х годов. Она определялась теорией социалистического реализма, создание которой началось в 1932 г., после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», а завершилось уже в 50-70-е годы, в работах А. И. Метченко, А. И. Овчаренко, В. И. Иванова. Поэтому смертельная борьба против социалистического реализма рубежа 80-90-х годов была, по сути дела, попыткой преодоления прежних, «тоталитарных» идеологем, которые заменялись новыми, «демократи-
1 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 9.
2 Лотман Ю. М. Изъявление Господне или азартная игра?: Тезисы к семиотике
русской культуры (Программа изучения русской культуры)//Ю. М. Лотман и тар-
туско-московская семиотическая школа. М., 1994; Успенский Б. А. История и семио
тика; Шзтопса §иЬ $рес1е 5етюгюае//Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. 1. Семи
отика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
3 История советской литературы: новый взгляд: В 2 т. М., 1990.
ческими» (Ю. Буртин, В. Лакшин, В. Кардин, И. Золотусский, Н. Иванова). Если бы общественный интерес к литературе и литературной критике не иссяк, то, возможно, «демократическая» тенденция и смогла бы сформировать новые парадигмы, пригодные для описания литературной истории с иной, например, эстетической, точки зрения. Этого, как мы знаем, не произошло и «эстетическое» направление литературной критики не сложилось.
Казалось бы, русская литература XX в. дает богатый материал и ддя продолжения традиции философской критики и публицистики - традиций В. Розанова, Н. Бердяева, Г. Федотова, И. Ильина. Но и эта возможность не реализовалась: книги, сборники, статьи, семинары и конференции, посвященные М. Булгакову, А. Платонову, Е. Замятину, Л. Леонову, В. Набокову, позволив приблизиться к пониманию творческого и философского наследия этих художников, не дали (как пока еще видится) оснований для обобщений литературного пути в целом.
Следовательно, не найдены еще те точки зрения, сопоставление которых дало бы возможность приблизиться к пониманию той сложной системы, которую являет собой литература XX в., и не выработаны еще те метаязыки, которые могли бы адекватно ее
описать.
Между тем, поиски их необходимы. И чем больше точек зрения будет предложено, чем больше метаязыков будет создано, тем полнее предстанут перед нами литературные и культурные итоги
века.
Влияла ли политическая ситуация, государственное давление, «партийное руководство» на русскую литературу? Безусловно. Определяли ли ее развитие эстетические закономерности художественного сознания XX в., сформулированные художественным опытом Серебряного века, порожденные «художественной революцией» рубежа двух прошедших столетий? Разумеется. Стало быть, уже нельзя понять русский литературный опыт, минуя два принципа его описания: с точки зрения того, как проводилась государственная политика в отношении к культуре и какова она была, и с точки зрения собственно эстетических закономерностей литературного развития.
Однако возможны (и даже необходимы) и другие подходы. Один из них предполагает обращение к социокультурной ситуации, сложившейся с самого начала советского времени и в корне изменившей отношения в системе «читатель—писатель». Взаимодействие между этими двумя центральными фигурами литературного процесса стало качественно иным в 20-30-е годы, в чем отразилась социокультурная ситуация послереволюционного периода: новый читатель, пришедший в литературу и культуру и удобно, как ему показалось, расположившийся, сформировал свои собственные представления о литературе и повлек за собой появление совершенно невиданной ранее фигуры писателя.
Другой подход связан с восприятием литературы как одной из сфер воплощения русского национального характера. Соотносясь с предшествующим по принципу дополнительности, он рассматривает явления литературной и культурной истории XX в. как обусловленные некими корневыми чертами русской ментальности. Ее методологическую основу в контексте данной работы составляют труды Л. Н. Гумилева.
В данной книге автор постарался представить, как могут «работать» обе эти точки зрения, накладываясь друг на друга, взаимодействуя, создавая в конечном итоге стереоскопическую картину нашей общей истории.
Этим обусловлена и композиция книги. В первой главе речь пойдет о тех социокультурных процессах, которые привели к разделению единой некогда русской национальной культуры на две субкультуры, что явилось, по сути дела, национальным расколом. Процесс, начавшийся три столетия назад, с трагической непреложностью завершился в первой трети XX в. Две революции 1917 г. явились его результатом. Стоит задуматься, как все это отразила русская литература и какие изменения претерпела она сама. Поэтому основным объектом наших суждений станет история русской словесности первой трети ушедшего века, хотя часто, говоря о литературе или о партийной политике в отношении литературы, необходимо будет обращаться и к ситуации 40-50-х годов.
Во второй главе проанализировано то положение, в котором оказалась творческая личность в ситуации «культурного вакуума» 20-30-х годов, когда прежние художественные достижения были поставлены под сомнение и многие писатели стали «лишенцами» в пореволюционное время в результате появления нового читателя, «человека массы». Он принес с собой новые нормы и социального, и бытового поведения и потребовал для себя и нового писателя, и новой литературы. Новая читательская масса и породила тот социальный и культурный слой, на котором возник феномен социалистического реализма.
В третьей главе, посвященной исследованию соцреализма, акцентируется внимание на том, что формирование соцреалистического канона, завершившееся к середине 30-х годов, было обусловлено не только социокультурными обстоятельствами русской действительности, но и причинами собственно эстетического характера.
В четвертой главе речь идет о модернистской эстетике, которая на протяжении трех советских десятилетий противостояла соцреализму, создавая иную картину мира и формируя иное представление о человеческой личности, чем то, которое утверждалось советским каноном 30-50-х годов.
В заключении же предпринята попытка определить, предложила ли литература ушедшего века пути преодоления национального раскола. Это заставит нас обратитРАСКОЛ
Поиски точек зрения на русскую литературную историю XX в. с неизбежностью приводят к расширению контекста, в который исследователь пытается поставить то или иное художественное явление. Думается, что это не может быть контекст только лишь историко-литературный или же собственно эстетический. Эти контексты дополняются более широкими. Один из таких возможных широких контекстов будет найден, если рассматривать литературу как сферу художественного воплощения национального сознания. Возможно, что сам факт многосоставности и противоречивости русского национального характера высветит истоки уже описанных, но еще не объясненных явлений русской литературной жизни XX в.
История русской культуры XX в. — это история бесконечных внутренних расколов некогда единого национального культурного организма. Как будто некогда заложенные в него бинарные оппозиции вышли на поверхность именно в последнее столетие. Среди них — трагическое раздвоение русской культуры на метрополию и диаспору с их взаимной оппозиционностью и непримиримостью. Здесь и отказ от прошлого опыта, вылившийся в принципиальный разрыв советской литературы и в первую очередь литературы социалистического реализма с предшествующей гуманистической традицией, утвержденной XIX в. Именно в результате этого отказа от прошлого культурного опыта концепция революции, разрушительная и утверждающая насилие в отношении и отдельной личности, и общественных классов, и общества в целом, была принята абсолютным большинством советских художников.
Внутренние конфликты, содержащиеся в основании русской культуры, нашли и такое страшное проявление, как политические репрессии в отношении писателей, способных составить славу русской литературы и вполне лояльных к революции. Общую судьбу разделили писатели, пришедшие в литературу из самых глубин
народной жизни и воплотившие ярчайшие образцы русского народного самосознания (Н. Клюев, С. Клычков), и художники-модернисты (Б. Пильняк, Е. Замятин, К. Вагинов, О. Мандельштам).
Внутренние напряжения русской культуры проявились и в том, что на богатой почве двух последних столетий, составивших мировую славу русской цивилизации, развился квазихудожественный феномен, названный социалистическим реализмом, притом реализовал себя не только в литературе, но и в других искусствах. Не менее удивляет и его сосуществование с действительно художественными литературными течениями, реалистическими и модернистскими.
Все эти факты, перечень которых можно множить и множить, нельзя трактовать лишь как какой-то «зигзаг» русской истории. В литературной и не только литературной истории XX в. не было случайностей. В постоянных расколах проявляется некоторая закономерность, обусловленная целым рядом исторических обстоятельств существования русской нации, сформировавших и русское сознание.
Размышляя о трагических разломах русской истории нашего века и о самом главном из них — революции, И. А. Ильин, философ русского зарубежья, посвятивший все свои мысли России, писал: «Не подлежит никакому сомнению, что революция была срывом в духовную пропасть, религиозным оскудением, патриотическим и нравственным помрачением русской народной души», первой и самой главной жертвой чего стал сам русский народ, ибо «революции суждено было не удовлетворить вожделения русских масс, а разочаровать и образумить их . Народные же массы предались безбожному ожесточению, и лишь медленно, очень медленно, после распыления, разоружения и изъятия земли, начали понимать, что главный поход идет на них, что они сами обречены на небывалое рабство, на нищету и голод или просто на смерть»4. Характерно, что И. А. Ильин ищет объяснение не в исторической случайности или в характере той или иной исторической личности, но в глубинах русского национального сознания, в народной душе. Именно тем, что русская революция неслучайна, что ее истоки коренятся в народе, а характер предопределен какими-то важными, основополагающими чертами русского национального менталитета, философ объясняет тот факт, что «коммунистическая революция в России есть единственное в своем роде крушение и бедствие», что «ничего подобного человеческая история еще не видала».
4 Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. М., 1993. С. 219.
Раскол
«Русская идея»Какими же сторонами русского национального характера можно объяснить трагические повороты русской судьбы XX в.? Чем, когда и как были сформированы эти черты?
«Русская идея»
«Русской идее» посвящена огромная литература. К работам философского и культурологического планов, создававшимся в зарубежье и ставшим известными в последние годы в метрополии, присоединяются труды, написанные здесь и теперь. В них поднимаются самые разнообразные стороны русского сознания и русской культуры. Недаром автор очерка о самобытно-русской философии В. В. Ванчугов говорит о том, что уже «накопилось достаточно материала для создания междисциплинарной науки — «россиеведения»5, а в работе Н. Любомировой, посвященной магии русской хандры как особому состоянию духа, отечественному социальному знанию в конце XX в. предлагается создать науку «русское отчизноведение» с особой отраслью внутри нее — «хандроло-гии и хандрософии»6. Стремление рассмотреть все стороны бытия с точки зрения национального менталитета реализовалось и в книгах русского зарубежья. Авторы предисловия к сборнику «О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья» считают, что эмиграция создала «своеобразное культурологическое, философско-историческое, историке- и религиозно-философское россиеведение, образующееся на стыке истории, философии, социологии и богословия»7. В самом деле, в огромной литературе по «русской идее» речь идет о «русском мировоззрении» и «русской мысли» (С. Франк), о «лице России» (Г. Федотов), о «русском духе», «русской душе», о «душе России» (Я. Бердяев), о «русском социализме» (А. Герцен) и «русском коммунизме» (Я. Бердяев), о «русской стихии» (Б. Вышеславцев), о «духе русской науки» (Я. Кареев), о «русской музыке» (В. Одоев-цев), о «тресоставности русской души» (С. Аскольдов), о «русской
5 Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-русской». М., 1994. С. 8.
6 Любомирова Н. Магия русской хандры//Параллели (Россия — Восток — За
пад): Альманах философской компаративистики. М., 1991. Вып. 1. С. 32.
7 Маслин М. А., Андреев А. Л. О русской идее. Мыслители русского зарубежья о
России и ее философской культуре//0 России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 11.
культурной традиции» (Я. Милюков). Может показаться, что на протяжении последних двух веков создается некая мифология, своего рода «национальная метафизика», предмет которой — некая сущность, воплощенная в русском народе. Пути исследования этой сущности и ее методология тоже весьма различны: Е. Троицкий говорит о «русской идее» в публицистическом ключе, выстраивая свои обобщения на материале литературы 60—80-х годов8, а Б. А. Успенский исследует русское сознание и его проявление в языке, в литературе, в истории в культурологическом аспекте, характерном для тартуско-московской семиотической школы9. В этом же ключе работал и Ю. М. Лотман10.
Говорить о завершенности исследования сущности «русской идеи» невозможно, ибо «процесс умопостижения России не завершен и, скорее всего, незавершим»11. Трудно даже сказать, что выработаны некоторые положения, которые признавались бы всеми участниками научной разработки проблемы. В середине 90-х годов Д. С. Лихачев выступил с идеей, которая разбивает незыблемые, казалось бы, представления о противоборстве и единстве внутри русской культуры западного и восточного начал, на чем и строятся все положения евразийства. Лихачев утверждал важность для русской истории и менталитета совсем иной оппозиции: не «Запад — Восток», а «Север — Юг»12.
Единственное, наверное, в чем сходятся все, писавшие о «русской идее», русском характере, культуре — ее внутренняя оппозиционность, противоречивость, двусоставность или многосостав-ность.
Именно эта многосоставность и противоречивость русского сознания будет нас интересовать. Мы попытаемся остановиться на некоторых корневых чертах русской ментальности и показать, какими историко-культурными обстоятельствами они были обусловлены. При этом задача наша несколько упрощается благодаря тому, что само понятие менталитета или ментальности уже сложилось
8 Троицкий Е. Возрождение русской идеи. Социально-философские очерки. М.,
1991.
9 Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культу
ры. М., 1994.
10 См.: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
11 Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-русской». С. 8.
12 См.: Лихачев Д. С. Нельзя уйти от самих себя... Историческое самосознание и
культура России//Новый мир. 1994. № 6.
Раскол
«Рв современной культурологии13. «Ментальность, — пишет А. Я. Гуре-вич, — социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлектированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков. Идеи на уровне ментальности -ти — это не порожденные индивидуальным сознанием завершенные в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей определенной социальной средой, восприятие, которое их бессознательно и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает. Ментальность образует свою особую сферу, со специфическими закономерностями и ритмами, противоречиво и опосредованно связанную с миром идей в собственном смысле слова, но ни в коей мере не сводимую к нему»14. Совершенно очевидно, что ментальность как одна из форм проявления национального характера складывается в течение столетий под воздействием определенных факторов исторического, социального, географического, этнокультурного характера.
В литературе, посвященной «русской идее», выделяются некоторые, ставшие уже общепризнанными, ключевые моменты, формировавшие русский характер и сделавшие его таким, какой он есть. Выделим два, наиболее актуальных в контексте этой работы. Один — пространственный, определенный географическим положением, «вмещающим ландшафтом» (термин Л. Н. Гумилева), другой — временной, связанный с историческим моментом.
Важнейшая черта вмещающего ландшафта — это, в первую очередь, знаменитая бескрайность русского пространства. Возможность практически бесконечного движения по евразийскому континенту и колонизация русского Севера и Востока, занявшая несколько столетий, сформировала черту, без которой нельзя представить себе русское сознание: мессианизм, ощущение незыблемого права и долга познания некой великой истины, воплощения ее в реальность и передачи ее другим. Естественным следствием мессианизма является утопичность: универсальная идея мессианского переустройства бытия не может не быть утопической.
Исторический момент, по всеобщему мнению, связан с эпохой Петра Великого. Коренная переориентация на Запад прервала, по мысли некоторых философов, естественный русский путь, нарушив исконные, природные закономерности исторического развития и деформировав национальную судьбу. Их оппоненты утверждают органичность Петровских реформ и их неизбежность и позитивность для России. Но обе стороны едины в утверждении того, что реформы рубежа XVII-XVIII вв. создали в стране два противопоставленных общественных класса, разделили народ и дворянство, «почву» и «цивилизацию». Таким образом, нация поделилась на два противоположных лагеря, дистанция между которыми определялась не только имущественным или экономическим положением, не только принадлежностью к двум принципиально различным культурным традициям; она определялась наличием в противоположных лагерях двух разных типов сознания, уходящих в древность Московской и Киевской Руси; в конечном итоге она определялась двумя противоположными национальными генотипами, в равной степени укорененными в национальной исторической традиции: азиатско-деспотическим, идущим от Поля и Монгольского Ига, реализовавшимся в Московском царстве, и европейским, связанным с Киевским и Новгородским периодом русской истории, нашедшим свое продолжение в периоде послепетровском, петербургском.
Определенность русского сознания двумя противоположными генотипами, которые подчас причудливо переплетаются даже в мышлении одного человека, может многое проявить в русской истории нашего столетия.
Ключ к пониманию некоторых особенностей русского историко-культурного (и литературного) развития в XX в. могут дать исторические концепции, содержащиеся в книгах Л. Н. Гумилева. И хотя категории, вводимые Гумилевым, — «система» и «антисистема», «культурная аннигиляция», «химеpa», «химерическая культурная конструкция», «пассионарность» и «субпассионарность» — не являются общепринятыми, они, при всей их спорности, могут быть приложимы и к русскому историко-литературному материалу, принадлежащему, в частности, советскому периоду.
В историко-философских концепциях Л. Н. Гумилева подробно разработаны ситуации, возможные при встрече двух культур — культур этнически разных15. Чаще всего такое столкновение ведет ко взаимной аннигиляции культур и к возникновению на их месте антикультуры, которую он именует химерической культурой; она уродливо сочетает в себе, подобно химере, черты и той и другой, лишенные, однако, смысла и содержания, присущих им ранее16. Начинает формироваться химерическая идеологическая конструкция, вызванная к жизни столкновением несовместимых этнических (или не только этнических?) культур. Создается своего рода «система негативной экологии», стремящаяся «к уничтожению всего живого, всего прекрасного», к «аннигиляции культуры и природы». Она формирует особый культурный феномен, который Гумилев называет химерической культурой, или химерой.
И. А. Ильин, пытаясь осмыслить и объяснить внешнюю алогичность и беспрецедентность русской революции, дает публицистическое, но очень точное определение химерической конструкции, сложившейся на русской почве 20—30-х годов. Это определение как бы предугадывает выводы историка, относящиеся уже к иной эпохе и сделанные на ином историческом материале. «В прежние времена, — размышляет И. А. Ильин, — люди хотели власти и богатства — и из-за этого впадали в преступления и злодеяния. В наше время коммунисты, добившись власти и богатства, заняты истреблением лучших людей страны; они поставили себе задачу — уничтожить всех, кто мыслит не по-коммунистически, кто верует религиозно, кто любит родину; и оставить только своих рабов. Для этого они выдрессировали (и продолжают дрессировать) целый кадр,
13 Разработка категории ментальности связана с журналом «Анналы», изда
вавшимся в 30-е годы во Франции, и с «новой исторической наукой», школой,
сформировавшейся вокруг журнала. О ее методологии и высокой продуктивности
можно судить, например, по книге М. Блока «Апология истории или ремесло
историка» (М., 1986) или Й. Хейзенги «Осень средневековья. Исследование форм
жизненного уклада и форм мышления» (М., 1988). Труд М. М. Бахтина «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» заложил тради
цию изучения ментальности в отечественной науке. В современной русской куль
турологии выделяются книги А. Я. Гуревича (Категории средневековой культуры.
М., 1972, 1984; Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993), статьи
Б. А. Успенского, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, А. А. Зализняка. См. также: Куль
турология XX в.: Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2. С. 25—27; Мыльников А. С. О мен
тальное™ русской культуры: моноцентризм или полицентризм//Гуманитарный
ежегодник. СПб., 1996. № 1.
14 Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом
направлении в зарубежной историографии//Одиссей. Человек в истории (Иссле
дования по социальной истории и истории культуры). М., 1989. С. 115—116.
15 См.: Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. См. главы: «Отрица
тельные значения в этногенезе», «Биполярность этносферы».
16 «В химере господствует бессистемное сочетание несовместимых между со
бой поведенческих черт, на место единой ментальности приходит полный хаос
царящих в обществе вкусов, взглядов и представлений» (Л. Гумилев. Этносфера:
История людей и история природы. М., 1993. С. 533).
«Русская идея»
целое поколение палачей, садистов и садисток, которые и наслаждаются замучиванием невинных людей. И все это — во имя противоестественной химеры, во имя нелепой утопии, во имя величайшей пошлости, которая ничего не сулит людям, кроме обмана...»17
Антисистемы, описанные Л. Н. Гумилевым в истории цивилизации, даже если они разделены во времени веками и тысячелетиями, имеют обязательные для них общие черты, как раз и названные И. А. Ильиным. «Все антисистемные идеологии и учения объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей»18. Подобные учения призывают изменить мир, на деле разрушая его. Кроме того, в антисистемах преобладают люди с футуристическим ощущением времени, что, вероятно, и создает предпосылки для возникновения утопических концепций, формирующих особый «поведенческий синдром, при котором появляется потребность уничтожать природу и культуру»19.
Нетрудно заметить, что эти черты характеризовали революционное мироощущение с его устремленностью в будущее, с жаждой немедленной переделки мира, с желанием отряхнуть прах прошлого со своих ног. Отсюда вытекало неприятие мира насущного, выливавшееся подчас в ненависть. Бескомпромиссное желание разрушать в сочетании с отсутствием точного представления о том, что будет возведено на пустом месте после завершившегося разрушения, делает подобное сознание вполне утопическим. Право на разрушение сомнению не подвергалось, ибо прошлая жизнь мыслилась ужасной, будущая жизнь рисовалась в самых розовых тонах — с той лишь оговоркой, что куплена она будет ценой самых ужасных жертв. Но подобное знание никогда не может быть препятствием в реализации утопических проектов.
Такой взгляд на мир получил мощное художественное воплощение в советской литературе. Концепция революции, созданная столь разными художниками, какими были, например, Н. Островский и Б. Пильняк, А. Веселый и А. Фадеев, М. Шолохов и М. Горький, была едина и включала в себя две противоположные,
17 Ильин И. А. Одинокий художник. С. 218.
18 Гумилев Л. Этносфера: История людей и история природы. С. 494.
"Там же. С. 343-344.
?
Раскол
«Русская идея»
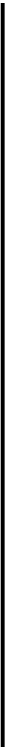 казалось бы, грани. С одной стороны, революция утверждалась как социальное потрясение тектонического масштаба, несущее в себе крушение привычных основ бытия (от бытовых, самых близких и теплых для человека, таких, как разрушение дома, до глобальных, вселенских). Оно сопровождается хаосом, насилием, кровью, жестокостью. С другой стороны, все это безоговорочно принималось во имя некого абстрактного прекрасного будущего, ибо за жестокостью и кровью крылся путь к новой, светлой и прекрасной жизни. Готовность совершить любое преступление против самых основ человеческой морали у нормальных, в сущности, людей, сознание которых поражено революционной идеей, потрясает современного читателя, ибо основой подобного типа сознания является чувство ненависти к реальному миру и желание во что бы то ни стало, перешагнув через любые жертвы, его уничтожить. Подобный тип мироощущения нашел свое художественное обоснование в эстетике соцреализма.
казалось бы, грани. С одной стороны, революция утверждалась как социальное потрясение тектонического масштаба, несущее в себе крушение привычных основ бытия (от бытовых, самых близких и теплых для человека, таких, как разрушение дома, до глобальных, вселенских). Оно сопровождается хаосом, насилием, кровью, жестокостью. С другой стороны, все это безоговорочно принималось во имя некого абстрактного прекрасного будущего, ибо за жестокостью и кровью крылся путь к новой, светлой и прекрасной жизни. Готовность совершить любое преступление против самых основ человеческой морали у нормальных, в сущности, людей, сознание которых поражено революционной идеей, потрясает современного читателя, ибо основой подобного типа сознания является чувство ненависти к реальному миру и желание во что бы то ни стало, перешагнув через любые жертвы, его уничтожить. Подобный тип мироощущения нашел свое художественное обоснование в эстетике соцреализма.
«Химерическая культура» несет в себе в уродливом, смятом виде черты тех культур, на месте которых она возникает. Они, однако, лишены прежнего содержания, сочетание их алогично и бессмысленно. Наиболее очевидна химеричность в подчас немыслимом переплетении формальных элементов, которое бывает даже комичным. Таковы, например, фигуры вроде античных на портиках высотных зданий 50-х годов, держащие в руках символы советского времени — молот, колосья, конструкторские чертежные инструменты — или же мраморные римские цифры, выложенные на фасаде, прочесть которые не всегда может и образованный человек. Но самым важным видится то, что они наполняются совершенно новым смыслом, чаще всего прямо противоположным исконному. Так, например, А. Фадеев, обращаясь к опыту психологического анализа Л. Толстого и заимствуя формально его приемы, вовсе не склонен следовать его гуманистической традиции. Напротив, в качестве гуманистических утверждаются идеи антигуманистические; «верх» и «низ» меняются местами; убийство оправдывается высшей социальной необходимостью; жестокость трактуется как добродетель.
Демьян Бедный и Ю. Либединский или же Вс. Вишневский и Л. Авербах не смогли бы состояться как факт русской литературной истории, а их этические и общемировоззренческие концепции не вылились бы в обстоятельства истории не только литературной, если бы они говорили только от себя. В их писаниях отразилось начало, живущее в русском народном характере, в равной степени свойственное как представителям «почвы», так и «цивилизации».
Эстетика социалистического реализма утверждала право личности или группы, «партии», на насильственное преобразование мира в целях его усовершенствования. Здесь, в сущности, и крылись причины безусловного приятия революционности как формы отношения к миру, характеризовавшие русское сознание начала века, что вылилось, например, в радостную романтическую приподнятость первых дней Февральской революции, о чем вспоминают буквально все очевидцы тех событий. Эта идея укоренилась в русской литературе 20—30-х годов, вероятно, потому, что была созвучна некоторым граням русского национального характера. Именно эти грани породили феномен, который можно назвать русской утопией.
Это удивительная русская способность утопического миропонимания! Воздвигнутая на таком прочном фундаменте, как мессианизм, вообще свойственный русскому человеку, утопическая идея стала основой эстетической концепции всей советской литературы и привела к формированию той эстетической системы, которая получила название соцреалистической.
Утопизм — крайнее выражение стремления к абсолютному и идеальному. Эту черту русского сознания очень точно охарактеризовал Л. П. Карсавин: «Русский человек не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью признает за таковой нечто совсем неподобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, православия или ереси. Если он подменит абсолютный идеал кантовой системой, он готов выскочить в окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего мира. Русский общественный деятель хочет пересоздать непременно все, с самого основания... Докажите ему отсутствие абсолютного (только помните, что само отрицание абсолютного он умеет сделать абсолютным, догмою веры) или неосуществимость даже только отдаленного его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и иействовать»20. Утопия как форма отношения к миру и базируется на подобном абсолютизме, является его идеологическим воплощением, требующим, однако, его немедленного реального воплощения.
В самом деле, сколько утопических концепций создала русская цивилизация только лишь в нашем столетии! Федоровская гуманистическая утопия, с одной стороны, и утопия коммунистически — с другой являют собой полюса утопического сознания нача-IIл XX в. Но при всей огромной дистанции между ними, при челове-
?'" Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея. СПб., 1922. С. 77—78.
Раскол
«Русская идея»
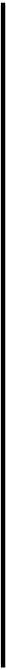
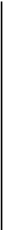 колюбивом и созидательном пафосе одной и при вполне разрушительном, как стало ясно к концу столетия, потенциале другой; при том, что одна родилась в сознании специфически русского философа, а другая пришла к нам с Запада, — в них есть некие общие начала. Именно благодаря им они утвердились в русском сознании, оказались созвучны русскому национальному характеру, были восприняты им как органичные для русской психологии.
колюбивом и созидательном пафосе одной и при вполне разрушительном, как стало ясно к концу столетия, потенциале другой; при том, что одна родилась в сознании специфически русского философа, а другая пришла к нам с Запада, — в них есть некие общие начала. Именно благодаря им они утвердились в русском сознании, оказались созвучны русскому национальному характеру, были восприняты им как органичные для русской психологии.
Утопия открывает какие-то корневые качества русского национального самосознания, в ней кроется специфически русский тип отношения к действительности, который характерен и для отдельного человека, и для нации в целом. Это проявляется и в способности усвоения русским сознанием самых различных утопических идей, привнесенных извне, и в способности их создавать, требуя немедленного их воплощения в жизнь.
Утопия как концепция, определяющая отношение личности и общества к действительности, предполагает существование либо в отдаленном пространстве, либо во времени, прошлом или будущем, идеального мироустройства, основанного на полной социальной и природной гармонии. Бытие там воплощает собой полное равновесие человеческого сообщества и природы, отношения между людьми — торжество добра и справедливости. Перед нами идеал совершенства, не поддающийся дальнейшему совершенствованию.
По мысли немецкого исследователя Г. Гюнтера, мировая цивилизация знает две фундаментальные модели утопий, отличных друг от друга по пространственно-временным отношениям. К первому типу относятся так называемые пространственные утопии (а слово «утопия» основывается на пространственном представлении), имеющие четкие геометрические формы — квадрата, концентрических кругов и т.д. «Симметрия геометрических форм, — пишет исследователь, — символизирует идеал совершенства, не поддающийся дальнейшему совершенствованию. Утопический город — это радиальное пространство вокруг сакрального центра. Городское пространство, его структура и заполняющие город объекты наделены определенным смыслом и эстетическими качествами, но гораздо важнее их функции, указывающие на высшее предназначение. Прекрасное и полезное образуют нерасторжимое гармоническое единство. Это относится не только к плану самого города, но и к универсально-космическому контексту, в котором он находится»21.
Иной тип утопии, более характерный для русского сознания, связан с локализацией идеала не только в далеком пространстве, но, что важнее, в отдаленной временной перспективе или ретроспективе. Если для пространственных утопий характерно циклическое время (реализованный в жизни идеал как бы обессмысливает поступательное движение времени, ему некуда больше двигаться, и оно либо останавливается, либо следует аграрному циклу), то «главный признак временных утопий — их стадиальность, т.е. структурное расчленение на необходимую последовательность фаз. Идеальное пространство сада или города может при этом выступать либо как начальное, либо как конечное состояние в последовательной смене времен. В обоих случаях независимо оттого, идет ли речь об идеальном изначальном или конечном состоянии, происходит остановка времени, возникает вневременное пространство, находящееся в противоречии со стадиальными «прыжками» времени»22.
Но за позитивной идеей гармонического природного и социального мироустройства, единственно на которой и концентрируется всегда утопическое сознание, стоит идея иная, далеко не всегда заметная, но страшная и разрушительная, предусмотренная самой логикой «царства обетованного». Сам факт его наличия в прошлом, в будущем или в настоящем (но в отдаленном пространстве) обесценивает наличную реальность. То, что есть сейчас, что реально существует и живет, безжалостно отвергается, ибо не соответствует идеалу. Утопическое мышление оборачивается жестокостью к реальному, неутопичному миру. Подобная жестокость особенно характерна для временной формы утопии, две разновидности которых рассматривает Г. Гюнтер. «Обращенный назад «деградивный» тип, для которого М. М. Бахтин употребляет понятие «историческая инверсия», исходит из идеального первобытного состояния, после которого наступают разные стадии ухудшения. За «золотым веком» следует серебряный, медный и, наконец, ныне длящийся век как самый тяжелый и наихудший», ибо он дальше всего отстоит от золотого. Будущее в подобной временной концепции вообще лишено смысла, а потому такая утопическая концепция носит явно жизнеотрицательный характер, что часто полает ее идеологическим основанием антисистемы. Но не более норспективной и жизнеутверждающей выглядит вторая разновид-
21 Гюнтер Г. Жанровые проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова//Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 253.
22 Там же. С. 254.
Раскол
«Русская идея»
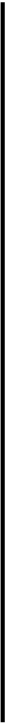
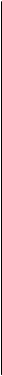
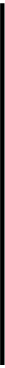 ность временной утопии. «Ориентированная на будущее «прогрес-систская» модель исторически значительно более поздняя и представляет собой в каком-то смысле проекцию в будущее мифической модели «золотого века», перенесение его в конец истории»23. Именно подобная утопическая модель оказалась реализована в эстетике соцреализма и стала одним из его конструктивных признаков.
ность временной утопии. «Ориентированная на будущее «прогрес-систская» модель исторически значительно более поздняя и представляет собой в каком-то смысле проекцию в будущее мифической модели «золотого века», перенесение его в конец истории»23. Именно подобная утопическая модель оказалась реализована в эстетике соцреализма и стала одним из его конструктивных признаков.
За этим стоит еще одна разрушительная, деструктивная особенность утопического сознания. Для человека, порабощенного им, реальный мир несовершенен в силу того, что в нем начала гармонические сосуществуют с элементами дисгармонии, добро сосуществует со злом, прекрасное с безобразным, юность со старостью, любовь с ненавистью. Но утопическое сознание не хочет и не может принять такой мир — в противном случае оно перестанет быть утопическим сознанием, приблизится к сознанию реалистическому. Сделать это, впрочем, очень трудно, ибо приятие реального мира таким, каков он есть, требует намного больше мудрости, чем любой проект его переустройства по законам добра и справедливости. Таким образом, утопическое сознание отказывает реальности в праве на существование.
Здесь коренятся причины русского максимализма, лозунг которого — или все, или ничего. Реальный мир отвергается на том основании, что он не полностью совершенен, и в этом его страшная вина. Даже А. Блок, художник удивительно чуткий к действительности и воплотивший один из самых глубоких типов русского сознания, нес в себе эту черту жизнеотрицания, которую чувствовал в себе, называл «угрюмством». Это состояние духа в работе современной исследовательницы Н. Любомировой квалифицируется как хандра — «хорошо известное, но труднообъяснимое состояние недовольства всеми и недовольства собой», «тоски, нигилизма, меланхолии, тревожного ожидания, гиперболизированного сарказма, раздражения, безнадежности, опустошения, а также — внезапной жажды подвигов, нервозной тяги к кардинальным преобразованиям, нетерпимости, склонности к простым и скорым решениям, идеологического энтузиазма»24. Автор цитируемой статьи полагает, что это мироощущение представляет одну из значимых граней национального менталитета: «Мы встречаемся с ханд-
рой как некоторым устойчивым для мироощущения последних двух столетий экзистенциальным состоянием нашего рефлектирующего соотечественника»25. Блок, может быть, выразил это мироощущение наиболее явно и откровенно.
В классической статье «Интеллигенция и революция» он писал: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой и прекрасной жизнью»26. Блок в ситуации революционной и неизбежно романтизированной воплощает чисто русскую черту: непонимание простой, в сущности, истины, что не бывает исключительно «чистой, справедливой и прекрасной жизни» и что та жизнь, которую вел он, свободный, свободомыслящий, обеспеченный представитель русской профессорской петербургской интеллигенции, приобщенной к самым вершинам мировой культуры, вовсе не была только лишь «лживой, грязной, скучной, безобразной», о чем свидетельствует небывалый расцвет русской культуры рубежа веков. Утопическое сознание, порождая максимализм, не оставляет реальности шансов быть принятой такой, какая она есть, и воспринимает ее как объект революционного воздействия, отказывая ей в самоценности. Блок, по сути дела, эмоционально отрицает концепцию эволюционизма, нормальный путь исторического развития, настаивая на разрушительном революционизме: «Зачем жить тому народу или тому человеку, который в тайне разуверился во всем? Который думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только Бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...
Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит .
Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас пого нет и долго не будет»27. В этих словах — одно из самых мощ-
23 Гюнтер Г. Жанровые проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова//Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 254—255.
24 Любомирова Н. Магия русской хандры. С. 32—33.
25 Там же. С. 34.
2ЬБлокА. А. Интеллигенция и революция//А. А. Блок. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. 1. 5. С. 399.
27 Блок А. А. Интеллигенция и революция. С. 400.
Раскол
«Русская идея
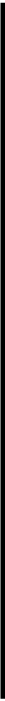
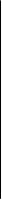

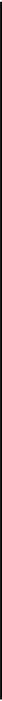

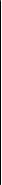
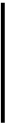 ных публицистических воплощений утопического сознания и русского максимализма — в сущности, страшных и разрушительных в отношении к действительности. Его разрушительность в утверждении футуристического отношения к жизни, в способности поставить на кон все, что сейчас есть, во имя того, чего нет и долго не будет.
ных публицистических воплощений утопического сознания и русского максимализма — в сущности, страшных и разрушительных в отношении к действительности. Его разрушительность в утверждении футуристического отношения к жизни, в способности поставить на кон все, что сейчас есть, во имя того, чего нет и долго не будет.
Однако русский утопизм имеет еще и свою специфику, связанную с мессианской стороной национального сознания. Если европейская литература, породившая утопию, представляла ее как начало, вовсе не требующее активного волевого акта со стороны человека или общества, ее принимающего, то на русской почве утопия требовала немедленного своего воплощения — здесь и теперь. Русское сознание не могло смириться с локализацией существовавшего или ныне существующего идеала в далеком пространстве или времени. Поэтому наиболее типичным стал «прогрессист-ский» тип временной утопии, и благородный утопический проект «золотого века» оборачивался насилием в отношении к миру насущному и даже его разрушением. Именно здесь и кроется психологическое обоснование концепции революции, выработанной советской литературой 20-30-х годов.
Готовность принять утопию характеризовала и «почву», и «цивилизацию», и народ, и интеллигенцию. «И в русском народе, и в русской интеллигенции будет искание царства, основанного на правде», — говорил Н. Бердяев28. Поэтому, когда при катастрофическом сближении двух русских субкультур (сначала в 1905 г., потом в 1917 г.) появилась политическая и идеологическая антисистема и сопутствовавшая ей химерическая культурная конструкция, в ее основании оказалась утопическая идеология, которая акцентировала не столько черты желанного идеального миропорядка, не поддающегося дальнейшему совершенствованию (черты его виделись на протяжении всего советского времени весьма приблизительно), сколько отрицание реального мира.
Неприятие существующего и желание его преобразовать и разрушить — вот что стало основой революционного миросозерцания, обосновывающего безусловное нравственное право на насилие в отношении к насущной действительности в целом или же к людям, стоящим на иных позициях, предлагающим иные проекты преобразований или же воспринимающим реальность как куль-
гурное наследие прошлых поколений русских людей и в принципе ме принимающих никаких преобразований. Здесь истоки личной и социальной непримиримости, приведшие в итоге Россию к гражданской войне.
Это мироощущение проявилось в литературе с фанатической неистовостью! Подобно тому, как древние религиозные учения, такие, как манихейство или богомильство, рассматривали мир лишь как творение сатаны и потому обрекали его на уничтожение, так и русский утопизм XX в. не оставлял права на жизнь насущному миру. Это было явно жизнеотрицающее мироощущение, несмотря на то, что оно основывалось на обращении в будущее, оправдывалось будущими прекрасными проектами. Само его возникновение обусловлено торжеством негативного, жизнеотрицающего сознания, порожденного формирующейся в начале 20-х годов антисистемой. В нем проявилась совершенно новая этика, которая никогда еще в столь циничной форме не была заявлена в литературе. Суть ее состоит в обесценивании реальности, того, что уже существует сейчас. Человек, оказавшийся во власти такой идеи, готов сжечь все вокруг себя во имя некого прекрасного, но совершенно абстрактного и недостижимого идеала, при этом изначально ясно и не подвергается сомнению превосходство идеала над действительностью. Здесь истоки революционного сознания: они — в неумении ценить то, чем уже обладает человек, общество, человечество. В сущности, здесь кроется невнимание к миру, неумение понять и оценить великий дар бытия, которое всегда реально в отличие от вымышленной идеи — сколь прекрасной она ни казалась бы. Это одно из самых страшных проявлений антисистемы, которая заставляет человека «искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно»29.
Она склонна к неразличению добра и зла, верха и низа, сакрального и профанного. Только тогда насилие и убийство, преображенные антилогикой, могут восприниматься как проявление гуманизма и высшей социальной необходимости. Но не подобные ли логические построения знала ранняя советская проза в лице, скажем, Либединского и Аросева? Не та же ли самая логика видится в «концепции гуманизма» в фадеевском «Разгроме», оправдывающей убийство и насилие высшей социальной необходимостью? В рапповской концепции личности «живого человека», ле-
 28 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 11. 26
28 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 11. 26
Гумилев Л. Этносфера: История людей и история природы. С. 352.
Раскол
«Две культуры»
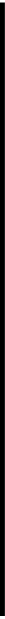

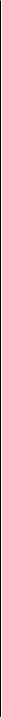 фовском «отчетливо функционирующем человеке», в голой абстракции Пролеткульта, предлагающей вместо имени цифровой или буквенный номер?
фовском «отчетливо функционирующем человеке», в голой абстракции Пролеткульта, предлагающей вместо имени цифровой или буквенный номер?
Размышляя об общих особенностях антисистемы, Л. Гумилев говорит, что их роднит одна общая черта — «жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни (в нашем случае она обесценена утопическим революционным идеалом. — М. Г.), значит, не перед кем держать отчет и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то... ложь равна истине и можно в своих целях использовать ту и другую»30. Именно в таком сознании «гуманизм» может обернуться жестокостью, сострадание — убийством, а жалость вытеснена псевдологикой. Здесь кроется основополагающая черта любой антисистемы: подвижность, незакрепленность неких исконных нравственных категорий, которая влечет за собой размытость моральных норм, неопределенность добра и зла, правды и лжи. Это предопределяет как бы зеркальность всех элементов, способность их ко взаимному замещению друг друга. В силу этого низменное (например, отце-предательство в притче о Павлике Морозове) оказывается возвышенным, возвышенное (религиозные убеждения, например) осмеивается.
 2013-12-28
2013-12-28 832
832








