Новая социокультурная ситуация. Характер литературного процесса советского периода во многом предопределен изменением социокультурных обстоятельств русской жизни после двух революций 1917 г. и последовавшей гражданской войны. Эти изменения отразились на важнейших для литературного процесса отношениях в системе «Читатель и Писатель».
В результате важнейших исторических событий второго десятилетия века изменился состав русских писателей и состав читательской аудитории, к которой они обращались.
Старый читатель, воспитанный на классике прошлого века или же на утонченной и изысканной культуре рубежа веков, ушел с авансцены. Миллионы людей, принадлежащих этому слою отечественной культуры, в большинстве своем оказались в эмиграции, полегли на полях гражданской войны. Оставшиеся же, получив имя «бывшие», вряд ли могли сколько-нибудь заметно влиять на литературный процесс. На авансцену выдвинулся новый читатель. С его фигурой во многом связано изменение самого характера литературного процесса.
Новую читательскую аудиторию составляли люди, оторванные ранее от культуры и образования и несшие в себе вполне естественное стремление приобщиться к ним. Именно эти люди составили многотысячную армию слушателей студий Пролеткульта, который на первом этапе своего существования мог приобщить их хотя бы к элементарной грамотности и дать им первые эстетические навыки. Но одновременно с этим позитивным началом новая читательская аудитория под воздействием официальной пропаганды и вульгарно-социологических концепций Пролеткульта, а затем и РАПП, прочно усвоила свое право на требование исключительно новой культуры и литературы, ибо дореволюционная литература была пронизана идеологией иных, враждебных, классов. Это внушило новому читателю право требовать и диктовать писателю, что и как писать, и право подозрительного и враждебного отношения к художнику, связанному с предшествующим этапом литературного развития. Это ничем реально не подкрепленное право быть носителем высшего литературного и культурного суда новый читатель пронес через всю советскую литературную историю: оно проявилось и в письмах к М. Зощенко, где его корреспонденты требовали отразить в рассказе тот или иной бытовой эпизод, и в письме «простого рабочего» А. Твардовскому в конце 60-х годов, в котором выражалось несогласие с литературной и общественной позицией «Нового мира». Так вошло в литературную жизнь поня-
6 - 4063
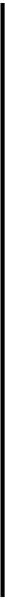 Культурный вакуум
Культурный вакуум
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
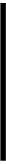 тие социального заказа, соответствующее мироощущению нового читателя.
тие социального заказа, соответствующее мироощущению нового читателя.
Схожие изменения произошли и в писательской среде.
Художники, принадлежащие традиционной художественной культуре, воспитанные на книгах XIX столетия, бывшие свидетелями и участниками художественной революции рубежа веков, уже не могли занять подобающего места в литературе 20-х годов. Писатели, сформировавшиеся до революции и определявшие направления творческого развития первых двух десятилетий века, как И. Бунин и А. Куприн, в основном разделили участь своей аудитории и оказались вместе с ней в диаспоре, осознав себя не в изгнании, а в послании, гордо неся свою миссию сохранения культурной традиции. Их участь разделили и те писатели, которые, будучи привержены традиционным художественным ценностям, заявили о себе, подобно В. Набокову и Г. Газданову, уже после того, как завершилась революция и война. Мы можем лишь гадать, как много будущих писателей погибло в исторических катаклизмах первых трех десятилетий XX в. Оставшиеся в России, как Е. Замятин, или же вернувшиеся из эмиграции, как А. Толстой, стояли перед выбором: измениться самим, подчинившись изменению политического и культурного климата (этот путь избрал для себя А. Толстой), или же быть в оппозиции, во «внутренней эмиграции», утратить право голоса, что и произошло с Е. Замятиным.
Но рядом с ними появлялся новый писатель, как бы делегированный в литературу новой читательской аудиторией, тоже участник гражданской войны, но уже из противоположного лагеря. Он обладал богатым жизненным и историческим опытом, и в этом смысле выгодно отличался от прежнего писателя. Именно опыт героического периода национальной жизни стал предметом его художественных рефлексий, в отличие от литератора предшествующего периода, предметом изображения которого была, по словам И. Бунина, сама литература Но, обладая жизненным опытом, он не имел опыта эстетического претворения богатого жизненного материала. Именно этот писатель занял в литературе описываемого периода лидирующее положение.
Такой литератор оказывался в довольно сложном двойственном положении: с одной стороны, испытывая элементарную нехватку литературного и культурного опыта, он стремился как бы компенсировать его отсутствие хотя бы самым элементарным приобщением к традиции, какое, например, подразумевалось выкинутым рапповцами лозунгом «учебы у классиков». Результатом та-82
кой учебы явился роман А. Фадеева «Разгром». С другой стороны, такой писатель, выдвинутый и ангажированный массой, приобщаясь к культуре, мог отдалиться от своей почвы и в перспективе потерять связь с ней. Подобная опасность тоже, вероятно, ощущалась новым писателем. Так появляется Демьян Бедный, вовсе не испытывающий дискомфорта от отсутствия какого бы то ни было элемента художественности в своих произведениях, зато чутко улавливающий социальный заказ и говорящий на одном языке со своим читателем, уверенным в том, что именно это и есть литература.
Двойственность этого положения, когда новый (да и старый) писатель оказывался между литературной традицией и массой, не знающей и отвергающей эту традицию, стала следствием социокультурной ситуации 1920-х годов. Это тот момент, когда в обществе, раздираемом противоречиями, в конфликт входят еще неис-чезнувшие обломки прежней культуры и элементы активно формирующейся новой. Условно этот момент, когда старые основания культуры рушатся, а новые еще не сложились, можно определить как ситуацию культурного вакуума.
Каково было положение художника в этой ситуации? Разумеется, он оказался перед выбором собственной культурной ориентации, которая захватывала буквально все сферы бытия — от политического, литературно-эстетического, религиозно-нравственного до бытового поведения. Он оказался перед выбором как бы двух полярных моделей литературного и личного бытия: либо следовать дореволюционной, «доварварской» традиции, либо же принять новые нормы, пока еще только складывающиеся, но во всем оппозиционные прежним, «элитарным, «высоким».
Размышляя о русской социокультурной ситуации XVIII в., Ю. М. Лотман говорил о поэтике бытового поведения русского дворянина, утверждая, что определенные формы обычной, бытовой деятельности сознательно ориентированы на нормы и законы литературы, т.е переживаются эстетически94. Каждодневная жизнь становится знаком литературного поведения. Это происходит потому, что на русской почве в Петровскую и Екатерининскую эпохи сталкиваются две культуры, несущие с собой два совершенно разных типа бытового (и литературного, культурного) поведения. Одно из них — нормальное естественное, единственно возмож-
94 Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века// Ю. М. Лотман. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1.
6*
Культурный вакуум
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
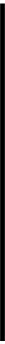 ное, несакрализированное. Ему не учатся, его нормы воспринимаются человеком с детства, оно усваивается само, как бы автоматически, как родной язык. Другое — торжественное, ритуальное, сакрализированное. Его изучают как чужое, по правилам грамматики, так, как изучали в Петровскую эпоху «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов повелением его императорского величества государя Петра Великого». Эти два типа бытового поведения были обусловлены столкновением на русской почве исконной национальной культуры и привнесенной Петром I европейской, которые воспринимались как цивилизованная и нецивилизованная. Положение русского дворянина, если он хотел участвовать в делах государственных, было достаточно трагичным: он стоял перед необходимостью усвоения нового и чуждого ему как бы европейского типа поведения. С точки зрения Ю. М. Лотмана, бытовое (и культурное, литературное) поведение становится семиотическим знаком жизненной позиции, обретает свою грамматику.
ное, несакрализированное. Ему не учатся, его нормы воспринимаются человеком с детства, оно усваивается само, как бы автоматически, как родной язык. Другое — торжественное, ритуальное, сакрализированное. Его изучают как чужое, по правилам грамматики, так, как изучали в Петровскую эпоху «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов повелением его императорского величества государя Петра Великого». Эти два типа бытового поведения были обусловлены столкновением на русской почве исконной национальной культуры и привнесенной Петром I европейской, которые воспринимались как цивилизованная и нецивилизованная. Положение русского дворянина, если он хотел участвовать в делах государственных, было достаточно трагичным: он стоял перед необходимостью усвоения нового и чуждого ему как бы европейского типа поведения. С точки зрения Ю. М. Лотмана, бытовое (и культурное, литературное) поведение становится семиотическим знаком жизненной позиции, обретает свою грамматику.
Человек, таким образом, оказывается в ситуации выбора: он может следовать тому или иному типу поведения, может на свой лад толковать тот или иной его вариант. В конце концов, он имеет возможность совмещать оба варианта, что может обернуться как комической, так и трагической стороной. Мало того, ситуация выбора предоставляет человеку возможность найти свое амплуа бытового (и культурного, литературного) поведения и утвердиться в нем. Амплуа получает семиотическую значимость, давая человеку возможность выбором его выразить себя и свою позицию в отношении к окружающему: приятия или неприятия, презрения или снисхождения и т.п. Таким образом, в русской культуре XVIII столетия формируется несколько амплуа: богатырь (Петр I, Потемкин), острослов, забавник и гаер (Марьин, герой войны 1805, 1812 гг., умерший от боевых ран, но заслоненный от современников маской-амплуа), российский Диоген, новый «киник» (Барков). Мало того, столкновение двух культур и привнесенных ими двух типов бытового и литературного поведения ставило человека в сложную и драматичную ситуацию выбора, но, с другой стороны, открывало перед ним возможность идти именно по своему пути — хотя бы совмещая два амплуа, например, богатыря и гаера, как это сделал А. В. Суворов.
Новая русская литературная ситуация второго десятилетия XX в. поставила человека (и художника) перед той же проблемой выбора и самоопределения — выбора своего амплуа. Это связано с тем,
что при всей огромной временной дистанции между эпохой XVIII столетия и начала XX в. их социокультурная ситуация оказывается но многом зеркальна. Ведь творческая личность, сформировавшаяся в предреволюционную эпоху, с неизбежностью воспринимала нормы литературного и литературно-бытового, салонного поведения рубежа веков с утверждаемой им этикой и эстетикой как свое, естественное, родное, то, чему не нужно учиться, а привнесенные нормы «человека массы» — как варварски чуждое. Как классово чуждое воспринимал предшествующие нормы пролетарский писатель, подчас нарочито отказываясь от них, порой тайно желая овладеть грамматикой чуждого поведенческого бытового и литературно-культурного языка, что получало иногда комически-эпатирующее звучание, как цилиндр С. Есенина или желтая кофта В. Маяковского.
Иными словами, писатель или литератор, принадлежавший как той, так и другой культуре, должен был выбирать, и, определяя свой тип бытового и литературного поведения, он неизбежно выбирал семиотически значимое амплуа. Социокультурная ситуация заставляла его сделать этот выбор. Подобно театральному амплуа, по мысли Ю. М. Лотмана, человек «выбирал себе определенный тип поведения, упрощавший и возводивший к некоему идеалу его реальное, бытовое существование... Такой взгляд, строя, с одной стороны, субъективную самооценку человека и организуя его поведение, а с другой, определяя восприятие его личности современниками, образовывал целостную программу личного поведения, которая в определенном отношении предсказывала характер будущих поступков и их восприятия»95. Разница состоит лишь в том, что если люди XVIII в. выбирали в качестве амплуа чаще всего персонажей поэмы или трагедии, определенное историческое лицо, государственного или литературного деятеля, то в 1920— 1930-е годы мы можем, скорее, говорить о социальных масках, ставших литературными и литературно-бытовыми амплуа. Естественно, что в его выборе проявлялась личностная и творческая сущность писателя.
Амплуа аристократа избрал для себя М. Булгаков. Подчеркнутое внимание к изысканной одежде, элегантному костюму, вполне реализованные в каждодневной жизни, извечные мечты об обу-
95 Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. С. 258-259.
Культурный вакуум
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
строенном быте и вальяжном, свободном, «профессорском» стиле бытия, выпавшие лишь на долю его героев, профессоров Перси-кова и Преображенского, с поездками в Большой на «Аиду» ко второму акту — все это указывало на совершенно осознанный выбор бытового поведения и своего литературного пути.
Другую крайность представляло амплуа, добровольно принятое на себя Вс. Вишневским — амплуа матроса — «братка», приходящего на репетицию своих драм в тельняшке или матросской шинели и выкладывающего на стол «маузер» — вероятно, для лучшего восприятия актерами и режиссерами творческих замыслов драматурга. Не имеет принципиального значения, был ли, действительно, пистолет атрибутом творческого процесса создания спектакля — важна легенда, подсказанная и сформированная принятым Вишневским амплуа.
Амплуа еретика взвалил на свои плечи Е. Замятин, при этом еретический пафос сомнения в утверждающемся «новом католицизме» был провозглашен и в публицистике, и в художественном творчестве.
Рядом с еретичеством в качестве жизненной позиции вставало отшельничество — амплуа крымского отшельника А. Грина сказалось не только на его бытовом поведении, на осознании того, что, «если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря» (И. Бродский), создавая свой собственный романтический мир в доме в отдаленной от столиц Феодосии. Отшельничество сказывалось и на литературном поведении: сумев найти свою нишу в литературе 20-х годов, Грин успешно создает вымышленный художественный мир, становится романтиком, что тоже может быть воспринято как выражение личностной позиции в предельно социологизированной литературной ситуации 20-х годов.
Амплуа «мятущегося» избрал С.Есенин. Его цилиндр как претензия на салонный аристократизм явно контрастировал со связями в ЧК через Я. Блюмкина. Невозможность выбора своего пути, готовность отдаться «року событий», утрата связи с миром Деревни и явная недостаточность личных и социальных связей с культурой Города делают Есенина фигурой трагической, что и подчеркивается его бытовым и литературным поведением.
Конечно же, нельзя не упомянуть амплуа крестоносца, огнем и мечом утверждающего новую идеологию и литературу. Наиболее яркое свое воплощение она нашла в фигурах рапповцев — «неистовых ревнителей» пролетарской идеологии — Л. Авербаха, С. Ро-дова, из писателей — Д. Фурманова и А. Фадеева. Их оппоненты из
«Перевала», Д. Горбов, А. Лежнев, в той историко-культурной ситуации попытались сыграть роль Дон-Кихотов96.
Примерно с середины 20-х годов изменяется состав литературных амплуа. Это связано с тем, что новая власть с 1925 г. несколько изменяет свою политику в отношении к литературе — условной временной вехой может служить постановление ЦК ВКП(б) от 18 июня 1925 г. С этого момента литература становится не только объектом насильственного воздействия, когда неугодные газеты и журналы просто закрываются, а неугодные художники высылаются за рубеж или лишаются права голоса. Литература оказывается объектом как бы творческого воздействия, партийного строительства, государственного созидания, культивирования нужного и должного. Слова В. Маяковского «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан» наполняются буквальным, а не переносным смыслом. Поэтому превращение литературы в объект государственного созидания формирует новые писательские амплуа.
Своего рода главным художником, преобразующим действительность, становится Сталин. Цель этого преобразования — приведение действительности к полной гармонии. Но так как сама действительность не может по самой своей противоречивой и многогранной природе быть гармоничной, так как она многосоставна, а потому исполнена диссонансами, создающими дисгармонию, то ее нужно как бы дорисовать: слой фунта и краски должен скрыть все противоречия (а вовсе не разрешить их). Таким образом, задача искусства состоит в драпировке реальности, в создании фасада, который скрывал бы истинные противоречия. (Поэтому, скажем к слову, так наивны попытки отрицать искусство и литературу социалистического реализма на том основании, что они не содержат «правду»: задача соцреалистического искусства не в том, чтобы отражать правду жизни, но в том, чтобы самой стать правдой и жизнью, как бы заместив собой истинную реальность.)
Этим обстоятельством и обусловлено изменение государственной политики в отношении к литературе. Если писательство перестало трактоваться как дело частное и индивидуальное уже в 20-е годы, то теперь писатель вообще теряет право на индивидуальность, право быть самим собой: его устами глаголет государство и главный
96 На стремление определить литературную ситуацию через литературные амплуа указывают, в частности, сами названия книг современных исследователей этого периода: «Неистовые ревнители» С. Шешукова (1984), «Дон-Кихоты 20-х годов: "Перевал" и судьба его идей» Г. Белой (1989).
Культурный вакуум
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
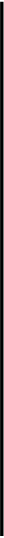
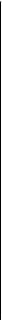 его художник. Писатель — лишь кисть в руках партии и Сталина; литература — один из способов привести реальность к насильственной гармонии, создать тотальное произведение искусства97.
его художник. Писатель — лишь кисть в руках партии и Сталина; литература — один из способов привести реальность к насильственной гармонии, создать тотальное произведение искусства97.
Такое изменение места и роли писателя, как ее понимала власть, привело и к трансформации форм политического воздействия на литературу. Постановления, другие партийные документы, дискуссии в печати, организация Союза советских писателей дополнились личным, чаще всего любезным и обходительным, общением власти и писателя. Именно в 30-50-е годы появляется такая форма проведения политики партии, как личный звонок Сталина (например, известны и описаны телефонные разговоры Сталина с Б. Пастернаком, М. Булгаковым). Такой звонок, часто предопределяющий так или иначе личную и творческую судьбу, заставал абонента врасплох, не давал ему опомниться, прийти в себя от вполне понятного шока. Любая фраза, сказанная не так или понятая не так, могла стоить очень многого, тем более что «перезвонить», в случае если собеседник вдруг прервет разговор, было невозможно. Такие звонки тут же становились предметом разговора, их исход решал судьбу, он мог привести и к возвышению, и к падению в бездну.
Другой формой работы с «творческой интеллигенцией» были встречи руководителей партии и правительства с писателями «на квартире у Горького» — в бывшем особняке капиталиста Рябу-шинского, что у Никитских ворот. На таких встречах обычно присутствовали И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Каганович; писательская общественность была представлена шире: несколько десятков человек. Пригласительные билеты на эти встречи тщательнейшим образом распределялись, получение такого приглашения свидетельствовало об определенном положении писателя, хотя вовсе не являлось охранной грамотой от репрессий в дальнейшем. Собирались вечером, проходя через многочисленные посты НКВД. Сначала следовал фуршет, потом открывались двери в большую гостиную и метрдотели и официанты приглашали к богато накрытому столу. Сталин и его спутники приезжали позднее, ближе к ночи. Сам Сталин пил только вино, но на столах были и водки, и коньяки: Сталин подозрительно относился к непьющему человеку, подозревая его в скрытности. Именно на таких встречах с писателями формулировались литературные задачи, лозунги,
97 См. об этом: Добренко Е. Между историей и прошлым: писатель Сталин и литературные истоки советского исторического дискурса//Соцреалистический канон. СПб., 2000; Вайскопф М. Писатель Сталин: Заметки филолога/Дам же.
проекты, решения. На таких встречах создавалась концепция социалистического реализма. Возможно, что сам термин тоже был сформулирован Сталиным именно тогда, во время одной из таких встреч.
Изменение формы общения власти и писателей продиктовано, возможно, принципиально иной по сравнению с 20-ми годами культурной ситуацией, сложившейся в 30-е годы. Эти два периода, с точки зрения В.Паперного98, исследователя советской культуры 30-х годов, принципиально отличаются. Они противопоставлены друг другу целой серией бинарных оппозиций: начало — конец, движение — неподвижность, коллективное — индивидуальное, реализм — правда, целесообразное — художественное. Культура Два, если воспользоваться его терминологией, предполагает гармонизацию действительности в сторону устоявшегося, глобального, монументального, имеющего опору в исторической традиции, как бы сакрализирующей настоящее. Главной опорой этого нового монументализма оказывается государственность.
Естественно, это приводит к изменению приоритетности и авторитетности в системе писательских амплуа. Теперь нужна уже не приверженность массовому человеку, не подстраивание под пролетария, а преданность Государству, Партии, Сталину. Объявляется вакансия официального поэта, эпика, драматурга, публициста.
Так начинает формироваться новое амплуа официального писателя. Власть в лице Сталина осознает необходимость для советской литературы крупного эпика, создателя нового эпоса и новой мифологии. Столь же необходим и официальный поэт. На роль талантливейшего поэта советской эпохи Сталин пробует Маяковского и Пастернака.
В. Маяковский соотнесен с этой ролью только после смерти, когда и были произнесены знаменитые слова Сталина о том, что Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи. Своей смертью он как бы преодолел противоречие между желанием стать крестоносцем, хотя бы ценой вступления в РАПП, и невозможностью сделать это в силу специфических черт характера, в первую очередь, в силу больших индивидуалистических претензий — на собственное положение в литературе, на поэтическое бессмертие. Его гибель явилась, вероятно, результатом этого противоречия и одновременно формой его преодоления.
98 Паперный В. Культура Два. М., 1996.
Культурный вакуум
Л. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
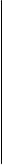
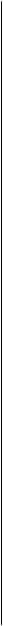 Б. Пастернаку удается отказаться от этой роли официального парадного поэта, создателя новой мифологии. В этом смысле крайне показателен телефонный разговор Сталина с Пастернаком Сталин ищет мастера-поэта, спеца, умельца, которому можно заказать эту роль, заставить взять это амплуа. Приняв отказ Пастернака, он спрашивает, мастер ли - О. Мандельштам. Поразмыслив минуту его собеседник дал отрицательный ответ, поняв смысл слова «мастер» и полную неспособность Мандельштама сыграть роль такого «мастера» Иначе обстояли дела с создателями крупных эпических форм Необходимость в красном Льве Толстом была удовлетворена а. Толстым - власть, по меткому и остроумному замечанию А Жолковского, получила желаемое лишь с небольшой перестановкой инициалов. Эту же роль заставили сыграть и Горького - может быть, против его воли, может быть, он и сам не осознавал своей роли, которую он играл не столько в литературе, сколько в формировании парадного фасада новой культуры.
Б. Пастернаку удается отказаться от этой роли официального парадного поэта, создателя новой мифологии. В этом смысле крайне показателен телефонный разговор Сталина с Пастернаком Сталин ищет мастера-поэта, спеца, умельца, которому можно заказать эту роль, заставить взять это амплуа. Приняв отказ Пастернака, он спрашивает, мастер ли - О. Мандельштам. Поразмыслив минуту его собеседник дал отрицательный ответ, поняв смысл слова «мастер» и полную неспособность Мандельштама сыграть роль такого «мастера» Иначе обстояли дела с создателями крупных эпических форм Необходимость в красном Льве Толстом была удовлетворена а. Толстым - власть, по меткому и остроумному замечанию А Жолковского, получила желаемое лишь с небольшой перестановкой инициалов. Эту же роль заставили сыграть и Горького - может быть, против его воли, может быть, он и сам не осознавал своей роли, которую он играл не столько в литературе, сколько в формировании парадного фасада новой культуры.
Но в это время появляются амплуа, существование которых в литературе отнюдь не приветствуется. Таково, например, амплуа юродивого, более всего реализовавшееся в творческой и личной судьбе А. Платонова, прошедшего путь от крестоносца начала 20-х годов до юродивого конца 20-30-х годов. Суть юродства и семиотический смысл поведения юродивого - в возможности говорить правду в необычной, комической, гротесковой манере в возможности принимая и одобряя - не принимать и не одобрять соглашаясь - не соглашаться. Амплуа литературного юродивого дает возможность поменять местами верх и низ, сакральное и про-фанное позволяет переиначивать и выворачивать наизнанку выдавать важное за пустячное и наоборот. Именно это литературное амплуа дало возможность воплотить в «Чевенгуре» и «Котловане» «юродивый коммунизм» «русской души», воплотить высокий религиозный пафос в смехотворное паломничество за мощами Розы Люксембург, устремление вверх строителей дома новой жизни обернуть движением вниз, в котлован, в могилу. В сфере литературного поведения это амплуа давало возможность писать покаянные письма М. Горькому: «Я хочу сказать Вам, что я не классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок вроде «Впрока», я классовым врагом стать не могу и довести меня' до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс - это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом»99.
99 Письма А. Платонова М. Горькому//Вопросы литературы. 1988 №9 С 177 90
конечном итоге, с самоопределением художника в новом культурном пространстве. Решение вопроса о выборе той или иной культурной традиции или же размежевание с ней и формировало тип литературного и бытового поведения творческой личности. При этом находились художники, которые пытались сделать, пожалуй, невозможное: совместить хаотически перемешенные культурные традиции, как бы проигнорировав мощный заряд взаимоотвержения, существующий между ними. Не заметить совмещения несовместимого в их творчестве было просто невозможно — эту несовместимость можно было именно демонстративно проигнорировать. В этом и состояла суть литературного юродства, проявленная наиболее явно А. Платоновым, М.Зощенко, Вс. Ивановым в его ранней прозе. В нарочитом перемешивании высокого и низкого, комического и пафосного, трагического и смешного, в совмещении осколков разных культур реализовывалась не только формирующаяся химера. В подобном совмещении ранее, казалось бы, несовместимого проявлялась позиция художника в отношении к химере и его попытка занять собственную позицию в ситуации культурного вакуума.
Но самое парадоксальное состоит в том, что эти писатели в своем литературном и бытовом поведении шли по пути, уже проложенному до них, обращались к уже известному и широко бытовавшему культурному прецеденту. Современные исследователи называют его «третьей» культурой, или же «культурой примитива».
Ее возникновение можно, вероятно, отнести к Петровской эпохе — к тому моменту, с которого берут начало параллельное развитие и противостояние двух русских субкультур — «почвы» и «цивилизации». Между ними, естественно, и возникал определенный «зазор», который и заполнялся так называемой «третьей» культурой — культурой примитива. Творцами и потребителями этой культуры становились люди, оторвавшиеся от народных истоков и не имеющие возможности в силу своего уровня и социального положения стать носителями культуры«верхней» — это городская беднота, мещанство, люмпены — люди, «выломившиеся» из прежних социальных структур и не нашедшие своего места в новых. Они утратили связь с деревней, с ее фольклорной культурой, но
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
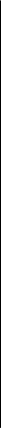 не обрели связей с городом, в котором ощущали себя чужими. Это и объясняет как раз то, что «обстоятельства возникновения примитива... связаны с двойным социально-культурным неблагополучием. Ведь его зачастую практикуют люди, которые в обществе не смогли удержаться на первоначально и как будто естественно предназначенных им местах, либо скатившись вниз из образованной среды, либо поднявшись вверх ценой отрыва от своей деревенской почвы. Здесь, таким образом, все время происходит культурное брожение, включая своеобразное перемешивание традиций, исторически столь далеко разошедшихся, что встреча их казалась вовсе невозможной»100. Это социокультурное неблагополучие и может дать нам повод говорить о «третьей» культуре как о прообразе той культуры, социальный заказ на которую дал в 1920-е годы «человек массы»: именно она заполнила культурный вакуум первых советских десятилетий. Мало того, ее бытование простирается и дальше — есть работы, рассматривающие советскую самодеятельность именно в качестве культуры примитива101.
не обрели связей с городом, в котором ощущали себя чужими. Это и объясняет как раз то, что «обстоятельства возникновения примитива... связаны с двойным социально-культурным неблагополучием. Ведь его зачастую практикуют люди, которые в обществе не смогли удержаться на первоначально и как будто естественно предназначенных им местах, либо скатившись вниз из образованной среды, либо поднявшись вверх ценой отрыва от своей деревенской почвы. Здесь, таким образом, все время происходит культурное брожение, включая своеобразное перемешивание традиций, исторически столь далеко разошедшихся, что встреча их казалась вовсе невозможной»100. Это социокультурное неблагополучие и может дать нам повод говорить о «третьей» культуре как о прообразе той культуры, социальный заказ на которую дал в 1920-е годы «человек массы»: именно она заполнила культурный вакуум первых советских десятилетий. Мало того, ее бытование простирается и дальше — есть работы, рассматривающие советскую самодеятельность именно в качестве культуры примитива101.
Исследователи «третьей» культуры утверждают ее отличие от искусства профессионального, высокого, академического, элитарного, с одной стороны, и искусства народного, фольклорного — с другой. Эта культура развивается «в изменчивых и зыбких, но все же уловимых границах между фольклором и учено-артистическим профессионализмом, постоянно взаимодействуя и с тем и с другим, порой рискуя в этом взаимодействии потерять собственное лицо, но в конечном счете обладая где-то в глубине достаточно прочным центром самотяготения. (Этот слой оказывает свое влияние и «вверх», и «вниз».)102.
Как это ни парадоксально, культура примитива развивалась в схожих условиях, что и вся советская литература 20-х годов. Это связано с тем, что ее творцы оказывались как бы на перекрестке двух культур: «примитив осваивает, хранит, перерабатывает память близкую — позавчерашнюю, а то и вчерашнюю, и делает это, находясь под постоянным давлением уходящей вперед «верхней» культуры и все более остающейся где-то далеко позади «ниж-
100 Прокофьев В. Н. Примитив и его место в художественной культуре Нового и
Новейшего времени (К проблеме примитива в изобразительных искусствах)//При-
митив и его место в культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 8.
101 Богемская К. Историческое прошлое и сегодняшний день примитива//При-
митив в искусстве. Грани проблемы. М., 1992. С. 88—110.
102 Прокофьев В. Н. Примитив и его место в художественной культуре... С. 17.
ней», в постоянном активном общении с той и с другой. Примитив живет, так сказать, на достаточно шумном культурном перекрестке, функционирует на «ярмарке культуры»103. Но это «ярмарочное» общение часто происходит в сознании ущемленного в своей униженности массового человека — отсюда агрессивность в отношении «верхней» и «нижней» субкультур, зависть к ним и неприятие их, что объясняется исконным для «третьей» культуры социальным неблагополучием, отверженностью: «Примитив, с одной стороны, завистливо смотрит вверх — в сферу учено-артистического профессионализма, желая туда подняться и ощущая, что для этого ему многого не хватает, что он многого просто не знает и не умеет. <...> Тогда он поспешно хватается за те образцы ученого артистизма, которые обладают в его глазах преимуществом доходчивости, общедоступности. А это, как правило, уже отработанный «наверху» материал — уже банализированный, уже затертый не только до «хрестоматийного глянца», но даже до уровня третьесортной гравюрной копии или журнальной репродукции»104.
В целом можно сказать, что искусство примитива выражает особое мироощущение, обусловленное социальным положением, социальной неприютностью его творцов: в целом его можно охарактеризовать как трагикомическое — оно обусловлено ощущением (часто подспудным) трагизма своего положения и веселой готовностью смеяться над собой, как бы преодолевая его в стихии комического. Ведь противоречия, которые возникают на стыке несовместимых, казалось бы, культурных традиций, могут предстать как трагической, так и комической своей стороной.
Среди художников, творчество которых обусловлено драматическим столкновением разных культурных традиций, имеющих, тем не менее, общие национальные корни, был Вс. Иванов. Его романы «Похождения факира» и «Мы идем в Индию» создаются как раз на стыке культуры примитива и высокой, элитарной культуры, столкновение которых оказалось вполне естественным и типичным для 20-х годов: существовавшие раньше как бы на разных этажах культурного национального сознания, они не могли не встретиться и не самоопределиться в отношении друг к другу в революционную и пореволюционную эпоху.
В художественном мире Вс. Иванова как раз и воспроизводятся образы и стили «третьей» культуры. Мир ярмарки, карусели, раз-
103 Там же. С. 18.
104 Там же. С. 23.
Культурный вакуум
Л. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
 малеванного балагана, цирковых богатырей в «Похождениях факира» естественным образом соответствует и речевой стихии романа, где звучит приказчичья скороговорка, полурифмованное ярмарочное балагурство с претензией на народный стих, крики ярмарочного зазывалы. Герой зачитывается бульварным романом «Евгения, или Тайны французского двора», состоящего в основном из простых предложений, включающих лишь подлежащее и сказуемое. Предметом изображения оказывается у писателя русская провинция, обобщенный образ, уже нашедший воплощение в горьковском Окурове. Но Вс. Иванова интересует, к какому результату приведет хаотическое совмещение несовместимых культурных пластов.
малеванного балагана, цирковых богатырей в «Похождениях факира» естественным образом соответствует и речевой стихии романа, где звучит приказчичья скороговорка, полурифмованное ярмарочное балагурство с претензией на народный стих, крики ярмарочного зазывалы. Герой зачитывается бульварным романом «Евгения, или Тайны французского двора», состоящего в основном из простых предложений, включающих лишь подлежащее и сказуемое. Предметом изображения оказывается у писателя русская провинция, обобщенный образ, уже нашедший воплощение в горьковском Окурове. Но Вс. Иванова интересует, к какому результату приведет хаотическое совмещение несовместимых культурных пластов.
«Стоячая культура стоячего жизненного слоя, — размышляет современный исследователь творчества писателя, — оказывается местом стока эстетических вод из верхних слоев, резервуаром, где сохраняется, перемешивается и единовременно существует все — от отголосков рыцарских романов и житийной литературы до отголосков бульварного романа в «гувернантских» переводах восьмидесятых годов»105.
В сущности, романы «Кремль», «Похождения факира», «Мы идем в Индию» представляют собой стилизацию лубочной поэтики, которая и может совместить в себе несовместимые культурные пласты. Налицо условность соотношения масштабов фигур, отсутствие глубины и перспективы, психологичности, характерной для реалистического романа, соотношение легенды и натурализма, орнаментализм, узорность слога, фантасмагоричность сюжета. Совмещение разных культурных пластов приводит писателя к оксюморону как к центральному художественному принципу. Как отмечает Н. Соловьева, «создается оксюморон жанра и предмета; притча, восточная легенда, житие, хождение, авантюрный роман — жанры насмешливые, высокие и полные движения — применяются к материалу самодовольному, низкому и стоячему»106. Такое ок-сюморонное сочетание фантастической стилизованной «диковинной» поэтики с реальным жизненным историческим материалом, сближение истории с лубочной картинкой и попыткой объяснить одно через другое, мещанского существования — с революцией, плоти — с инородной ей мыслью, рождает выделение огромной энергии, близкой по своим разрушительным воздействиям той, о
которой размышлял Л. Гумилев. В результате этого взрыва и формируется та культурная среда с ее совмещением несовместимого, со сдвинутостью морально-нравственных ценностных критериев, которую Гумилев называл химерической культурной конструкцией и которая оказалась предметом изображения в прозе писателя.
У повествователя как бы уходят некие исконные, врожденные представления о добре и зле: рассказ о смерти прерывается радостным и ярким лирическим отступлением; краски и звуки пожара оборачиваются веселым праздником; один из героев весело хохочет, представив себе, как заверещит японец, когда ему придет черед умирать; радостно-весел матрос-связной, идя на смертельный риск. Перевернутость ценностных ориентиров выглядит вполне революционно: статика крестьянского быта, оседлость и хозяйственность, образ «спокойных земель» противостоит в «Партизанских повестях» образу дороги и движению (в общем-то, в никуда) — символу революции; образ праздничного опустошающего и одухотворяющего «мирового пожара» — образу неподвижной хлебной избяной духоты. «Запах хлеба, исконно сладкий для человека, в двадцатые годы кажется Вс. Иванову запахом почти грозным, потянет ли им из сумы Калистрата, отошедшего от революции («Цветные ветра»), или из огромных бревенчатых домов в рассказе «Лога»107.
Ранняя проза Вс. Иванова 20-х годов показывает еще один вариант ассимиляции противоположных культурных традиций и необычного соединения высокого и низкого, нарушающего традиционную общечеловеческую систему ценностных ориентиров.
Подобный тип мироощущения нашел свое выражении в романистике А. Платонова. Сознание его героев тоже как бы лишено традиционной общечеловеческой ценностной ориентации. Герой Платонова — воплощение человека, потерявшего в ситуации культурного вакуума все общечеловеческие ориентиры; мир дан вне традиционных культурных опосредовании, что лишает платоновского персонажа самых исконных представлений о значимом и незначимом, о верхе и низе, добре и зле, прекрасном и безобразном, трагическом и смешном. Человек, руководствующийся таким сознанием, воспринимает действительность как лабиринт, из которого он тщетно пытается найти выход. Это мир слепцов без поводыря: мир без религии, без нравственного начала. Поэтому
105 Соловьева Н. Заметки о стиле Вс. Иванова//Новый мир. 1970 № 2 С 231 106Там же. С. 232.
107Там же. С. 234.
 Культурный вакуум
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
 писатель самой сюжетной схемой «Котлована» предлагает код его прочтения. В ней метафорически предопределены алогичные, перевернутые отношения человека и мира: движение вверх (строительство башни) оборачивается движением вниз (рытье котлована), смерть трактуется как один из возможных вариантов жизни и т.д.
писатель самой сюжетной схемой «Котлована» предлагает код его прочтения. В ней метафорически предопределены алогичные, перевернутые отношения человека и мира: движение вверх (строительство башни) оборачивается движением вниз (рытье котлована), смерть трактуется как один из возможных вариантов жизни и т.д.
Подобная черта сознания персонажей Платонова обусловлена их социокультурной принадлежностью, своего рода культурной «бездомностью», отсутствием прочной и осознанной связи с какой-либо культурной традицией. Размышляя о чуждости для героев писателя как патриархально-крестьянского мира, социокультурной почвы классического фольклора, так и культуры городской, современный исследователь С. Пискунова очень точно фиксирует их драматическое положение: «Мир Платонова возникает на «порубежье» — на стыке города и деревни, на городской «опушке»: это мир ремесленной и торговой слободы, мещанской окраины, мир Лиховых и Окуровых... — социальная почва так называемой «третьей» культуры — культуры примитива»108. Призрачность этого сознания и обусловлена во многом его возникновением на стыке этих двух культурных традиций.
В романистике А. Платонова актуализируется такая грань мироощущения, выраженная в культуре примитива, как социальное неблагополучие его творцов и публики, к которой он обращен. «Нижние и <...> средние слои города <...> оказываются пасынками культуры в двойном смысле. От крестьянской «земли» они отрываются (и чем дальше, тем больше), хотя и сохраняют память о ней (со временем также слабеющую). Возвращаться в ее лоно они не хотят или не могут. Что же касается «неба» высшей культуры, ученой, а со временем еще и артистичной, то для них ее «правила игры» оказываются слишком сложными... Он рискуют оказаться в некотором «зазоре», в межкультурном «вакууме». И должны заполнить его чем-то себе духовно и художественно аутентичным, дабы избежать полной культурной экспроприации — полноты бескультурья. Так возникает потребность «третьей культуры»109.
А. Платонов воспроизводит мироощущение человека, нашедшего опору именно в этой социокультурной среде. Здесь кроется
108 Андрей Платонов — писатель и философ: Материалы дискуссии//Вопросы
философии. 1989. № 3. С. 32.
109 См.: Прокофьев В. Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Но
вейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах//Примитив
и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. С. 15-16.
исток разрушительности сознания, вопроизведенного писателем. Это как раз тот литературный материал, который как бы демонстрирует в наиболее обнаженном виде и исток химеричности (столкновение «высокой» и «низкой» культуры), и ее бесперспективность и разрушительность для окружающего мира. В самом деле, «судьбой примитива является эклектическое смешение влияний, идущих сверху и идущих снизу, не только культурная промежуточность, но и культурная межеумочность, связанная с постоянной неуверенностью в себе и ведущая зачастую к утрате себя»110.
Еще раз оговоримся: все эти характеристики относятся к немыслящим героям Платонова — тем, для которых нет возможности «усомниться» (как усомнился Макар или Вощев из «Котлована», задумчивость которого привела его к увольнению с механического завода), но вовсе не к писателю и не к его художественному миру, который никак нельзя причислить к культуре примитива. Сама же С. Пискунова в уже цитировавшемся выступлении отмечает, что подобное отождествление невозможно хотя бы уже потому, что «Платонов — художник трагического жизнеощущения, в то время как примитив — искусство жизнеутверждающее»111. Именно герои платоновского эпоса, такие как Чиклин или Копенкин, представляют социокультурную среду, ставшую основой, питающей сознание «человека массы». Отсюда постоянное трагическое чувство одиночества и желание утвердить свое господство во вселенной, безбожие и наивная вера во всесилие науки и способность человека подчинить себе все энергии; отсюда замкнутость на своей тоске-одиночестве, на чисто платоновской пустоте тел, желание избавиться от этой пустоты и одиночества, от скуки существования, в «товарищеском теле» другого.
Появление подобного сознания на стыке двух культур видится, в частности, в двойственности и мыслящих, сомневающихся героев, таких, как Саша Дванов из «Чевенгура». С одной стороны, он «не любил культуры», с другой стороны, был неисцелимым книгочеем, и это дает ему возможность мысить и сомневаться в незыблемости самих основ бытия. Задумывается «усомнившийся Макар», Вощев из «Котлована». Способность мысли и сомнения уже оправдывает индивидуальное человеческое существование. Инженер Прушевский, по проекту которого строится общепроле-
П0Тамже. С. 22.
111 Андрей Платонов — писатель и философ: Материалы дискуссии//Вопросы философии. С. 34.
7 - 4063
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
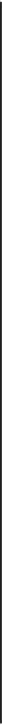
 тарский дом, с тревогой вглядывается в его несуществующие пока контуры: «Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и о какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?
тарский дом, с тревогой вглядывается в его несуществующие пока контуры: «Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и о какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?
Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди заполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды».
В самом деле, русский роман 20-30-х годов пристально, подчас с надеждой, подчас с ужасом, вглядывался в неясные контуры будущего — и в этом смысле Платонов очень созвучен своему времени. Внутренний монолог его героя почти дословно повторяет размышления писателя — перевальца Ивана Катаева из его статьи «Об искусстве и грядущем человеке», которая была написана в 1929 г., а читана в 1932 г. на I Пленуме Оргкомитета Союза советских писателей. «Но с чем же, однако, — пишет Катаев, — войдет наше поколение в завоеванную с таким трудом и с такими жертвами обетованную землю? Оно готовит для этого жданного мига множество серых стеклобетонных зданий с блестящими и умными машинами и миллионы гектаров тучной, сообща обработанной земли, откуда обильным потоком хлынут тепло, голубой свет, пища, одежда для всех живущих... Оно готовит так же сверкающие и чистые, как лед, воздушные аппараты, для того чтобы в несколько часов пересекать огромные пространства и видеть их сверху, университеты и библиотеки, куда под вольные прохладные своды могут приходить все.
Но мы хотим знать, каким будет человек в этой обетованной земле. Мы знаем, что он будет здоров телом и ясен умом, что он будет хорошо думать и хорошо работать. Но будет ли он счастлив, весел?.. Сохранит ли он богатство и тонкость души, способность откликаться ею на все мельчайшие прикосновения мира? Как он будет относиться к встречному
человеку, к соседу по работе, к женщине, которую он любит? Будет ли он жить в искусстве, воспринимать его, творить его, восхищаться им, плакать, порываться к совершению необъяснимых поступков — и если так, то что это будет за искусство?»112
Там, где И. Катаев ставит вопросительные знаки, А. Платонов дает ответы — жесткие и безрадостные. Мрачный гротескный мир «Котлована» с его ирреальными сценами вроде спуска кулаков по реке на плотах, которые ими же покорно собраны, с его фантастическими героями вроде медведя-молотобойца, «чующего классы как животное» и проводящего в силу избыточного классового чутья коллективизацию в деревне, просто не оставлял место для иллюзий. Эстетика платоновского романа с его гротеском и фантастичностью обнаруживала бесперспективность официальных концепций, за прекрасными ажурными чертежами будущего дома вскрывала мрак котлована, которым оборачивался утопический проект переустройства общества, мира, переделки человека.
Литературность «Котлована» иногда поражает. Кажется, что сама эпоха дала Платонову материал, уже готовый и обработанный за него другими художниками или критиками, и ему осталось лишь поместить этот материал в художественный мир своего романа, в особую систему координат, в особую систему зеркал, в ту речевую стихию, которая сразу же выявит несостоятельность и внутреннюю противоречивость той или иной концепции. Поэтика романа, вбирая в себя живой материал действительности, сталкивая разные реалии бытия, принадлежащие как бы разным культурным сколам, обнаруживала в нем явные внутренние несоразмерности, характеризующие складывающуюся на рубеже 20—30-х годов химеру./Мрачный гротескный мир «Котлована» давал Платонову возможность выявить абсурдность и алогизм происходящих социальных процессов, обнаружить их неестественную, ложную сущность, бесперспективность и опасность для будущего.
Художественный мир «Котлована» очень многогранен и сим-воличен и в силу своей глубинной смысловой неисчерпаемости допускает множество различных толкований. Думается, что имеет право на существование и трактовка этого романа как отрицание наиболее значимых социальных и культурных признаков химерической структуры, в общих чертах уже сформировавшейся к началу 30-х годов. Композиционно роман держится на нескольких цен-
112 Советская литература на новом этапе: Стенограмма I Пленума Оргкомитета Союза советских писателей. М., 1933. С. 96—97.
/*
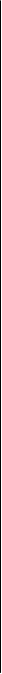 Культурный вакуум
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
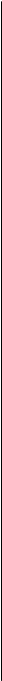 тральных экспрессионистических образах, взятых из духовной и социальной жизни общества, даже из литературно-критических концепций, бытовавших в это время и отстаивавшихся той или иной группировкой. В этом смысле «Котлован» полемичен в отношении тех взглядов и тех форм, которые так или иначе отражали химеру: в нем сталкиваются эстетические концепции «Перевала» и Пролеткульта, ЛЕФа и конструктивизма, но все они, попадая в контекст романа, т.е. в совершенно иную систему координат и ценностных ориентиров, обретают гротескные очертания, фантастические и неправдоподобные, что и выявляет их истинную сущность, незримую в их родном контексте — художественном или литературно-критическом. В том королевстве кривых зеркал, которое напоминает гротескный мир А. Платонова, фантастически преувеличиваются не просто идеи, концепции, образы эпохи, но их социальные последствия. Фантастический гротеск оказывается способом выявить несостоятельность мироощущения, основанного на устремленности в будущее (концепция «золотого века»), его разрушительность в отношении настоящего и прошлого. Платонов показывает, каково это будущее; вместо туманного проекта, характерного для нормативизма, предлагает самый реальный и зримый его результат.
тральных экспрессионистических образах, взятых из духовной и социальной жизни общества, даже из литературно-критических концепций, бытовавших в это время и отстаивавшихся той или иной группировкой. В этом смысле «Котлован» полемичен в отношении тех взглядов и тех форм, которые так или иначе отражали химеру: в нем сталкиваются эстетические концепции «Перевала» и Пролеткульта, ЛЕФа и конструктивизма, но все они, попадая в контекст романа, т.е. в совершенно иную систему координат и ценностных ориентиров, обретают гротескные очертания, фантастические и неправдоподобные, что и выявляет их истинную сущность, незримую в их родном контексте — художественном или литературно-критическом. В том королевстве кривых зеркал, которое напоминает гротескный мир А. Платонова, фантастически преувеличиваются не просто идеи, концепции, образы эпохи, но их социальные последствия. Фантастический гротеск оказывается способом выявить несостоятельность мироощущения, основанного на устремленности в будущее (концепция «золотого века»), его разрушительность в отношении настоящего и прошлого. Платонов показывает, каково это будущее; вместо туманного проекта, характерного для нормативизма, предлагает самый реальный и зримый его результат.
Центральным образом романа, давшим ему название, является идея «единственного общепролетарского дома», «куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». Идея этого райского будущего дома, куда по принуждению войдут все, хотят они того или нет, и где всем будет вменена «обязанность радости», где все будут «соревноваться на высшее счастье настроенья», характерна для утопических (соцреалистических) и антиутопических (модернистских в русской литературе рассматриваемого периода) концепций. Платонов реализует в своем романе метафору будущего прекрасного дома, тем самым вступая в полемику с уже упоминаемой идеей А. Луначарского о доме без крыши, которую, однако, видит писатель-соцреалист. Попытался ее увидеть и Платонов, реализовав в своем романе метафору будущего прекрасного дома: его герои действительно строят дом. Но реализованная метафора сразу же высветляет порочность и схематизм всеобщего плана, по которому преобразуется будущая жизнь: строительство останавливается на цикле котлована, движение вверх, связанное с идеей построения башни, оборачивается движением вниз, в рытье котлована, ставшего могилой для девочки Насти, для которой социализм готовится рабочими в ее девичье приданое.
В первой главе было показано, что смена «верха» и «низа», сакрального и профанного, вообще способность явлений и понятий переходить в свою противоположность, является основополагающим качеством химерической культуры — это столь же обязательная для нее черта, как и способность к разрушению реальности, обосновываемая идеализацией будущего, непременной концепцией «золотого века». Как и герои романа Оруэлла «1984», утверждавшие, что «мир — это война», персонажи Платонова на практике реализуют подобную «смысловую аннигиляцию» противоположных понятий: они удивительно слепы к границе, пролегающей между жизнью и смертью, часто вообще не замечают ее.
Отношение к смерти платоновских героев — один из знаков дезориентированности их в смысловом пространстве жизни. Это относится и к строителям котлована, и к крестьянам, и к самой Насте, для которой смерть, убийство воспринимается как нечто простое и естественное, если оно освящено идеологией класса, т.е. оправдывается «классовыми» идеями, противоположными общечеловеческим. Ее мать, «буржуйка», как бы покупает для дочери своей смертью пролетарскую принадлежность, т.е. ее смерть становится гарантом жизни дочери. Смерть воспринимается всеми, кроме Вощева, не желающего быть «участником безумных обстоятельств», как вариант жизни, лишается своей мистической окраски, становится событием естественным, нормальным, даже долженствующим быть с точки зрения классовой идеологии.
«Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!» — говорит Настя. В этом смысле характерен диалог, состоявшийся между Настей и рабочими, когда два мужика уволакивают в свою деревню 98 гробов, заготовленных ими по самообложению:
— Ты права, дочка, на все сто процентов, — решил Сафронов. — Два кулака от нас сейчас удалились.
— Убей их поди! — сказала девочка.
— Не разрешается, дочка: две личности это не класс...
— Это один да еще один, — сочла девочка.
— А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротело от врагов!
— Ас кем останетесь?
— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?
— Да, — ответила девочка. — Это значит, плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало.
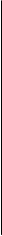 Культурный вакуум
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
— 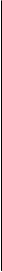
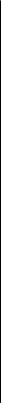
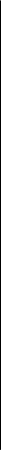 Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью осознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбора требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.
Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью осознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбора требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.
— От сволочи, — с легкостью догадалась девочка. — Тогда будут только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?
— Правда, — сказал Чиклин.
Смерть трактуется героями «Котлована» почти как благо: она делает лучше и как бы реабилитирует мать Насти, является средством чистки своего класса от несознательного элемента, ликвидации кулаков не меньше как класса. Для инженера Прушевского смерть — избавление от сомнения, мучащего его: «И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни». Мужики заготавливают гробы и облеживают их, но Чиклин забирает два гроба для Насти и устраивает ей в одном — кровать, в другом — красный уголок. Гробы, заготовленные мужиками и востребованные ими во время рытья котлована, составляют как бы смысл и своего рода гарантию их жизни: «У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть».
Нетрудно заметить, что такие «перевернутые» отношения обусловлены прямым, непереносным и неискаженным смыслом социальных концепций рубежа 20-30-х годов, концепций, абсолютизирующих псевдоклассовые начала и резко низводящих общечеловеческое. Такие концепции сталкиваются с сознанием «человека массы», лишенного традиционных гуманистических ориентиров и находящегося в постоянном поиске новых. Их суррогатом становится «классовая» идеология, выраженная в официальных государственных лозунгах. По мнению голландского исследователя творчества писателя К. Верхейла, А. Платонова (в первую очередь, добавим от себя, — его героев. — М. Г.) на протяжении всех 20—30-х годов отличало буквальное восприятие лозунгов-метафор времени, — тех затертых стандартных метафор политического, философского плана, которые в традиционном речевом обращении не осознаются в качестве таковых и уж, конечно, не воспринимаются буквально. И если на раннем этапе его творчества для Платонова было характерно «абсолютно серьезное, почти наивное восприятие этих метафор», «своеобразный буквализм, с которым он их
развивает», то в период «Котлована» и «Чевенгура» «метафоры официального, плакатного типа развиваются писателем с прежним буквализмом, но теперь уже с целью доводить их до абсурда и этим показывать их несостоятельность». Это и приводит Платонова к столкновениям с официальной идеологией, «особенно в периоды, когда метафоры из средств свободного познания и общения превращаются в догматы государства»113. Такое прямое восприятие метафоры становится для Платонова своего рода приемом, позволяющим показать, как искажается и разрушается сознание героев, а затем и сама действительность.
Предметом изображения, таким образом, оказывается сознание «человека массы», пораженное химерой. Воплотить такой предмет изображения возможно лишь благодаря той речевой стихии, которая господствует в «Котловане» и отражает уровень сознания его героев, главная особенность которого — некритическое, а потому во многом буквальное восприятие идеологических концепций, выраженных в официальных казенных речениях, понимаемых (еще раз подчеркнем) буквально114. В этом смысле показателен эпизод, когда жилище землекопов бдительно снабжается радиорупором, «чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы... Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, чтобы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье». Эта готовность, лишающая человека здравого понимания своих поступков, своей деятельности вообще, и обуславливает возможность превращения строительства дома в рытье огромной могилы будущего.
А. Платонов, будучи выразителем общекультурной ситуации 20— 30-х годов, показывает, что происходит с «человеком массы», когда предшествующая культура сметена. Масса, не принимая культуру (культурное наследие предшествующих веков, «гуманизм» в бло-ковском его понимании), отвергает культурные ценности и ори-
113 Верхейл К. История и стиль в прозе Андрея Платонова//«Страна философов»
Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994. С. 158—159.
114 «Слова официальных лозунгов превращались в практическое действие, —
размышляет французская исследовательница стиля А. Платонова А. Эпельбоин. —
После слов "диктатура пролетариата", "ликвидация кулачества" стала ясна опас
ность метафор, когда они претворяются в реальную жизнь. Утилитаризм в языке
достиг апогея: разрушенный язык стал орудием разрушения». Эпельбоин А. Поэтика
разрушения (Слово и сознание героев Платонова)//Страна философов Андрея
Платонова: проблемы творчества. С. 231.
Культурный вакуум
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
ентиры, на которые может опереться личность и которым она может следовать. Так возникает необходимость поиска этих ориентиров — и их находят в коммунизме Чевенгура, в революции.
Коммунизм и революция — понятия трудноопределимые для героев А. Платонова. Что такое, например, воздух Чевенгура, воздух коммунизма, от которого умер только что рожденный ребенок? Ведь именно это приводит Копенкина к окончательному разочарованию в Чевенгуре и построенному там коммунизму. Так же трудно определить и врагов: тот же Копенкин сечет саблей «вредный воздух» и определяет врагов по цвету глаз: «свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские; дальше Копенкин не вглядывался». Человек полностью дезориентирован в пространстве жизни — социальной, культурной, личностной — и слеп.
Масса отменяет религию — поэтому так смехотворен высокий религиозный пафос Копенкина с его паломничеством за мощами Розы Люксембург. Потому столь слепы герои Платонова в неразличении жизни и смерти, в стремлении свести их всего лишь к жизни и смерти тела. Пристальное внимание, концентрация героев на теле, их антиэстетический эротизм или же стремление сохранить тело после смерти — следствие неспособности постигнуть то, что вбирает религиозное сознание: мир иной. Человек оказывается беспомощным перед бытийными вопросами, слеп перед смертью и жизнью.
Его герои пристально всматриваются в смерть — и через сохранение мертвого тела стремятся понять ее и преодолеть. Через спасение, сохранение тела возможно обретение бессмертия. Это заставляет Копенкина пускаться в паломничество за освобождение от «живых врагов коммунизма» мертвого тела Розы Люксембург, видя в ней тело Господне и воспринимая революцию как кусочек ее мощей, чтобы «откопать из могилы и отвести к себе в революцию». Захар Павлович делает перед Пасхой «приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу, — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать вместе с ним». Единственная возможность сохранения связи мира живых и ушедших — не в глубинном духовном опыте обращения к Богу, но в поисках общения с любимым человеком через его могилу. 104
Культурный вакуум в эпосе Платонова оборачивается бытийной пустотой: человек перестает различать жизнь и смерть, благо и зло, святость и бесовщину — понятия об этом просто уходят из его сознания. Зато обостренными оказываются такие качества национального характера, как утопизм и мессианизм. Утопия коммунизма, возникшая в сознании массового человека и реализованная в коммуне «Чевенгур» или «Федор Достоевский», требует от ее членов и мессианского служения ей. Этим и обусловлено постоянное стремление Копенкина сразиться с живыми врагами Розы Люксембург и добиться если не установления в тех странах новой коммуны, то, по крайней мере, спасения ее тела.
Коммунистическая утопия требует непременного голого места, которым начинается и кончается и «Чевенгур», и «Федор Достоевский». В этом мире душевного товарищества и абсолютного равенства не может быть никакого преобладания человека над человеком, никакого угнетения. Для этого изничтожается любая собственность, любое имущество, и вводится запрет на труд как источник «происхождения имущества». Уничтожается все, кроме «голого тела товарища». Но и этого мало: организатор коммуны «Чевенгур» товарищ Чепурной понимает, что для коммунизма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущими людьми. Так возникает проблема изничтожения «имущего элемента» — буржуев: «Ты понимаешь, — это будет добрей! Иначе, брат, весь народ помрет теперь на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему же буржуазия? Это прямо некрасиво».
Представление о том, что если убить буржуев и оставить одну босоту, то социализм и коммунизм прямо упадут с неба, как раз и формирует образ коммунистической утопии, как ее мыслят копен-кины и чепурные, «юродивый коммунизм русской души»: «Тут целый коммунизм лежит в каждой душе и каждому хранить его охота».
Такой простой путь построения коммунизма вполне устраивает чевенгурцев, причем уничтожение «имущего элемента» происходит без всякой ненависти к нему, а просто в силу глубоко осознанной необходимости. При этом Платонов, изображая отношения палача и жертвы, показывает мировосприятие именно палача. И испытывает он не ужас и не ненависть, не чувство утоленной мести, а интерес, любопытство и даже сожаление о судьбе жертвы. Купец Щапов, прощаясь с жизнью, хватает за руку чекиста и обнимает лопух. «Чекист понял и заволновался: с пулей внутри бур-
Культурный вакуум
М. Зощенко как пролетарский писатель
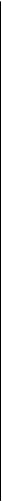

 жуй, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество». Бытийная пустота чевенгурцев отменяет даже простые элементарные рефлексы: убивая, чекист просвещает, как бы возвышает убитого до чувствований пролетария.
жуй, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество». Бытийная пустота чевенгурцев отменяет даже простые элементарные рефлексы: убивая, чекист просвещает, как бы возвышает убитого до чувствований пролетария.
С точки зрения С. Семеновой, А. Платонов, развенчав коммунистическую утопию («мистический шквал, снос
 2013-12-28
2013-12-28 728
728








