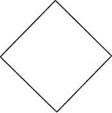Еще одно имя следует упомянуть здесь: Шиллера, с воззрениями, исправляющими Руссо и восстающими против пессимистической оценки культуры. Для Шиллера состояние культуры, как отрыва от природы, есть лишь переходная ступень к высшему синтезу природы и культуры — возвращение к золотому веку природного! бытия, обогащение всеми сокровищами бытия культурного.
Необходимо распутать этот сложный клубок влияний. «Буколичность» Веневи-: тинова отметил Хомяков еще в начале 20-х годов («Послание к Веневитиновым»).; В отношении буколичности идеи золотого века характерно сопоставить слова Ве-| невитинова «неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэта, игрою. воображения» и «золотой век точно существовал и снова ожидает смертных» с сло-: вами Зульцера (Allgemeine Theorie der schцnen Kьnste статья Hirtengedichte): «Der i Hirtenstand ist keine Erdichtung, er ist der Stand der Natur vieler Vцlker gewesen und ist es auch noch itzt». Шеллингианские элементы мы отметим позднее; но сейчас же Надо указать на возможные «шиллеровские» влияния извне. Что Шиллер создал в среде некоторых архивных юношей особый культ, напоминать не стоит. Если Рожалин и Веневитинов и считали себя больше гётеанцами, тем не менее Веневи-i тинов не мог не усвоить отдельных шиллеровских идей: шиллеровский дух носился в атмосфере. Как на особых почитателей Шиллера следует указать на Погодина и Шевырева. Последний переводил Шиллера и перевел между прочим (правда, В 1827 году, год смерти Веневитинова) «Четыре века» (Моск. Вестн. Ч. I. 1827. С. 164-166). Погодин в дневнике записывает (Барс. II, 19): «У Шиллера я нашел свои мысли». А в другой раз (II, 20): «Читал биографию Шиллера и воспламенялся.
7?. 2
Эстетика Веневитинова
Эстетика Веневитинова
223
 Когда я буду Шиллером?» (обе записи относятся к 1826 году). Стимулом для Веневитинова оформить бродившие в нем чаяния золотого века было чтение Платона, что видно из письма Веневитинова к Кошелеву летом 1825 года. В этом интересном письме (см. Колюпанов I, 2,116) Веневитинов сближает золотой век с библейским раем. К этой же эпохе относится и диалог Платона с Анаксагором о золотом веке. Замысел диалога с необыкновенной ясностью формулирован в только что упомянутом письме: «Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть началом всего. Всякая наука, чтобы быть истинною наукою, должна возвратиться к своему началу; другой цели нет». В диалоге говорится о трех возрастах человека — о младенчестве, о юности и возмужалости и о старости. Проходя их, жизнь описывает круг. «Вот жизнь человека! Она снова возвращается к своему началу». То же и для человечества: вернется золотой век. «Верь мне, Анаксагор, верь мне, она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные». Эта эпоха счастья есть примирение противоборствующих ума и чувства, возвращение в рай, к началу. В письме к Кошелеву Веневитинов пишет, что «в раю» для «первобытного Адама» — «все чувства были мысли». Стоит ли напоминать, что о социальном переустройстве архивные юноши не думали. Не стоит подчеркивать, что золотой век должен был, по взгляду Веневитинова, прийти апокалиптически и мистически, а не революционно. Только позднее золотой век будет будить иные чувства: Щедрин пишет о кружке Петрашевского — «оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" не позади, а впереди нас»... Конкретные социальные мечты юношей 20-х годов были гораздо более буколичны: А. С. Норов восклицает (Колюпанов I, 2, 54): «О, если бы все на свете бездельники от безделья только бы и делали, что писали стихи: тогда сильный не притеснял бы слабого, а в судах не брали бы взяток!» Вернее, вообще при таком утопании в стихах не было бы действий, золотой век был бы чистым созерцанием, может быть, мистика, может быть, homo philologus'a. Колюпанов сближал «архивных юношей» Александровской эпохи с «гвардейцами» Екатерининской (I, 2, 59). Можно согласиться с этим сближением, но надо подчеркнуть: это «гвардейцы» с парализованной волей, напоминающие штабс-капитана артиллерии Ильина, который, выйдя в отставку и погрузившись в мистику, стал писать стихи «Догмат покаяния без духовника или бомба Божьей артиллерии». Тема движения по кругу, возвращения к началу, была вообще характерна для круга друзей Веневитинова. В «Московском Вестнике» (Ч. 1. 1827. С. 208-214) критик «Исторических Афоризмов» Погодина, скрывавшийся за инициалом Р., дает приблизительно такую схему возрастов человека, повторяющуюся в мировой истории:
Когда я буду Шиллером?» (обе записи относятся к 1826 году). Стимулом для Веневитинова оформить бродившие в нем чаяния золотого века было чтение Платона, что видно из письма Веневитинова к Кошелеву летом 1825 года. В этом интересном письме (см. Колюпанов I, 2,116) Веневитинов сближает золотой век с библейским раем. К этой же эпохе относится и диалог Платона с Анаксагором о золотом веке. Замысел диалога с необыкновенной ясностью формулирован в только что упомянутом письме: «Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть началом всего. Всякая наука, чтобы быть истинною наукою, должна возвратиться к своему началу; другой цели нет». В диалоге говорится о трех возрастах человека — о младенчестве, о юности и возмужалости и о старости. Проходя их, жизнь описывает круг. «Вот жизнь человека! Она снова возвращается к своему началу». То же и для человечества: вернется золотой век. «Верь мне, Анаксагор, верь мне, она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные». Эта эпоха счастья есть примирение противоборствующих ума и чувства, возвращение в рай, к началу. В письме к Кошелеву Веневитинов пишет, что «в раю» для «первобытного Адама» — «все чувства были мысли». Стоит ли напоминать, что о социальном переустройстве архивные юноши не думали. Не стоит подчеркивать, что золотой век должен был, по взгляду Веневитинова, прийти апокалиптически и мистически, а не революционно. Только позднее золотой век будет будить иные чувства: Щедрин пишет о кружке Петрашевского — «оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" не позади, а впереди нас»... Конкретные социальные мечты юношей 20-х годов были гораздо более буколичны: А. С. Норов восклицает (Колюпанов I, 2, 54): «О, если бы все на свете бездельники от безделья только бы и делали, что писали стихи: тогда сильный не притеснял бы слабого, а в судах не брали бы взяток!» Вернее, вообще при таком утопании в стихах не было бы действий, золотой век был бы чистым созерцанием, может быть, мистика, может быть, homo philologus'a. Колюпанов сближал «архивных юношей» Александровской эпохи с «гвардейцами» Екатерининской (I, 2, 59). Можно согласиться с этим сближением, но надо подчеркнуть: это «гвардейцы» с парализованной волей, напоминающие штабс-капитана артиллерии Ильина, который, выйдя в отставку и погрузившись в мистику, стал писать стихи «Догмат покаяния без духовника или бомба Божьей артиллерии». Тема движения по кругу, возвращения к началу, была вообще характерна для круга друзей Веневитинова. В «Московском Вестнике» (Ч. 1. 1827. С. 208-214) критик «Исторических Афоризмов» Погодина, скрывавшийся за инициалом Р., дает приблизительно такую схему возрастов человека, повторяющуюся в мировой истории:
Возраст младенческий
|
|
| Зрелость (ум) |
| Старость |
Юношество (страсти)
На второй и третьей ступени мы «розним стихии бытия нашего». В старости «мирятся желанья с умом» — «все возвращается к своему началу» (с. 211).
Мы видим, что тема кругового движения сознания раскрывалась у Веневитинова и его друзей в богатых образах, в аспекте конкретном и реальном. Истоки этих образов были указаны. Но не могли не влиять и немецкие абстрактные положения. Уже у Фихте мы читаем, что «наука проделывает круг и покидает исследователя у той самой точки, из которой она вместе с ним вышла» (Ueb. d. Begr. der Wissenschaftslehre S. W. Bd. I. S. 59). К Фихте примыкает молодой Шеллинг. Позднее Гегель в «Науке логики» (S. W. Bd. S. 61) скажет: «существенное для науки состоит... в том, чтобы целое образовало в себе круг, в котором первое есть также и последнее, а последнее есть также и первое». Ближайший детальный контекст, может быть, и вскрыл бы некоторые разноречия между Фихте — Шеллингом, с одной стороны, и русскими их сторонниками — с другой. Но одно бесспорно, как мы сейчас увидим: с веневитиновской идеей синтеза ума и чувства тесно сплелась шеллинги-анская идея синтеза поэзии и философии. Исторически такое сближение антитезы ум — чувство, философия — поэзия было оправдано: уже в середине XVIII века в немецкой поэтике стал противопоставляться язык понятий языку образов, как язык рассудочный языку аффектов.
Так у швейцарцев, у Гамана, для которого язык образов (Bildersprache) есть язык страстей (Sprache der Leidenschaften), и у Гердера. Понимание Баумгартеном эстетики как низшей логики — есть понимание ее как sui generis логики темных ощущений-чувств в противоположность логике ясных понятий. Естественно, что стремление романтиков к примирению в высшей способности (разуме) рассудка и темных иррациональных глубин, взбудораженных предшественниками романтизма, должно было во многих пунктах совпасть с задачей примирения философии и поэзии. Параллели веневитиновских мыслей по этому предмету с мыслями Шеллинга в «Трансцендентальном идеализме» и «Бруно» уже были сделаны в истории литературы {Котляревский Н. Старинные портреты. С. 113—116 и Бобров. Фил. 8).
Не проделывая вновь уже проделанного, мы ограничимся приведением собственных мыслей Веневитинова. В «Плане журнала» Веневитинов утверждает: «истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения». В критике на книгу Мерзлякова Веневитинов указывает на Эсхила, «стремившегося соединить поэзию с любомудрием». Там же говорится о Гомеровых поэмах, что они «духом близки к счастливому времени, в котором мысли и чувства соединялись в одной очаровательной области, заключающей в себе вселенную». Но эти воззрения нельзя брать в «разбавленном» виде, толкуя только как требование «философизма» в поэзии. Нужно помнить, что Веневитинов делал радикальные выводы: «философия есть высшая поэзия», говорит он устами Платона в диалоге «Анаксагор». Это значит, что философское творчество есть вид художественного, а метафизика делается равноценной поэме. «Не изгоняйте, друзья мои, из области рассудка фантазии... которая, облекая высокое в свою радужную одежду, не искажает светлого луча истины, но дробит его на всевозможные цвета» («Утро, полдень, вечер и ночь». — Курсив мой). Благодаря такой Радикальной постановке вопроса должны были возникнуть или недоговоренности в частностях, или колебания. Сам Веневитинов, мы видели, требовал отчета в художественном восприятии, требовал особого, философского понимания художественного произведения. Но наряду с этим он утверждал уже саму поэзию, как своего Рода понимание, более того — философское понимание он приравнивал именно К тому поэтическому пониманию, в котором надлежало дать отчет. Отсюда было
Эстетика Веневитинова
225
 два выхода — или признать в самой поэзии переходную ступень к «высшей поэзии» — философии, или вернуть философию в лоно фантазии и мистерий. Н. В. Станкевич в письме к Грановскому от 27 августа 1838 года (Переписка и биогр., напис. П. В. Анненковым. М., 1857. С. 274, письмо № 27) очень хорошо подметил первый уклон в творчестве Веневитинова: «У Веневитинова было художнически-рефлективное направление вроде Гёте, и я думаю, что оно кончилось бы философией, как у Гёте кончилось аллегорией» (цит. по Боброву. Лит. I, 82). Веневитинов сам рассматривает в своем отрывке «Утро, полдень, вечер и ночь» мысль как «божественный плод, приуготовляемый цветами фантазии». Словом: одежда, приуготовление — все это тяготеет к аллегории, к подчинению фантазии. Но с другой стороны, могло произойти и обратное: растворение философии в фантазии (мифе). Оно действительно произошло: в 1827 году Титов печатает в «Московском вестнике» (1827. Ч. 2) статью «О достоинстве поэта». Здесь еще все звучит по-веневити-новски. «Пусть думают невежды, что Поэзия есть собрание пустых вымыслов. В сих вымыслах, как в радуге блестящей, отражается божественный луч истины» (с. 233). «Сие тожество Философии и Поэзии яснее видно в Истории: в младенчестве народов, — пока познание еще не раздробилось на разные науки, общие мысли философские передавались в песнопениях, которым древние приписывали чудесную силу» (с. 234). Или: «всякая истинная поэзия приводит нас к идеям Философским, и обратно всякая Философия истинная дает нам утешительное пиитическое воззрение на сущее» (с. 235). Но уже в 1829 году иные ноты звучат в отрывке В. Анд[росова?] «О начале Идеализма» (ibid. 1829. Ч. 4. С. 89—104): автор восходит к «учению, возникшему на берегах Ганга, переданному в темных преданиях мудрости Египтян» (с. 102), которое «перешло в Мифы Греции, проблеснуло в Италии и у Мавров, ярко озарило XVI столетие и, подкрепляемое всем богатством вековых сведений физических, раскрывается в наше время» (с. 103). Любопытно, что цитаты из Шеллинга и Окена приводятся наряду с цитатами из трактата Плутарха об Изиде и Озирисе (уподобление природы прямоугольному треугольнику. Ср. выше о геометрической символике). Не совсем не прав был Плетнев, когда еще в 1827 году писал князю Вяземскому (цит. по Барс. II, 130): «„Московский вестник" кипит деятельностью. Кажется однако ж мне, что он круто все хочет повернуть. Ему хочется вдруг развить у нас и Германские идеи, и таинства Востока». К этим-то «таинствам Востока» мог прийти и Веневитинов. Прав (хотя бы до некоторой степени) Кениг, когда пишет (с. 178): «Schwerlich mцchte er jemals ein systematischer Schul-Philosoph geworden sein» Показательно, что среди заметок Веневитинова сохранился отрывок из статьи о «Зороастре и его вероучении» (Шпицер, 277—278), в котором затрагивается и любимая тема Веневитинова о золотом веке. К тому же традиция масонская носилась еще в воздухе. Крейцер перекликался с московскими масонами. Уже в цитированном письме к Кошелеву 1825 года Веневитинов говорит о последней ступени развития: «на этой ступени (хотя эта точка — идеал) не будет уже наука, а будет одно всеведение», ибо «тогда родилась философия, когда человек раззнакомился с природой». Здесь Веневитинов повторяет раннего Шеллинга: die Philosophie arbeitet zur eigenen Vernichtung (Ideen zu einen Philos, d. Natur. S. W. Bd. II. S. 14). Несколько раз высказывалось воззрение на Веневитинова как на натуру гармоническую и уравновешенную. Пятковский сопоставляет Веневитинова с Баратынским, усматривая у последнего перевес мысли над чувством, у Веневитинова же — их равновесие (Пятк. 58). Бобров говорит о Веневитинове (Лит. I, 71): «Как в человеке, нас поражает в нем редкая гармоничность натуры... В нем почти одинаково сильны были и ум, и чувство, и творческая способность фантазии». В другом месте
два выхода — или признать в самой поэзии переходную ступень к «высшей поэзии» — философии, или вернуть философию в лоно фантазии и мистерий. Н. В. Станкевич в письме к Грановскому от 27 августа 1838 года (Переписка и биогр., напис. П. В. Анненковым. М., 1857. С. 274, письмо № 27) очень хорошо подметил первый уклон в творчестве Веневитинова: «У Веневитинова было художнически-рефлективное направление вроде Гёте, и я думаю, что оно кончилось бы философией, как у Гёте кончилось аллегорией» (цит. по Боброву. Лит. I, 82). Веневитинов сам рассматривает в своем отрывке «Утро, полдень, вечер и ночь» мысль как «божественный плод, приуготовляемый цветами фантазии». Словом: одежда, приуготовление — все это тяготеет к аллегории, к подчинению фантазии. Но с другой стороны, могло произойти и обратное: растворение философии в фантазии (мифе). Оно действительно произошло: в 1827 году Титов печатает в «Московском вестнике» (1827. Ч. 2) статью «О достоинстве поэта». Здесь еще все звучит по-веневити-новски. «Пусть думают невежды, что Поэзия есть собрание пустых вымыслов. В сих вымыслах, как в радуге блестящей, отражается божественный луч истины» (с. 233). «Сие тожество Философии и Поэзии яснее видно в Истории: в младенчестве народов, — пока познание еще не раздробилось на разные науки, общие мысли философские передавались в песнопениях, которым древние приписывали чудесную силу» (с. 234). Или: «всякая истинная поэзия приводит нас к идеям Философским, и обратно всякая Философия истинная дает нам утешительное пиитическое воззрение на сущее» (с. 235). Но уже в 1829 году иные ноты звучат в отрывке В. Анд[росова?] «О начале Идеализма» (ibid. 1829. Ч. 4. С. 89—104): автор восходит к «учению, возникшему на берегах Ганга, переданному в темных преданиях мудрости Египтян» (с. 102), которое «перешло в Мифы Греции, проблеснуло в Италии и у Мавров, ярко озарило XVI столетие и, подкрепляемое всем богатством вековых сведений физических, раскрывается в наше время» (с. 103). Любопытно, что цитаты из Шеллинга и Окена приводятся наряду с цитатами из трактата Плутарха об Изиде и Озирисе (уподобление природы прямоугольному треугольнику. Ср. выше о геометрической символике). Не совсем не прав был Плетнев, когда еще в 1827 году писал князю Вяземскому (цит. по Барс. II, 130): «„Московский вестник" кипит деятельностью. Кажется однако ж мне, что он круто все хочет повернуть. Ему хочется вдруг развить у нас и Германские идеи, и таинства Востока». К этим-то «таинствам Востока» мог прийти и Веневитинов. Прав (хотя бы до некоторой степени) Кениг, когда пишет (с. 178): «Schwerlich mцchte er jemals ein systematischer Schul-Philosoph geworden sein» Показательно, что среди заметок Веневитинова сохранился отрывок из статьи о «Зороастре и его вероучении» (Шпицер, 277—278), в котором затрагивается и любимая тема Веневитинова о золотом веке. К тому же традиция масонская носилась еще в воздухе. Крейцер перекликался с московскими масонами. Уже в цитированном письме к Кошелеву 1825 года Веневитинов говорит о последней ступени развития: «на этой ступени (хотя эта точка — идеал) не будет уже наука, а будет одно всеведение», ибо «тогда родилась философия, когда человек раззнакомился с природой». Здесь Веневитинов повторяет раннего Шеллинга: die Philosophie arbeitet zur eigenen Vernichtung (Ideen zu einen Philos, d. Natur. S. W. Bd. II. S. 14). Несколько раз высказывалось воззрение на Веневитинова как на натуру гармоническую и уравновешенную. Пятковский сопоставляет Веневитинова с Баратынским, усматривая у последнего перевес мысли над чувством, у Веневитинова же — их равновесие (Пятк. 58). Бобров говорит о Веневитинове (Лит. I, 71): «Как в человеке, нас поражает в нем редкая гармоничность натуры... В нем почти одинаково сильны были и ум, и чувство, и творческая способность фантазии». В другом месте
Бобров говорит о «печати классического мира» (с. 11). Айхенвальд (Ист. рус. лит., изд. «Мир», II, 43) говорит: «соединение „разума с пламенной душой" наиболее характерно для молодого поэта». То же говорят современники. А. Х[омяков] в «Библиотеке для воспитания» пишет: «Веневитинов не был исключительно художником, душа ясная и благородная, разум образованный, мыслящий и сильный, соединялись в нем в полной и прекрасной гармонии». Иван Киреевский (Обозр. рус. словесн. за 1829 г. Поли. собр. соч. М., 1911. Т. II. С. 27) пишет: «щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием», «созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа». Бестужев-Рюмин отмечает (Сев. Пчела. 1829. № 23): «Почти во всех его произведениях видны образованный ум и прекрасная истинно-пиитическая душа». Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) пишет: «Один только Веневитинов [из молодых поэтов пушкинской поры] мог согласить мысль с чувством, идею с формою...» Иными словами, Веневитинов сам превращается в того поэта, о котором он писал:
Он дышит жаром красоты, В нем ум и сердце согласились, И мысли полные носились На легких крылиях мечты.
(«Поэт и друг»)
Но на самом деле достаточно напомнить о Петербургском периоде жизни Веневитинова, чтобы понять, насколько далека гармоничность от внутреннего смятения и мятежа. Золотой век, синтез философии и поэзии был задан, а не дан реально, был якорем спасения в реальном хаосе, расколе мысли и поэзии. Б. Садовской (Рус. Кам. 63) говорит о «ломающемся, нервном с перебоями и в то же время плавном метре» стихов Веневитинова. «Холодные сомненья» — это выражение повторяется в двух стихотворениях Петербургского периода («К моему перстню», «Завещание»). И еще выразительнее запечатлелась та же смятенность в полночь Нового (последнего для Веневитинова) 1827 года (см. «На Новый 1827 год»). Нельзя не признать известной доли правды в словах предисловия к Полн. собр. соч. 1829 г. (Ч. I. С. V): «Нет сомнения, что причиною преждевременной его смерти были частые, сильные потрясения пылкой, деятельной души его». Где же тогда гармония? Даже Пятковский (с. 25) говорит о «внутренних борениях, невольном скептицизме и временной апатии к жизни, которым суждено было вторгнуться в мирную и невозмутимую жизнь поэта». Ближайшие друзья Веневитинова еще более зорко видели все трудности и неизбежно тяготели к другим путям, если не хотели остаться в «прекраснодушном» энтузиазме, который остывал и в самом Веневитинове. Веневитинов Щебовал синтеза философии и поэзии, на опыте же, реально знал правду слов Баратынского:
Но пред тобой, как пред нагим мечом, Мысль, острый луч! — бледнеет жизнь земная.
Иван Киреевский пишет в 1828 году Кошелеву по-веневитиновски: «Кто не понял мысль чувством, тот не понял ее, точно так же как и тот, кто понял ее одним чувством» (Полн. собр. соч. I, 14). А в 1840 году он пишет Хомякову: «Покуда ьидсль ясна для разума, или доступна слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только пришла в зрелость... чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постиг себя. Чувство вполне высказанное перестает быть чувством» (ibid. I, 67).
8 — оnxih
 Эстетика Веневитинова
Эстетика Веневитинова
Эстетика Веневитинова


 Вся «Простая речь о мудреных вещах» Погодина, вчерашнего шеллингианца, (пусть поверхностного, но все же благоговевшего перед философским разумом и перед Шеллингом) — полна чувства тайны и непостижимости. «Сколько систем было на свете! И все эти системы сменяются, как сменяются листья каждую осень. Всякий молодец на свой образец. Этого мало: они спорят между собою и бьют друг друга наповал. Хоть бы начинали так: Кажется мне вот что. Нет, каждый думает, что он нашел истину...» (2-е изд. М., 1874. С. 44). Между тем в 20-х годах Погодин был другим. И его занимал образ Золотого века. «С каким восторгом представлял я себе то время, когда человек, на лоне природы, в мире с самим собою, с своей совестью, со всем окружающим, в кругу своего семейства будет наслаждаться жизнью, проводя ее в изысканиях тайн мироздания, тайн истории, в творениях мысли и чувства... И я был уверен, что оно наступит! Содействовать приближению этого времени — какое счастье! Дайте мне хоть орангутанга, думал я в восторге, идя однажды с Дмитрием Веневитиновым и беседуя о золотом веке, и если я успею выдвинуть его на несколько шагов вперед на его пути, то я не пожелаю ничего более» (с. 25). Так было в 20-х годах, а позднее Погодин, ставший скептиком, иронизировал: «Ходили охотники в Эльдорадо за счастьем, но и там его не оказалось, а в Московском Эльдорадо можно только плотно наесться и пьяно напиться, чтоб встать на другой день с больной головою» (с. 127). И общий скептический вывод: «Что же остается делать человеку, спросили бы мы его? Он, разумеется, отвечал бы: не знаю» (с. 47). Последний афоризм Погодин сопровождает примечанием-сноской: «А наши мыслители разрешают смело: что хочет! — Молодцы! За словом в карман не полезут». — Шеллингианство кончилось и отпало, как шелуха.
Вся «Простая речь о мудреных вещах» Погодина, вчерашнего шеллингианца, (пусть поверхностного, но все же благоговевшего перед философским разумом и перед Шеллингом) — полна чувства тайны и непостижимости. «Сколько систем было на свете! И все эти системы сменяются, как сменяются листья каждую осень. Всякий молодец на свой образец. Этого мало: они спорят между собою и бьют друг друга наповал. Хоть бы начинали так: Кажется мне вот что. Нет, каждый думает, что он нашел истину...» (2-е изд. М., 1874. С. 44). Между тем в 20-х годах Погодин был другим. И его занимал образ Золотого века. «С каким восторгом представлял я себе то время, когда человек, на лоне природы, в мире с самим собою, с своей совестью, со всем окружающим, в кругу своего семейства будет наслаждаться жизнью, проводя ее в изысканиях тайн мироздания, тайн истории, в творениях мысли и чувства... И я был уверен, что оно наступит! Содействовать приближению этого времени — какое счастье! Дайте мне хоть орангутанга, думал я в восторге, идя однажды с Дмитрием Веневитиновым и беседуя о золотом веке, и если я успею выдвинуть его на несколько шагов вперед на его пути, то я не пожелаю ничего более» (с. 25). Так было в 20-х годах, а позднее Погодин, ставший скептиком, иронизировал: «Ходили охотники в Эльдорадо за счастьем, но и там его не оказалось, а в Московском Эльдорадо можно только плотно наесться и пьяно напиться, чтоб встать на другой день с больной головою» (с. 127). И общий скептический вывод: «Что же остается делать человеку, спросили бы мы его? Он, разумеется, отвечал бы: не знаю» (с. 47). Последний афоризм Погодин сопровождает примечанием-сноской: «А наши мыслители разрешают смело: что хочет! — Молодцы! За словом в карман не полезут». — Шеллингианство кончилось и отпало, как шелуха.
В двадцатых годах у любомудров был ответ ясный и четкий на вопросы о блаженстве души и жизненных целях. По-русски понятый Шеллинг указывал им на «самосведение» и «самопознание». В сущности это был Сковорода, говоривший: «По земле, по морю, по горних и преисподних шатался за счастьем. А оно у меня за пазухою дома...» Теперь открылись глаза на другое. Погодин протягивал руку вчерашнему натурфилософу — шеллингианцу Ястребцову, стоявшему в стороне от любомудров (впрочем, в 30-х годах полемизировавшему по вопросам эстетики с Шевыревым). В 1839 году Ястребцов писал («Исповедь». СПб., 1841. Предисл.): «Теперь достиг до пристани. Вот моя пристань: сознание бессилия разума человеческого, оставленного самому себе». «Для Мудрости нет надежды на разум человеческий. Многоречив он для предметов малых и ничтожных, а для важных нем» (с. 239). Тот же Ястребцов в 1838 в «Сыне Отечества» поместил статью «О чувстве» (перепеч. в «Исповеди»), вторгавшуюся в самую цитадель русских шеллинги-стов-любомудров. Мы видели, что любомудры на первых порах замкнулись в эстетическом «монастыре» чистого искусства. Недаром они (Титов, Шевырев, Мельгунов) переводили Ваккенродеровы «Размышления отшельника, любителя изящного» (М., 1826). Сюда-то и направляет нападения Ястребцов: «Стихотворный ритм уступил место стуку... паровой машины. В это-то время положительности вдруг раздались хвалебные песни изящному. Но эстетическое чувство спасет ли? Спасет, как щепка спасает утопающего» (с. 242). «Какого художника, какого поэта спасло эстетическое чувство. Известна биография знаменитых поэтов. На ком остановимся» (с. 257—258). «Эстетическое чувство, подобно разуму, имеет дело с преходящею, условною формою. Его предмет возможность, а не действительность, облако Юноны, вместо Юноны самой» (с. 254). Вся беда в том, что сами любомудры уже не довольствовались этим «облаком Юноны», царством отрешенного бытия. Иван Яковлевич Кронеберг, унаследовавший от своих немецких предков идею невидимой
церкви, мог говорить о невидимой Философии: «Нет Философии in concreto. философия, как квадратура круга, есть только необходимая задача ученого, идеал науки вообще» (Брошюрки VII, с. 14). Подобно тому, как на Западе романтики взалкали осязаемого «Разума», «Разума на земле», так и любомудры сошли на землю. Гегель увидел «осязаемый Разум» в Прусском государстве, Брентано — в престоле св. Петра, любомудры бросили эстетический монастырь чистого искусства, чтобы идти к настоящему монастырю — Оптиной. Синтеза ума и чувства стали искать не у Шлегелей, а в «Добротолюбии». Так шел друг Веневитинова Иван Киреевский. Неизвестно, как пошел бы Веневитинов, но есть большая вероятность, после всего сказанного о нем, что он пошел бы таким же путем.
Часто обособляли Веневитинова от его друзей и от его эпохи. Кубасов пишет: «Лучи его славы не меркли даже при сиянии „солнца нашей поэзии" — Пушкина, но разливали свой мягкий, ласкающий свет». По заключению Белинского, «Веневитинов сам собою бы составил бы школу». Бобров утверждает (Лит. I, 168): «Он как бы иностранец и стоит вне связи с предшествующим развитием русской литературы». Пятковский высказывает аналогичное утверждение (с. 57—58): «Мы, при всех усилиях, не могли бы подвести ему никакой генеалогии». Но Хомяков сказал вернее (Библ. для восп. С. 2): «Завет таких людей как он никогда не пропадет, другие исполнят то, что Веневитинов обещал — таков ход человеческой мысли» (курсив мой). Совершенно прав Б. Садовской, говоря: «По виду преувеличенное, поклонение друзей станет понятно, если мы увидим в Веневитинове не столько „поэта", сколько „человека двадцатых годов", ярко выражающего сущность своей эпохи» (Рус. Кам. 62. Курсив мой). В Веневитинове in nuce таились все те разнородные пути, по которым пошли его друзья. Перегорев в петербургском скептицизме, и он не вернулся бы к Шлегелям; он вряд ли остановился бы и на погодинском иррационализме, а стал бы искать иных путей. В нем таились возможности гносиса, но уже не шеллингиански-эстетического, а иного.
Одно ясно: любомудров в их шеллингианстве не замолчали и не затерли, они сами пошли по другому пути. Оппортунистами могли быть Давыдовы, но не они. Ясно и другое — основная идея славянофилов о цельном знании вся целиком, но в аспекте эстетическом, была дана в веневитиновской идее о высшем синтезе ума и чувства — уже в 20-х годах. Идея эта была навеяна Германией, но психологические обертоны ее были другие. Поэтому и судьба ее была другая.
Несколько лет тому назад мне пришлось быть в Симоновом монастыре. Встречного монаха я спросил о могиле Веневитинова. «А он кто такой был?» — «Писатель». — «Не знаю. А вот Аксаковы — здесь». Могила Веневитинова оказалась подле, Но найти ее трудно было сразу: каменная плита, вровень с землей, была наполовину засыпана листьями, падающими с соседнего дерева.
Под сим камнем погребено тело
Димитрия Владимировича Веневитинова
Родившегося 1805 года сентября
14 дня и скончавшегося 1827 года
марта 15 дня в 5 часов утра от роду ему было 21 год 6 месяцев и 1 день
Как знал он жизнь Как мало жил.

|
|
a________________________________________________
Простого монаха нельзя было винить в том, что он подле славянофилов Аксаковых не разглядел Веневитинова: историки русской философии и литературы до сих пор не видели этого.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Колюпанов Н. Кошелев. СПб., 1889. Т. I. Ч. 2. (М. 3.)
2 Б. Садовской не прав, восклицая по поводу последнего периода жизни Веневитинова: «Вот оно,
проникновение в жизненную тайну!» — и говоря о «безумном упоении на жизненном пире» (Рус.
Кам. 67). Он опирается на первые строфы стихотворения «ХХХШ» и забывает строки дальше:
«Смирится гордое желанье».
3 Ср. «Выписка из письма Русского Путешественника по Европе» в бумагах Одоевского в Историче
ском Музее в Москве. Г. 1/16. Л. 55-64. Изложение и выдержки у Сакулина (I, 334-338).
4 Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. (М. 3.)
5 Идея о трех этапах мысли и разрыве рефлексии с миром имеется в Введении к Ideen Шеллинга
(S. W. Abt. I. Bd. II. S. 13-14). Подразделение на эпоху эпическую, лирическую, драматическую
близко к Шлегелю. Р. В. Иванов-Разумник (Обществ, и умств. течения 30-х годов и их отражение
в литературе // История рус. литер XIX века. Изд. «Мир». М., 1916. Т. I. С. 255 = Ист. русск. об
ществ, мысли. Ч. П. Пг., 1918. С. 179) сближает диалог «Анаксагор» с Philosophie und Religion (S.W.
VI, 57-59) и Ueber das Wesen der menschl. Freiheit (ibid. VII, 378-380) Шеллинга. Но эти сближения
чересчур отдаленны. Теософские тона Шеллинга, вступающего в «баадеровскую» фазу своего фи
лософского развития, иные, чем тон веневитиновского диалога.
Москва, март 1926
ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА ЯЗЫКОВА
Wer das Dichten will verstehen muss ins Land der Dichtung gehen, Wer den Dichter will verstehen muss ins Dichters Lande gehen.
[Goethe]
Взятое самим Языковым в качестве эпиграфа к собранию его стихотворений четверостишие Гёте намечает уже в главных чертах программу и путь настоящего исследования. Предмет этого исследования — художественное творчество (Das Dichten). Нельзя поэтому не идти в страну поэзии — der Dichtung Land — в сторону, граничащую с формально-аналитическими, литературными изысканиями. Но не «просто» творчество или творчество «вообще» составляет предмет изучения, а творчество Языкова; не только поэтическое творчество поэта, но и сам поэт (der Dichter) подлежит уразумению. Следовательно, и в страну поэта (des Dichters Land) — нужно будет идти исследователю, то есть в Дерпт, в село Языково, в Москву, Симбирск.
Надо однако оговориться: не просто формальные и литературные анализы должны найти здесь место, как бы мало их ни было произведено в отношении стихов Языкова и как бы их отсутствием ни тормозилось психологическое истолкование Языковских произведений в их художественном своеобразии. Формально-поэтические элементы, помимо самодовлеющего изучения, могут изучаться и со стороны психологической, — психологической выразительности и психологического воздействия. Только под этим углом зрения мы и будем их рассматривать: формальные особенности для нас приметы художественной личности Языкова, той личности, которая наложила печать на его стихотворения. И только осветив художественную личность, можно уже затем говорить о связи ее с биографически данной личностью.
Анализ всего уместнее начать с общих характеристик языковского стиха, дававшихся различными исследователями и позволяющих судить о том общем, полусознательном впечатлении, которое оставалось у всех, читавших Языкова, и которое в сущности свидетельствует о психологическом общем строе языковской лиры в не меньшей мере, нежели о преломлении ее в сознании языковских читателей.
I
В 1833 году К. Полевой писал: «стих Языкова закален громом и огнем Русского языка». Об этом громе и блеске будут говорить все, позднее писавшие о Языкове. И. Киреевский (1834) говорит о «роскоши, блеске и раздолье, кипучести и звонкости, пышности и великолепии» его стиха. Белинский (1845) говорит: «все были поражены... звучностью, яркостью, блеском и энергиею его стиха». В той же статье он пишет: «в стихе г. Языкова много блеска и звучности; первый ослепляет, вторая оглушает». Погодин (1846) говорит о «стихах пламенных, громозвучных», о том, что «златокованый стих его возгремит еще громче, заблистает еще ярче, чем прежде». Шевырев (1847) говорит о «широком раздолье его громозвучного слова», о «заветном,
Психология творчества Языкова
231
 |  |
тайном чувстве, связывающем поэта с основою народной жизни... которое гремит громом в последних его произведениях, обещая какую-то чудную, новую поэзию». Кн. Вяземский говорит в стихах о Языкове «сверкавшем и гремевшем огнедышащим стихом»1, в статье — о «бойком и звучном стихе» его (1847).
Но никто, быть может, не проник так глубоко в этот блеск и гром Языковского стиха, как Гоголь, у которого на этот счет есть поистине замечательные строки: «...сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света». И в другом месте: «стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него тогда только жив, когда он движется, или звучит или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое»2. Даже второистоки, газет-но-журнальные статьи и статейки, каким-то отблеском усвоили то же. Так, в «Иллюстрированной Неделе» (1875) говорится о «блестящем» стихе, «блестящем» даровании, «силе и блеске» стиха.
 2020-08-05
2020-08-05 91
91