Новое европейское международное право начинается с восклицания Альберико Джентили, в котором при обсуждении вопроса о справедливой войне теологам предлагается молчать: Silete Theologi in munere alienol
а) Новый территориальный порядок государства
Одно из следствий Реформации заключалось в ом, что теологи были отстранены от практическо-0 обсуждения международно-правовых вопросов.

В силу этого исчезла и принадлежавшая средневековому порядку potestas spiritualis. Теологи черпали свои аргументы не из вакуума и разворачивали их также отнюдь не в вакууме. Они принадлежали к определенному институциональному порядку, и каждое их слово следует понимать сугубо конкретно, т. е. в контексте этого ordo. Но начиная с XVI столетия международно-правовые вопросы стали прерогативой юристов (состоявших на правительственной службе); они рассматривали их как теоретически, секуляризируя морально-теологическую аргументацию схоластов и превращая ее в «естественную» философию и «естественное» право, основывающееся на всеобщем, человеческом разуме, так и практически-позитивно, используя понятия римского права, воспринимая их в том виде, в каком они были им предоставлены ци-вилистским правоведением и легистической юридической практикой их эпохи. В результате возник своеобразный гибрид унаследованных от Средневековья морально-теологических теорий справедливой войны и таких сугубо светских, юридически-цивили-стских понятий, как «occupatio», экстраполированных на борьбу за захват земли в Новом Свете. Однако на самом деле то, что привело к возникновению нового конкретного международно-правового порядка и ограничению войны, выросло не только из дальнейшего развития морально-теологических понятий и тем более не только из использования понятий и норм римского права. Оно возникло из сформировавшегося к тому времени в Европе конкретного пространственного порядка — государства — и из представления о некоем европейском равновесии этих государств.
Начиная с XVI века континентальное европейское международное право, jus publicum Europaeum, было по свое глубинной сущности межгосударственным правом европейских суверенов и исходя из этого ев^ ропейского ядра определяло номос всей остальной
Земли. При этом «государственность» — это отнюдь не всеобщее, действительное во все времена и для всех народов понятие, а обусловленное эпохой, конкретно-историческое явление. Абсолютно ни с чем не сравнимая, уникальная историческая особенность того, что в специфическом смысле можно назвать «государством», заключается в том, что это государство было своего рода локомотивом секуляризации. Поэтому образование международно-правовых понятий этой эпохи вращается вокруг одной-единствен-ной оси: суверенного территориального государства. Новая величина — «государство» — вытесняет сакральную империю и императорскую власть Средневековья; она ликвидирует также и международно-правовую potestas spiritual is папы и пытается превратить христианскую церковь в инструмент своих полицейских акций и своей политики. Сама римская церковь превращается во всего лишь «potestas indirecta»' и, насколько я могу судить, уже и не помышляет об «autoritas directa».2 И другие исторические ориентиры средневековой Respublica Christiana, такой наполненный смысл институт, как «корона», также утрачивают свой типический характер и становятся на службу государства. Король, т. е. получивший сакральную санкцию на свою деятельность носитель короны, превращается в суверенного главу государства.
В этом отношении ведущей державой была Франция, ставшая первым в юридическом смысле суверенным государством. Благодаря понятию суверенитета короля во Франции уже в конце XVI века было покончено с гражданской войной, которую вели противоборствующие религиозные партии. В Испании и в Италии дело вообще не дошло до открытой гражданской войны между религиозными
1 Косвенная власть (лат.).
2 Непосредственное влияние (лат.).
партиями. В Германии и Англии она лишь в XVII столетии приняла открытые формы войны или гражданской войны. Французские легисты во главе с Жаном Боденом первыми дали убедительные дефиниции государственного суверенитета, с невероятной скоростью распространившееся по всей Европе. В заглавии труда Бодена «Six livres de la Republique»1 слово Respublica уже следует переводить как «государство». Труд Бодена оказал более мощное и более стремительное влияние на правовую мысль, чем любая другая книга любого юриста во всей истории права. Он увидел свет в 1576 году, т. е. через четыре года после кровавой вакханалии парижской Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 года, и, как и получившее в нем определение государство, явился результатом конфессиональной гражданской войны. В этом заключена экзистенциальная истина и общеевропейская значимость этой замечательной книги.
Лишь несколькими годами позднее появились международно-правовые трактаты Бальтазара Айалы (1582) и Альберико Джентили (1588), в которых нашло свое первое выражение новое межгосударственное международное право. Об этих истинных основателях межгосударственного права нам еще предстоит поговорить более подробно. Их фунда ментальные понятия сложились уже под сильны влияниям Бодена. Поэтому здесь нам необходим ясно представить себе это основополагающее по нятие суверенного «государства» во всем его кон кретном международно-правовом и исторически своеобразии. Ибо государство переворачивает про странственный порядок Respublica Christiana Сред невековья и заменяет его совершенно другим пространственным порядком.
То, что ни император, ни Папа не могут предоставить правовых полномочий для гигантского захвата
1 Шесть книг о государстве (фр.). 144
земли, было очевидным уже для Франсиско де Вито-риа. Именно испанские авторы Сото и Васкес подчеркивали это, наблюдая дальнейший ход развития противоречий XVI столетия. И у ссылавшегося на нИх вышеназванного Бальтазара Айалы также в этом отношении нет никаких сомнений, хотя он и находится на испанско-католической стороне. С научной и социологической точки зрения развенчание Папы и императора означает детеологизацию аргументации. В практическом отношении это означает не только исчезновение понятий, на которых основывался прежний пространственный порядок, но и отмену вытекающего из них ограничения войны. Одновременно это означает и конец средневекового учения о тирании, т. е. о возможности папских и императорских интервенций, затем — конец права на междоусобицы и сопротивление, а также конец старого Божьего согласия. На смену ему приходит государственное умиротворение. Но прежде всего появление такого рода государства означает конец крестовых походов, т. е. прекращение действия папского мандата как признанного правового основания для захвата земли нехристианских государей и народов.
Однако все это лишь негативные характеристики, знаменующие конец эпохи Средневековья, но еще ничего не говорящие о каком-то новом особенном пространственном порядке. Этот порядок устанавливается государством на твердой суше европейского континента. Историческая специфика такого рода государства, его изначальная историческая легитимация, как уже говорилось, заключается в процессе секуляризации всей европейской жизни, в котором мы можем выделить три самостоятельных функции. Во-первых, государство создает внутри себя четкие сферы компетенции, подчиняя феодальное, территориальное, сословное и церковное право централизо-ванному законодательству, системе управления и правосудия, контролируемые властителем той или
КаРл Шми
иной территории. Во-вторых, оно кладет конец тогдашней европейской гражданской войне церквей и конфессиональных партий и нейтрализует внутригосударственный межконфессиональный конфликт, устанавливая централизованное политическое единство. Эту новую связь между религиозной конфессией и замкнутым территориальным пространственным порядком, возможно, несколько грубым и примитивным образом, хотя очень четко и в том, что касается самой сути дела, достаточно метко выражает немецкая формула cujus regio, ejus religio}1 Наконец, в-третьих, государство на основании установленного
' Чья власть, того и религия (лат.).
2 В самом деле, этот тезис соответствует реалиям возникающего начиная с XVI века европейского государства, важнейшим правом которого везде было jus reformandi [право изменять], т. е. право определять государственную религию и государственную церковь. Religio est regula jurisdictionis [религия — критерий юрисдикции]. В формулировке cujus regio, ejus religio этот тезис, возможно, восходит к поздней стадии скрытой либо открытой конфессиональной гражданской войны, начавшейся одновременно с реформацией. Такого рода радикальные лозунги, как правило, являются зрелыми плодами, падающими с древа исторического опыта. Иоханнес Хеккель в статье, опубликованной в юбилейном сборнике в честь Ульри-ха Штутца (Cura religionis; Jus in sacro; Jus circa sacra, 1938. S. 234) возводит эту формулировку к создателю епископальной системы и автору первого учебника протестантского церковного права Иоахиму Штефани (Institutiones juris canonici. 2. ed. Frankfurt, 1612). Несмотря на это, Хеккель пытается доказать, что этот принцип по своей сути выдвигается не протестантским, а католическим лагерем. Для нашего рассуждения все ставящиеся задним числом вопросы о вине и ответственности не имеют никакого значения; точно так же мы не собираемся затрагивать и вопрос о вине в связи с современной формулировкой (с которой мы позднее еще столкнемся) cujus regio, ejus economia [чья область, того и экономика], в которой обнажается суть сегодняшней проблемы крупных регионов.
им внутриполитического единства, противопоставленного прочим политическим единствам, формирует замкнутую в себе территорию, обладающую твердыми внешними границами и способную неким специфическим образом вступать во внешние отношения с подобным же образом организованными территориальными порядками.
Таким образом возник пространственно замкнутый, освободившийся от проблемы сословной, церковной и конфессиональной гражданской войны, непроницаемый территориальный порядок — «государство». Оно стало носителем нового международно-правового порядка, пространственная структура которого вследствие этого стала соотноситься с государством и определяться государством. Его особенностью было то, что соответствовавшее ему международное право обладало специфическим межгосударственным характером. Лишь вследствие отграничения замкнутых в себе территорий из jus gentium происходит четко и резко отличающееся от него jus inter gentes? и именно inter gentes Europaeas,2 пусть даже эти тогдашние gentes, которых в то время представляли прежде всего государи, правящие дома, короны и земли, зачастую выступали на подмостках европейской истории, облачившись в свои все еще средневековые костюмы. Несмотря на это, пространственным ядром нового европейского порядка была эта новая величина — государство.
Jus gentium и jus inter gentes уже давно отличают друг от друга. Это совершенно очевидное и потому старое общее различение, отлично известное еще средневековым теологам и юристам и в качестве абстрактной антитезы никоим образом не представляющее собой научного открытия. И для Франсиско де Виториа в нем также не было ничего нового. Однако
1 Право, действующее между народами {лат.).
2 Право, действующее между европейскими народами
{лат.).
 в силу того что «gentes» становятся централизованными, замкнутыми и ограниченными территориальными государствами, возникает некая новая и четкая пространственная структура. Благодаря этому jus inter gentes освобождается от прежней надтерриториаль-ной связи, а именно от абсолютной привязанности к надтерриториальной церкви, от чересполосицы феодальных связей личного характера и, наконец, также и от сословных и конфессионально-партийных различий. Разумеется, период, в течение которого jus gentium освобождается от своих традиционных форм, превращаясь в jus inter gentes, занимает более столетия. Правящие «дома», такие как дом Габсбургов или дом Бурбонов, т. е. династические фамилии, прибирали к своим рукам короны, такие как богемская, венгерская и прочие, земли, права наследования и другие правовые основания для династических владений и вплоть до XVIII столетия включительно оставались подлинными носителями европейской политики, а тем самым и субъектами международного права. Большинство европейских войн представляли собой войны за то или иной наследство, а их «justa causa» были династические наследственные права. Однако все это — лишь первый план. Уже Филипп II Испанский при аннексии и присоединении Португалии (1580), сознавая свое уверенное превосходство, обошелся без каких-либо правовых оснований такого рода. Из заглавия труда Ричарда Зача «Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio»1 (Oxford, 1650) становится очевидной чисто пространственная структура международного права; ибо «gentes» означает здесь суверенные территориальные порядки.
в силу того что «gentes» становятся централизованными, замкнутыми и ограниченными территориальными государствами, возникает некая новая и четкая пространственная структура. Благодаря этому jus inter gentes освобождается от прежней надтерриториаль-ной связи, а именно от абсолютной привязанности к надтерриториальной церкви, от чересполосицы феодальных связей личного характера и, наконец, также и от сословных и конфессионально-партийных различий. Разумеется, период, в течение которого jus gentium освобождается от своих традиционных форм, превращаясь в jus inter gentes, занимает более столетия. Правящие «дома», такие как дом Габсбургов или дом Бурбонов, т. е. династические фамилии, прибирали к своим рукам короны, такие как богемская, венгерская и прочие, земли, права наследования и другие правовые основания для династических владений и вплоть до XVIII столетия включительно оставались подлинными носителями европейской политики, а тем самым и субъектами международного права. Большинство европейских войн представляли собой войны за то или иной наследство, а их «justa causa» были династические наследственные права. Однако все это — лишь первый план. Уже Филипп II Испанский при аннексии и присоединении Португалии (1580), сознавая свое уверенное превосходство, обошелся без каких-либо правовых оснований такого рода. Из заглавия труда Ричарда Зача «Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio»1 (Oxford, 1650) становится очевидной чисто пространственная структура международного права; ибо «gentes» означает здесь суверенные территориальные порядки.
Борьба за захват земли в Новом Свете и за свободную, расположенную за пределами Европы землю
1 «Изложение международного права и международного судопроизводства, или межгосударственного права и вопросов, его касающихся» {лат.).
становится теперь борьбой между такими европейскими властными образованиями, которые являются «государствами» именно в вышеуказанном специфическом смысле. Тот, кто не способен стать таким образом понимаемым «государством», сходит с арены. Трогательное зрелище представляет собой то, что первый великий захватчик земли и инаугуратор этой эпохи, Испания, а точнее корона Кастилии и Леона, во многих отношениях находится в авангарде этого уводящего от церкви и Средневековья развития, тогда как в то же самое время остается связанной с церковными правовыми основаниями своих гигантских земельных захватов.
Ъ) Оккупация и открытие как правовые основания захвата земли
Как же отвечали юристы, теоретики нового, межгосударственного права, на великий вопрос о правовых основаниях захвата земли в Новом Свете? Решающим обстоятельством здесь является следующее: они уже не отвечают на него как на общеевропейский вопрос, а принимают во внимание лишь спор между отдельными европейскими захватчиками земли. Только так, а именно исходя из их интереса ко внутр исвроткискому спору по поводу захвата неевропейской земли, можно объяснить то, что в качестве истинного правового основания они использовали взятое из римского права цивилистское понятие «occupatio» и полностью игнорировали такое подлинно европейское правовое основание, как открытие.
Правовое основание occupatio соответствует тогдашним реалиям постольку, поскольку оно предполагает, что европейская земля европейских государей и народов в международно-правовом отношении отличается от другой, «заморской» земли. Земля Нового Света свободна для оккупации. Выдвигая этот
тезис, юристы XVII—XIII веков практически предполагают, что земля Нового Света свободна для оккупации лишь европейскими государствами и, само собой разумеется, только таким образом, что и в результате колониальной оккупации колониальная земля не становится тождественной территории европейских государств-оккупантов, но по-прежнему от нее отличается вне зависимости от того, идет ли речь о торговых колониях или колониальных поселениях. Поэтому тогдашняя оккупация представляет собой нечто принципиально иное, чем то, что в конце XIX столетия стало называться эффективной оккупацией. То, что в конце XIX века стали называть «эффективностью оккупации», состоит во включении оккупированной области в правительственную и административную систему какого-либо государства, являющегося признанным членом международно-правового порядка. Иными словами: поздний тип эффективной оккупации означает упразднение специфически колониального земельного статуса и его преобразование в статус государственной территории. В XVI, XVII и XVIII веках об этом не может быть и речи. Уже тот факт, что гигантские пространства захватывали и подчиняли себе самостоятельные торговые компании, исключал такое отождествление статусов государственной территории и колониальной земли. Формой приобретения некоторых колониальных территорий становилось средневековое феодальное наделение §емлей. Следует всегда иметь в виду, что разработка occupatio как международно-правового основания приобретения земли имела сугубо практический смысл, состоявший в том, чтобы отдельное оккупирующее какую-либо территорию европейское государство могло независимо и, опираясь исключительно на себя самого, противопоставить себя своим европейским конкурентам и независимо от этих европейских конкурентов создать для себя некое исконное юридическое правомочие. Таким об-
пазом, по мере того как юридическое обсуждение проблемы концентрировалось на правовом основании «occupatio», европейское правовое сознание неизбежно должно было предавать забвению общеевропейский источник всего этого вопроса. В результате великая центральная проблема, общеевропейский захват земли неевропейских стран европейскими державами, совершенно исчезла из поля зрения европейских юристов.
На самом деле оправдание великого захвата неевропейской земли европейскими державами могло заключаться тогда лишь в открытии. Открытие, reperire,1 invenire,2 а затем decouvrir,2 прежде неизвестных, т. е. неизвестных христианским суверенам, морей, островов и твердой суши, — это единственноя истинное правовое основание, остающееся европейскому международному праву, поле того как был разрушен средневековый пространственный порядок Respublica Christiana и утратила свою убедительность какая бы то ни было теологическая аргументация. Разумеется, новое понятие открытия необходимо рассматривать в его историческом и духовном своеобразии, вместе с новыми техническими характеристиками, такими как descombrimento, decouverte, discovery.4 To, что какое-либо обнаружение некоей новой, до сих пор не известной обнаружившему ее земли, не может быть правовым основанием, соответствующим jure gentium, само собой разумеется. Многие острова и земли, которые в течение столетий и даже тысячелетий обнаруживались, а возможно, даже и посещались отважными пиратами и охотниками за китами, вследствие этого еще не могли считаться открытыми со всеми вытекающими отсюда международно-правовыми последствиями. Символи-
2 Находить, приобретать (лат.).
3 Находить, открывать (лат.).
4 Открывать (фр.).
Открытие (исп., фр., англ.).
ческое вступление во владение, выражавшееся в установке камня с гербом или подъеме флага, также не может «само по себе» быть основанием для права владения данной территорией. Но оно становится истинным правовым основанием в рамках общепризнанного международно-правового порядка, для которого такого рода символы обладают правовой символической силой. Следовательно, открытие отнюдь не является неким вневременным, всеобщим и нормативистским понятием; оно остается связанным с определенной исторической и даже духовно-исторической ситуацией, а именно с «эпохой географических открытий».
Аргументация Франсиско де Виториа показывает нам, что в том, что касается именно этого специфически исторического понятия, схоластическая философия лишена всякого смысла. Для Виториа абсолютно нет никакой разницы, кто кого обнаружил, европейцы ли индейскую землю или индейцы европейскую. Для него это — взаимные и обратимые процессы, и этой взаимностью и обратимостью он просто уничтожает всякий исторический и международно-правовой смысл понятия «открытие». Ведь смысл такого правового основания, как «открытие», заключается в ссылке на исторически более высокое положение открывающего по сравнению с открываемым, положение, которое по отношению к обитателям Америки было совершенно иным, чем по отношению к арабам, туркам и евреям, независимо от того считались ли последние hostes perpetui или нет. С точки зрения открываемого открытие как таковое никогда не является законным. Ни Колумб, ни какой-либо другой первооткрыватель никогда и никому не показывал въездной визы, выданной ему открытыми им государями. Открытия совершаются без предварительной санкции открываемых. Поэтому правовое основание открытий заключается в легитимации
на некоем более высоком уровне. Открыть может лишь тот, кто духовно и исторически достаточно развит, чтобы при помощи своего знания и сознания понять открытое. Перефразируя гегельянца Бруно Бауэра, можно сказать: открыть может лишь тот, кто лучше знает свою жертву, чем она себя самое, и в силу этого превосходства в знании и образовании способен подчинить ее себе.
Таким образом, открытие Нового Света европейскими народами в XV—XVII веках отнюдь не случайно и было не просто одним из многих удачных завоевательных походов всемирной истории. Оно не было и справедливой войной в нормативи-стском смысле, а представляло собой результат недавно вновь набравшего силу западного рационализма, делом духовного и научного образования, как оно сложилось в европейском Средневековье, а именно с помощью систем мысли, с христиан-ско-европейской энергией переработавших евро-пейско-античное и арабское знание в могущественную историческую силу. В идеях и расчетах Колумба еще было множество неправильных и легендарных представлений. Но их научный в своей основе характер очевиден. Интенсивное научное осознание открытий нашло свое документальное выражение в многочисленных космографических изображениях, с невероятной стремительностью наводнивших всю Европу. Таким образом, ошибочно полагать, что, как испанцы открыли ацтеков и инков, так и те в свою очередь могли открыть Европу. У индейцев не было той силы знания, которую питает христианско-европейский рационализм, и это не более чем смешная утопия (Uchronie) — полагать, что они могли бы создать столь же качественные картографические изображения Европы, как и европейцы, нанесшие на карту Америку. Духовное превосходство было це-
ликом и полностью на стороне европейцев и оно было настолько мощным, что Новый Свет был просто «взят», тогда как в нехристианском Старом Свете, в Азии и мусульманской Африке устанавливался лишь режим капитуляций и утверждался принцип экстерриториальности европейцев.
Великую, общеевропейскую правовую категорию открытия нельзя путать с внутриевропейским использованием отдельных открытий против европейских же конкурентов. Большинство юристов писали свои книги лишь в интересах отдельных европейских правительств и против юристов других европейских правительств и поэтому утратили возможность правильно разглядеть общее, т. е. международно-правовое основание для приобретения земли. Поэтому было большим несчастьем, что юристы вытеснили теологов из сферы практического международного права. Но тем не менее сама практика тогдашнего международного права утверждает великую, общую для всех европейцев правовую категорию открытия. Картографические архивы имели огромное значение не только для навигации, но и для международно-правовой аргументации. На самом деле именно научное картографическое изображение является истинным правовым аргументом в отношении terra incognita. Однако понятно, что такой правовой аргумент утрачивает свою очевидность по мере того, как отпадают духовные предпосылки, на которых основывается разделение земель на «известные» и «неизвестные». И тогда приходит исторический час правового основания совершенно иного рода, а именно той самой «эффективной оккупации». Поэтому это правовое основание утверждается лишь с воцарением позитивизма в XIX столетии. Но она обладает совершенно иным историческим значением, чем формулы римского права о фактическом владении вещами. К сожалению, юридическому образу мыслей
XVI—XVII веков оказалось не по плечу величие правовой категории открытия. В своем основании он оказался еще более неисторическим, чем образ мысли схоластической теологии, и беспомощно погряз в формулах чисто цивилистского вещного права.
с) Наука о праве, в частности Гуго Гроций и Пуфендорф, о захвате земли в Новом Свете
Чем же занимались специализировавшиеся на международном праве юристы той эпохи? Они поверхностно воспроизводили многочисленные формулы средневековой схоластики и юриспруденции, хотя те были порождением абсолютно другого, доглобально-го пространственного порядка и в их основании лежали либо непространственные представления, либо номос совершенно иного рода. К этим формулам они добавляли якобы чисто юридические, т. е. «цивили-стские» понятия, почерпнутые из позднесредневеко-вых глосс и научно-гуманистических толкований зачастую в высшей степени превратно понятых античных памятников. При этом они действовали не только как ученые, мыслившие в духе своей эпохи, но прежде всего как юристы, исходившие из объективных профессиональных нужд своего сословия, особый статус которого они должны были утвердить в противовес теологам. Как юристы, находившиеся на государственной службе, они должны были противопоставить церковным теологам свою собственную, государственно-юридическую аргументацию. О результате легко догадаться. Каждое европейское правительство пыталось к собственной выгоде и во вред противнику использовать во внутриевропейской борьбе ставшие неприменимыми к конкретной ситуации формулы римского гражданского права, великие философско-правовые системы возникли
 позднее, в эпоху настоящего барокко. Первоначально в центре обсуждения находилось военное право, как ядро всякого международного права, и дипломатическое право. Впрочем, каждое государство стремилось к тому, чтобы при помощи обязательных для исполнения договоров создать такое позитивное jus publicum Europaeum, которое поставило бы его в привилегированное положение, стабилизировав с помощью европейского договорного права выгодный для него status quo.
позднее, в эпоху настоящего барокко. Первоначально в центре обсуждения находилось военное право, как ядро всякого международного права, и дипломатическое право. Впрочем, каждое государство стремилось к тому, чтобы при помощи обязательных для исполнения договоров создать такое позитивное jus publicum Europaeum, которое поставило бы его в привилегированное положение, стабилизировав с помощью европейского договорного права выгодный для него status quo.
Однако именно важнейшие договоры и соглашения, прежде всего такие создававшие определенный пространственный порядок соглашения, как договоренности об установлении так называемой линии дружбы, первоначально оставались тайными. Сначала они даже не заключались письменно, а лишь оговаривались в устных тайных клаузулах. Само собой разумеется, такого рода тайна представляет собой непреодолимое ограничение для любого юридического позитивизма, идет ли при этом речь о тайных договорах или о тайных приказах. Такая ситуация отнюдь не могла способствовать умалению значения фигуры церковного теолога; как духовный отец или наставник духовных отцов, он при таких обстоятельствах даже был особым образом легитимирован и в качестве органа potestas spintualis находился в полном смысле слова в своей стихии. Государственные же юристы вообще не обращались к главному вопросу — общему, несмотря на все внутриевропейские войны, захвату неевропейской земли европейскими державами. В самой постановке международно-правовых проблем, как ее осуществляла тогдашняя юридическая наука, отсутствовал целый ряд важнейших различений, ибо начиная с Гуго Гроция и Пуфендорфа различия в статусе земли и внутри общего понятия войны перестали быть предметом юридического рассмотрения.
Такая юридическая наука о международном праве уже не могла осознавать свои собственные исторические предпосылки. Она раскололась на два противостоявших друг другу' направления. С одной стороны, ученые, представлявшие точку зрения, основывавшуюся на философии естественного права (Пуфен-дорф, Томазиус, Хр. Вольф, Кант), пытались на чисто идеальных основаниях создать независимую от каких бы то ни было государственных тайн систему мысли и в такой форме поддержать существование определенного варианта potestas spiritualis. В теоретическом отношении это вело к возникновению таких нейтрально-гуманистических величин, как «человечество» в целом и civitas maxima;1 в практическом и конкретно-государственном плане это вело к тому, что гражданское правовое государство и индивидуалистическое гражданское общество превратились во всемирный стандарт общественно-политического устройства. А с другой стороны, представители практически-позитивистского метода (Рашель, Текстор, Й. Й. Мозер, Клюбер) превратили юриста во всего лишь инструмент того государства, на службе которого он находился, и в орудие обеспечения зафиксированной в государственных договорах законности возведенного в абсолют status quo. Это дало этому направлению определенное превосходство по сравнении с философским международным правом, заключавшееся в большей близости к позитивному материалу, и возвело юриста-международника в ранг своего рода посвященного, обладавшего доступом к arcana2 внешней политики.
Известнейшие и влиятельнейшие теоретики международного права XVII столетия, Гуго Гроций и Са-муэль Пуфендорф, также занимают свое место в рамках этой историко-правовой ситуации. Они отнюдь
2 Самое обширное государство (лат.). Тайны (лат.).
не являются первооткрывателями, если мы понимаем под этим создателей основополагающих понятий нового, межгосударственного международного права, в частности нового понятия войны. Эта слава принадлежит не им, а юристам последних десятилетий ХУ1века, Бальтазару Айале и Альберико Джентили. Во всяком случае по сравнению с новой, идущей от Бодена ясностью юридических понятий манера Гро-ция в научном отношении представляет собой шаг назад или, говоря языком эвфемизмов, является «консервативной». В небольшом, но содержательном и идейно насыщенном сочинении «Suarez, Grotio, Hobbes» (Coimbra, 1941) Паулу Мереа очень верно охарактеризовал историко-правовую роль Гроция. Гроций — не первооткрыватель, но посредством своей «естественной религии» он открывает юриспруденции путь к Просвещению. Свою славу в истории права он заслужил «par droit conquete».1 Таким образом, Мереа помещает его между Суаресом и Гоббсом, т. е. между теологом-схоластиком и философом в современном смысле этого слова.
Рассматривая историю международного права, мы должны объединить в едином ряду нескольких авторов, отличавшихся специфически юридическим мышлением, прежде всего Бодена, затем Б. Айалу, А. Джентили и Р. Зача, ибо именно они разработали плодотворное для нового межгосударственного права понятие Justus hostis. Гроцию был присущ мощный пафос всеобщей справедливости, но отнюдь не уверенное понимание научно-юридической проблематики. Возможно, именно это способствовало его непреходящей популярности. С пропагандистской точки зрения у Гроция есть несомненные практические заслуги, которые мы не собираемся оспаривать. По стилю и методам Гроций и Пуфендорф весьма и весьма отличались друг от друга. Как придворный ис-
1 По праву завоевателя (фр.). 158
хориограф, Пуфендорф был отнюдь не чужд arcana; в научно-юридическом отношении он — типичный представитель философско-систематического направления. Гроций же, напротив, хотя подобно некоторым другим свои коллегам, например Ричарду Зачу, и обладал ярко выраженными деловыми качествами юриста-практика, тем не менее по сравнению с великими философами принадлежал, скорее, к практическому направлению, поскольку, отвечая на многие практические вопросы, он, хотя и прибегал к цитатам, но тем не менее не опирался на какую-либо основательно продуманную систему и четко определенные понятия.
Однако сколь бы глубокой ни казалась противоположность между философским и позитивистским направлением, основная проблема, а именно новый пространственный порядок, возникающий благодаря европейскому захвату земли в Новом Свете, остается вне поля зрения каждого из представляющих эти направления теоретиков международного права. Вследствие этого все они порождают очевидную путаницу, неизбежно возникающую в силу того, что формулы теологов, основывавшиеся на средневековом пространственном порядке Respublica Christiana, комбинируются с принимаемыми вне каких бы то ни было пространственных связей понятиями гуманистической юридической науки, восходящей к римскому праву, предметом которого была гражданская вещная собственность. Лишь во второй половине XVIII века пространственная проблема европейского равновесия становится очевидной и для юристов-теоретиков международного права. Однако они оставались в плену своих воззрений, сохраняя внутриевропеискую точку зрения, и в большинстве своем не видели, что порядок jus publicum Europaeum был уже глобальным порядком. Это отсутствие понимания проблемы глобального пространственного порядка у практиков-позитивистов гораздо более понятно, чем у философов гуманистов с их идеей единства челове-

i чества. Но и Гроций и Пуфендорф упоминают о, глобальных линиях своего времени, и прежде всего f линиях дружбы, лишь случайно и мимоходом, и меж-• дународно-правовые труды обоих этих знаменитых - юристов уже по этой причине касаются лишь второстепенных спорных вопросов, не затрагивая конкрет-< ную структуру тогдашнего европейского международ-' ного права.
i Тем не менее у каждого можно найти по крайней _ мере еще по одному фрагменту, который несомненно напомнит нам о том, что происходит что-то такое,, как процесс захвата земли. Разумеется, весь конкретный захват неевропейской земли европейскими державами, который в гигантских масштабах происходил на их собственных глазах в Вест- и Ост-Индии, они никак не связывали со своими представлениями об исконном праве собственности. Однако Гроций стал творцом и изобретателем новой чисто гражданско-правовой конструкции, прекрасно знакомой и понятной всем современным юристам-цивилистам, которые тем не менее, как правило, не догадываются о том, кто является ее автором. Именно Гроций обнаружил различие между первоначальным и произ-' водным приобретением вещной собственности. Это ! различение восходит к международному положению XVII века и на самом деле является лишь результатом стремления голландского теоретика международного права обнаружить новый номос Земли, который неизбежно должен был появиться вследствие гигантского захвата земли. Здесь наглядно проявляется указанное различие между первоначальным и производным приобретением земли. Ибо несмотря на различные договоры, заключавшиеся европейскими первооткрывателями и завоевателями с туземными царьками и вождями, ни одна европейская держава не ощущала себя правопреемницей тамошних аборигенов. Наоборот, она рассматривала осуществлявшееся ею колониальное приобретение земли как первоначальное, причем как по отношению к прежним
неевропейским владельцам, так и по отношению к своим европейским конкурентам. Если мы посмотрим на эту проблему исключительно с точки зрения истории гражданского права, то придем к выводу, чт0 различение первоначального и производного приобретения никоим образом не восходит к античности; на самом деле оно впервые появляется в соответствующей главе «Jus Belli ас Pacis»1 Гуго Гроция, а следовательно, в 1625 году.2 Таким образом, различение первоначального и производного приобретения собственности представляет собой один из наиболее примечательных примеров развития римского гражданского права, ставшего результатом отражения в сознании юридически неосознанного, но, несмотря на это, остающегося идейно эффективным международно-правового положения.
В общем и целом, без каких-либо ссылок на Америку, Гроций говорит о дележе земли, «divisio», как об имевшем место в прежние эпохи виде первоначального приобретения собственности. Под «divisio» он понимает «divisio primaeva», первый и изначальный дележ и захват земли. Тезис, в котором высказывается эта мысль, находится в начале главы и является исходным пунктом дальнейших рассуждений по поводу приобретения собственности, которые, однако, затрагивают лишь вещную собственность и целиком и полностью остаются в рамках гражданского права.3 Что касается Пуфендорфа, то ему известен та-
1 Право войны и мира {лат.).
1 De Francisci. II transferimento, 1924. S. 116; Valentin-Al. Georgescu. Acquisition de la propriety en droit romain // Etudes de philologie juridique et de droit romain. Bucarest und Paris, 1940. S- 336, 343, 390; см. также: W. Hellebrand in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Rom. Abt. 1940.
3 Grotius. De Jure belii ac pacis. Buch II. Cap. II und Cap. Ill; исходным пунктом является тезис: «Singulari jure aliquid nostrum fit acquisitione originaria aut derivativa. Originaria acquisitio olim fieri potuit etiam per divisionem [Согласно специ-
КаРл Шмитт
кой вид первоначального приобретения собственн сти, который выступает у него как «общее вступлени~ во владение нескольких лиц» и который он как сочС дание «общей собственности» отличает от возникни" вения специфической частной собственности.1 д Эт~ уже очень близко к реальному захвату земли.
К несчастью, эти проблески света тотчас гаснут ибо они моментально погружаются в обсуждение приобретения частной вещной собственности. Несомненно, нет ничего особенно трудного в том, чтобы отделить вопрос о первоначальном приобретении собственности, имеющем место в какой-либо упорядоченной и привязанной к определенной местности общности, от совершенно другого вопроса о захвате (с последующим «дележом») определенной земли той или иной общностью. То, что приобретение земли в результате ее захвата всем народом «первоначально» в несколько ином смысле, чем приобретение, осуществляемое отдельным представителем народа, любой юрист также способен понять, не прилагая к тому значительных усилий, кроме того, и Гроций, и Пу-фендорф проводят различие между jus gentium и jus civile;2 оба они подчеркивают и отличие публичного господства (imperium или jurisdictio) от частной или гражданской вещной собственности (dominium). Тем не менее ни один из них не затрагивает центральной проблемы, захвата европейцами неевропейской земли. Они выставляют jus gentium в двойном свете, возникающем из-за возведения понятий римского гражданского права в ранг всеобщих категорий естественного права. Но понятие «occupatio» они выстав-
альной правовой норме нечто становится нашим вследствие приобретения первоначального или производного. Первоначальное приобретение также могло когда-то быть результатом разделения]».
1 Pufendorf. De jure naturae et gentium. Buch IV. Cap. 6 (При
обретение в силу права первого оккупанта).
2 Гражданское право {лат.).
ляют в двойном свете дважды, располагая его как между jus gentium и jus civile, так и между приобретением imperium (или jurisdictio) над людьми и dominium, т. е. частной собственностью на вещи. Если Виториа еще видел центральную проблему — вопрос о правомерности захвата американской земли вообще как процесса jure gentium, — то эти так называемые основатели современного международного права постоянно твердят лишь о приобретении вещей в общем и целом.
Как мы уже говорили, такое основание приобретения, как оккупация, касается лишь отношений осуществляющих захват земли европейских держав друг с другом. Но первая международно-правовая проблема как раз и заключалась в вопросе о том, являются ли земли нехристианских, неевропейских народов и государей «свободными» и лишенными хозяина, находятся ли неевропейские народы на настолько более низкой ступени организации, что должны стать объектом организующей деятельности более организованных народов. Это — вопрос, который четко поставил Виториа и на который он дал недвусмысленно отрицательный ответ. Однако для юридической науки о международном праве XVII—XVIII веков этот вопрос, напротив, уже не является сколь-нибудь существенным; ее практические интересы сосредоточены на внутриевропейской борьбе отдельных государств, которая разгорелась на европейской почве, но была посвящена захвату земли в Новом Свете. Правовые аргументы португальцев и испанцев, основывавшиеся на папской раздаче поручений на ведение миссионерской деятельности, утратили свою силу. Отныне для европейских захватчиков земли, которых интересуют лишь их отношения друг с другом, единственными признанными правовыми основаниями остаются открытие и оккупация. При этом каким-то не слишком понятным образом юристы нередко рассматривают открытие как составной момент

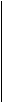 оккупации.1 Простое обнаружение каким-нибудь е ропейцем до сих пор неизвестной земли казал0В~ мыслящим в категориях гражданского права юристяСЬ слишком ненадежным поводом, чтобы признать егоМ качестве непосредственного основания для приобп/ тения этой земли. Говоря об оккупации, они думали о телесных вещах, о яблоке, доме или участке земли О свободе миссионерской деятельности и свободе пропаганды, имевших решающее значение для Вито-риа, в XVII столетии речь уже практически не заходит. У Пуфендорфа даже «liberum commercium» перестает быть правовым основанием justa causa; он «естественно-правовым» образом просто отказывается от него в пользу становящегося все более естественным государственного меркантилизма.2
оккупации.1 Простое обнаружение каким-нибудь е ропейцем до сих пор неизвестной земли казал0В~ мыслящим в категориях гражданского права юристяСЬ слишком ненадежным поводом, чтобы признать егоМ качестве непосредственного основания для приобп/ тения этой земли. Говоря об оккупации, они думали о телесных вещах, о яблоке, доме или участке земли О свободе миссионерской деятельности и свободе пропаганды, имевших решающее значение для Вито-риа, в XVII столетии речь уже практически не заходит. У Пуфендорфа даже «liberum commercium» перестает быть правовым основанием justa causa; он «естественно-правовым» образом просто отказывается от него в пользу становящегося все более естественным государственного меркантилизма.2
Тем временем кристаллизировалась именно та пространственная форма, которая оказалась в состоянии принести с собой специфически новое международное право, jus publicum Europaeum.
1 Джулиус Гёбель {Julius Goebel. The struggle for the Falkland
Islands. Yale University Press, 1927. S. 115 ff.) превозносит из
данный в 1623 г. «Tractatus de Insuiis» Иоганна Грифиандера
(Грипенкерля), в котором якобы в новых условиях воспроиз
водится римское право. Грифиандер требует «invenire» [нахо
дить, открывать] и «corporalis apprehensio» [вещественного
освоения] и полагает, что там, где нет dominium, там нет и
territorium, т. е. imperium или jurisdictio государя. В самом деле
выводы Грифиандера очевидно современнее выводов Гроция.
Но я не думаю, что он решал великую проблему европейского
захвата земли; он последовательно идет от частного права к
публичному, что во многих случаях захвата земли французами,
голландцами и англичанами соответствует действительности,
но не имеет никакого отношения к испанской конкисте, в ко
торой не было ничего частного и к которой поэтому примени
мы лишь публично-правовые критерии.
2 Pufendorf. De jure naturae et gentium. Buch IV. Cap. 5 (за
ключение).
 2015-05-10
2015-05-10 765
765








